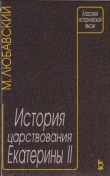Текст книги "Аттила России"
Автор книги: Эдуард Мария Эттингер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
IV
Потерпев крушение с одной из ловушек против Завадовского, Потемкин не переставал трудиться над другой. На этот раз расчеты Бауэрхана блестяще оправдались – крышка западни щелкнула, и с фаворитом было кончено.
Все произошло совершенно так, как предполагал Бауэрхан. У атташе английского посольства была устроена интимная вечеринка; в числе приглашенных были Завадовский, Безбородко и лихой сердцеед – офицер Зорич, серб по происхождению, которого с удовольствием приглашали всюду, где предстояла серьезная выпивка или залихватская картежная игра. Когда мужчины – дам в числе приглашенных не было – порядком подвыпили, Зорич и Безбородко, верные клевреты Потемкина, завели разговор о любви и возрасте. Приводили ряд исторических анекдотов о тех или иных особах, отличавшихся неутомимой юностью в деле любви. Конечно, немало было пущено тонких намеков по адресу Завадовского.
Дело кончилось совершенно так, как предсказывал Бауэрхан: Завадовский рассердился и стал доказывать, что возраст не может служить мерилом. Поддразниваемый собеседниками, он стал приводить разные интимные факты, доказывавшие справедливость его взгляда. Он не называл имени, но всем и без того было ясно, о ком он говорил. Зорич и Безбородко постарались не только запомнить его выражения, но и записали их. На другое утро (не было еще семи часов) Завадовский получил приказание немедленно выехать из дворца. Впрочем, щедрая императрица подарила своему экс-фавориту пятьдесят тысяч рублей серебром на уплату мелких долгов.
Конечно, последнее обстоятельство нисколько не свидетельствовало о том, что государыня не особенно гневалась. Наоборот, весь этот день она была взбешена, как тигрица. Ей передали только две-три фразы, сказанные Завадовским, а про остальные сообщили, что они такого свойства, что передать их невозможно. Екатерина Алексеевна знала свои слабости, знала, что и так при заграничных дворах ходят про нее самые чудовищные анекдоты, знала, что английский атташе молчать не будет, и это-то в особенности выводило ее из себя.
Надо же было случиться такому несчастью, что великий князь, совершенно не осведомленный о перевороте, происшедшем в спальне императрицы, пришел к ней с просьбой, которая во всякое другое время была бы принята и выслушана вполне милостиво. Дело в том, что великая княгиня почувствовала первое биение новой жизни; опасаясь осложнений в этом важном для каждой женщины положении, будучи напугана дошедшими до нее толками о таинственной кончине первой супруги и ребенка великого князя, Мария Федоровна хотела, чтобы сейчас же выписали с ее родины лейб-медика ее матери. Императрица с нетерпением поджидала рождения внука; она не раз говаривала Потемкину, что это помогло бы ей разделаться с сыном, так как внук явился бы выходом из положения: Павла Петровича заставили бы отказаться от своих прав в пользу сына. Поэтому во всякое другое время она с радостью выслушала бы благоприятную для нее новость.
Но теперь она не дала сыну даже рот раскрыть. Она просто накинулась на него с упреками и бранью, поэтому Павлу Петровичу так и не пришлось порадовать мать.
От матери он вышел в крайне удрученном состоянии духа. Но одна из втайне влюбленных в него фрейлин раскрыла ему причину раздражения императрицы. Она рассказывала так комично, как Завадовский торопливо собирал свои пожитки, как он спускался с лестницы, поминутно оглядываясь назад, словно боясь, что императрица налетит на него с кулаками, что великий князь не мог не засмеяться.
Прямо после неудачного посещения матери Павел Петрович прошел на половину супруги.
Великая княгиня сидела в кресле у окна и читала какую-то книгу.
– Ну, что? – спросила она, положив книгу на маленький столик. – Ее величество разрешила?
– Где там! К ней и доступа нет! – засмеялся великий князь и вкратце посвятил супругу в курс последней сенсации двора. – А ты все читаешь? – улыбнулся он.
– Да, – ответила Мария Федоровна, – меня очень заинтересовало, как можно совершенно противоположно смотреть на вещи. Вот здесь у меня письма госпожи де Севинье и «Заида» госпожи де Лафайет. В одном из писем Севинье пишет: «Можно забыть измену, но простить ее нельзя». А Лафайет уверяет: «Можно простить неверность, но забыть ее невозможно». Как тебе кажется, Павел, кто из них прав?
– Мне кажется, что в сущности обе они правы, а еще вернее, обе они мелют чушь! Забыть – простить, а простить – забыть. Это все одно и то же. Кто любит, тот прощает!
– Ты судишь по-мужски, милый Павел, а женщины думают не так. Но мне лично кажется, что мнение Лафайет дышит большей правдой и женским достоинством.
– Я тебя что-то не понимаю, Мария!
– Постараюсь пояснить свою мысль на примере. Допустим, ты окажешься неверным мне. Разделяя мнение госпожи Лафайет, я не буду никогда в состоянии забыть про твою измену, но прощу тебя, потому что люблю, а любовь – истинная любовь, разумеется, – не может не прощать. Наоборот, если следовать взгляду госпожи де Севинье, жена, узнав про измену мужа, должна отнестись к этому легко, продолжать обнимать и целовать его, должна забывать во время супружеских ласк про нанесенное ей оскорбление, но при удобном случае думать: «А, ты мне когда-то изменил, хорошо же, я тебе за это отплачу!» Вот в чем разница, милый Павел.
– Твое решение проникнуто свойственной тебе кротостью и нравственностью. Но пример грешит неправдоподобием: я не нарушал по отношению к тебе обета верности и не собираюсь нарушать его.
– Правда ли это, Павел?
– Что дает тебе повод сомневаться в этом?
– Позволь мне только спросить тебя, милый Павел, как зовут ту девушку, которую ты навещаешь почти ежедневно?
– Ее зовут, как и тебя, Марией, она – кузина поэта Державина, которого я люблю, как брата.
– Может быть, как брата своей сестры? О, признайся мне, Павел! Самая горькая истина лучше подслащенного обмана!
– Мне не в чем признаваться тебе. Вообще должен сказать тебе раз и навсегда, что это становится просто скучным. Куда ни повернись – всюду подозрения, замаскированные или открытые упреки. Что за черт! Ведь этак никакого терпения не хватит!
Великий князь раздраженно прошелся несколько раз по комнате.
Мария Федоровна отвернулась к окну, стараясь скрыть две слезинки, выступившие на ее глазах.
– Читала ли ты новую оду Державина «Бог»? – спросил ее Павел Петрович.
– Да, читала и была в восторге от глубины мысли и красоты стиха.
– Державин просит позволения посвятить ее тебе. Ты позволишь?
– О, пожалуйста! Тем более, что тебе это, вероятно, тоже будет очень приятно.
– Благодарю. Теперь у меня имеется еще просьба.
– Если в моих силах исполнить ее, то я буду очень рада.
– Вполне в твоих силах, если ты захочешь, конечно.
– А в чем дело?
– Попроси ее величество, чтобы тебе позволили взять в число твоих придворных дам Марию Девятову хотя бы для того, чтобы отплатить любезностью за посвящение тебе венца русской поэзии!
– О, Павел, Павел! – воскликнула великая княгиня, разражаясь потоком слез. – Как ты решился потребовать от меня еще и этого! Нет, нет, что хочешь, но только не это унижение!
– Так и скажи, что не хочешь, а то сейчас же водопады слез, страшные слова! «Унижение!», «Как ты можешь!» – и прочее и прочее… Все вы, женщины, дуры и больше ничего! Не хочешь – ну и пожалуйста, никто не просит!
Великий князь вышел из комнаты, с силой хлопнув дверью.
V
Несколько успокоившись к вечеру, императрица Екатерина приказала позвать Потемкина.
– Вот что, Гришенька, – сказала она ему. – Уж как ты хочешь, а придется тебе в Крым отправиться. Не сейчас, конечно; пусть туда армия стянется, пусть начнут, а там ты на фельдъегерских живо домчишься. Но кроме тебя некому!
– Что же, я готов хоть завтра, ваше величество! – ответил Потемкин, сознавая, что опасный соперник устранен. Но сейчас же ему пришло в голову, что, уехав теперь, он оставляет совершенно свободное «поле» и неизвестно, какой «цветок» может вырасти в его отсутствие. Надо было сначала создать преемника Завадовскому. Поэтому он сейчас же договорил: – Только вот как же с заговор ом-то быть?
– Я об этом много думала, Григорий Александрович, и вот что мне пришло в голову. Павел злобен, упрям, мстителен, но он слишком слабоволен, слишком неэнергичен, чтобы без чужого влияния деятельно взяться за заговор. Он может ворчать втихомолку, может держать кукиш в кармане, может изливаться потоками недоказательных слов, но дальше этого сам по себе он не пойдет. Из твоих слов я поняла, что его подталкивает Мария Девятова. Значит, если удалить ее, то великий князь будет предоставлен самому себе и своей жене, от которой, кроме хорошего, ждать нечего. Если он и будет поддерживать сношения со шведскими смутьянами, то нам это на руку: все их письма предварительно пройдут через наши руки, и мы будем знать, с какой стороны плотину конопатить. Значит, с этой стороны все будет хорошо; только бы нам от этой… ну, как ее? Бодена, что ли?.. Вот от нее как избавиться! Как ты думаешь, если бы ее переманить на нашу сторону?
– Это невозможно, ваше величество. Это дьявольский характер, ее ничем не сломишь!
– Гм… Не будь она двоюродной сестрой Державина, я не поцеремонилась бы с нею.
– А что за важная персона – Державин?
– Мне неудобно поднимать шум; за границей и так про нас болтают слишком много гадостей. А Державина знают везде – его последнюю оду перевели, почитай, на все европейские языки… Вот ты и надумай что-нибудь: как бы нам эту Бодену возможно тише и спокойнее сплавить. Куда – это вопрос неважный; чего-чего, а укромных уголков в России, слава Богу, хватит… Но как это сделать?
– Ваше величество, изволите вспомнить, на прошлой неделе на ваше царское усмотрение поступило облесимовское дело.
– Это калужского Облесимова? Ну, помню. Но какое это имеет отношение?
– А такое, что надо кого-нибудь послать разобраться – кто там у них прав, кто виноват; произвести ревизию дел, виновных покарать, невинных обелить. Хлопот много, времени немало пройдет…
– Так ты думаешь…
Государыня замолчала и улыбнулась, затем отвела Потемкина к окну и стала там тихо говорить о чем-то.
От государыни Потемкин вышел очень довольный. Вернувшись к себе, он прошел прямо в комнату Бауэрхана, разбудил его и рассказал что-то, должно быть, очень смешное, потому что доктор в тон светлейшему разразился злорадно-торжествующим хохотом.
– Ну-с, а в Крым мне все-таки ехать, Кукареку, – продолжал Потемкин. – Конечно, теперь мне это не страшно, но необходимо перед отъездом взрастить для нашего августейшего мотылька новый цветочек. Как ты думаешь, кого бы ей послать?
– По-моему, не кого иного, как Зорича. Он вам предан, его верности хватит месяца на два, пока вы будете в Крыму, и в течение этого времени он не наделает вам особенных гадостей. А к тому же – мужчина он ражий, ферлакур известный; по-моему, в самый раз окажется!
На другой день Потемкин послал Зорича во дворец с запиской. Императрица милостиво осмотрела рослого посланца, расспросила его кое о чем, а на следующий день в помещение, занимаемое перед тем бывшим флигель-адъютантом Завадовским, въехал новый флигель-адъютант Зорич.
VI
– Знаете, ваше высочество, – сказала Мария-Бодена великому князю, – нам придется расстаться!
– Расстаться? Надолго?
– Право, не знаю. Может быть, на месяц, может, на два…
– Да почему?
– Гавриила посылают на ревизию в Калугу, там между собой все перегрызлись, так он мирить их едет…
– Ну и пусть себе едет!
– Но он не хочет оставлять меня одну здесь; требует, чтобы я ехала вместе с ним!
– Этого я не позволяю! – воскликнул великий князь.
В глазах Марии сверкнул огонек, напомнивший былую Бодену.
– Что такое? Вы не поз-во-ля-ете? – протянула она. – А кто вы мне, что смеете позволять или не позволять?
– Мария!
– Разве я ваша раба, крепостная? Разве я связана с вами чем-нибудь, кроме собственной доброй воли?
– Мария, я знаю, что ты свободна; но неужели мои просьбы, мои мольбы, мои желания для тебя ничто?
– Желание и воля Гавриила для меня священнее, тем более, что вы думаете только о себе, а он – обо мне. Он находит, что я здесь не в безопасности…
– Мария, ну, подумай сама, что может тебе грозить?
– Что? А почему меня уже несколько раз подстерегали вечером какие-то таинственные личности? Почему недавно, вернувшись домой, я застала все свои бумаги перерытыми и многого, особенно ваших записочек, не досчиталась?
– Скажи лучше, что тебе надоело возиться со мной!
– Ну и надоело! Надоело быть нянькой человека, который до старости лет будет ходить на привязи… Надоело быть опорой, другом человека, который думает только о самом себе! Если бы вы хоть немного думали обо мне, вы сами сказали бы: «Поезжай, Мария!» А вы не хотите ничего знать и только, словно капризный ребенок, хмуритесь, точно вас кто-нибудь боится! Вы вот свои требования мне высказываете, ну а случись со мной что-нибудь…
– Мария, клянусь тебе, если на твоей голове тронут хоть волосок, я переверну небо и землю…
– Э, полно! Слыхали мы это! Брат говорил, что Нелидова рассказывала ему, – когда он ее по вашей просьбе в тюрьме навещал, – так вот она рассказывала, как вы выкрикивали, что не позволите тронуть ее, ну и что же? Не позволили вы взять ее? Защитили? Стыдитесь!..
– И это – все, что ты можешь сказать мне на прощание? Вместо последнего привета, вместо слова ободрения ты кидаешь мне упреки, коришь тем, что я связан моим невыносимым положением, над которым ты, бывало, сама проливала слезы гнева и сожаления? У тебя нет сердца, Мария!
– Это – старая песенка, ваше высочество!
– К сожалению, старая. Значит, ты все-таки едешь?
– Да.
– В Калугу?
– Нет, в Москву.
– Почему в Москву?
– Потому что там живет старушка-тетка, которая приютит меня на то время, пока Гавриила не будет.
– Как? Значит, ты едешь не с ним, ты только убегаешь из Петербурга? Бодена, я не пущу тебя!
– Вот именно, ваше высочество! Бодену вы не пустите: это – жалкая раба, игрушка чужих страстей. Но Мария свободна – она уедет!
– Ты издеваешься надо мной?
– А это уж как угодно будет вашему высочеству!
– Довольно! Я не могу позволить обращаться со мной таким образом! До свидания!
– Прощайте, ваше высочество!
– И ты даешь мне уйти таким образом?
– Смею ли я не пустить вас, ваше высочество, перед которым трепещут сильные мира сего!
Павел Петрович побагровел от бешенства и ушел, сильно хлопнув дверью.
«Ты не уедешь, змея! – бурчал он сквозь зубы, спускаясь с лестницы. – Но тебе надо показать свою власть, свое превосходство? Хорошо же, я выдержу характер, я заставлю тебя первой просить у меня прощения!»
А Мария после ухода великого князя с рыданиями упала перед образами.
– Боже мой, Боже мой! – молилась она. – Как я люблю этого человека! Все мое сердце истекло кровью, живого места нет в душе. Но я не могу держать себя с ним иначе. Я чувствовала, что стоит мне сказать одно только ласковое слово, и произойдет нечто непоправимое… Так в плотине достаточно бывает одной маленькой промоины, чтобы напор бушующих волн снес все до основания. Господи, подкрепи меня, научи! Не дай мне снова ввергнуться в пучину греха, не дай бушующей страсти снести плотину долга!
Помолившись и поплакав, Мария написала великому князю записку и поручила Державину доставить ее на следующее утро по адресу. В записке значилось:
«Ваше высочество! Уведомляя Вас о своем отъезде, обращаюсь с покорнейшей просьбой не разыскивать меня и ни в коем случае не писать мне, так как письма могут по дороге попасть на прочтение лишним людям. Всякое письмо, не вскрывая конверта, я буду сжигать. Вашего высочества покорнейшая слуга Мария Девятова».
На следующий день, утром, Гавриил и Мария выехали по московскому шоссе из Петербурга. Они не обратили внимания, что вслед за ними отправился другой крытый экипаж, не терявший их из вида до самой Москвы.
Когда великий князь получил записку Бодены, с ним сделался сильнейший припадок ярости. В бешенстве он разбил пару дорогих зеркал. Это несколько охладило его, и уже на следующее утро он думал о Девятовой гораздо спокойнее, чем накануне, и был очень ласков с супругой.
VII
Новый флигель-адъютант Зорич произвел на императрицу очень благоприятное впечатление. Он был молод, пылок, смел, ловок и даже немножко нагл. Это было приятной сменой после сентиментального и чересчур медлительного Завадовского; ведь в обществе «цветка» царственный «мотылек» искал отдыха от тяжелых государственных забот, забвения от массы неприятностей всякого рода, черной тучей осаждавших императрицу.
Но уже после первого проведенного с Зоричем ужина Екатерина Алексеевна мысленно решила, что в этой роли Зорич останется недолго. Он был весел, забавен, остроумен, но все эти качества, не будучи подкреплены умом и образованием, способны скоро утомить. Вдобавок же ко всему с обычной для нее проницательностью государыня сразу поняла, что этот ветреный гусар ни в коем случае не останется ей верным, а будет путаться с разными сомнительными особами – этого не могло допустить ее самолюбие. Правда, к интрижкам Потемкина Екатерина II всегда относилась снисходительно. Но то был Потемкин, человек, у которого императрица всегда могла найти разумный совет, опору. Потемкин был один – Зоричей сколько угодно.
Вскоре после того, как Потемкин выехал в южную армию, между императрицей Екатериной и Зоричем произошел следующий разговор:
– Как ты провел прошлую ночь, дружок? У тебя что-то очень утомлённый вид, – спросила государыня.
– Я был у себя; меня мучили разные думы, и потому я не мог заснуть…
– Значит, ты был один?
– Совершенно один, ваше величество.
– Ты уже начинаешь – впрочем, что говорю «начинаешь» – ты продолжаешь лгать мне, Зорич!
– Ваше величество, осмелюсь ли я…
– Полно, братец, чего ты только не осмелишься!
Не желая ставить тебя в унизительное положение человека, решившегося лгать вопреки очевидности, я сама расскажу тебе, как ты провел прошлую ночь. В первом часу ночи к тебе прошла женщина. Ага, краснеешь? Скажу больше: это была турчанка Пемба…
– Ваше величество, да разве Пемба – женщина?
– Она молода и очень красива, а развращенность, которой она отличается, лишний раз доказывает, что она – даже очень женщина!
– Да для меня-то она только гадалка! Думы, о которых я уже докладывал вам, ваше величество, заключались в тревоге за будущее. Вот я и позвал Пембу, чтобы она погадала мне.
– Ну, и что же она напророчила тебе?
– Многое, чего я даже не понял. Между прочим – что дама, отличившая меня и составившая мое счастье, вскоре лишит меня своего благоволения, так что я упаду еще ниже, чем был прежде…
– Гм… Пемба не совсем права. Впрочем, это сейчас будет видно; может быть, она окажется и очень хорошей пророчицей! Смотри мне прямо в глаза, Зорич, и отвечай: ты любишь свою гадалку?
– О нет, ваше величество! Разве таких любят! Это хорошенькая кукла, с которой можно позабавиться, пока она не испугает своей дикой развращенностью…
– Это сказано откровенно, Зорич, а за откровенность я многое прощаю. Пойми: ты обманываешь с Пембой женщину, но лжешь – своей государыне. Ну, так вот: Пемба не совсем права. Женщина отталкивает от себя изменника, но государыня не желает, чтобы способный офицер страдал из-за женской ревности. Поэтому завтра ты отправишься в действующую армию в качестве адъютанта князя Потемкина. Теперь от тебя будет зависеть, чтобы храбростью и отвагой выдвинуться вперед, а не упасть вниз, как предсказала тебе твоя Пемба.
На следующий день Зорич понесся в Крым. Потемкин был очень удивлен приездом Зорича и с тревогой спросил, кто заменил его при особе государыни. Но Зорич не знал этого. Желая как можно скорее очутиться в Петербурге, Потемкин отбросил привычную лень и халатность, и в столицу одна за другой понеслись блестящие реляции об успехах русского оружия, которые были не очень преувеличены и приукрашены вымыслом. Действительно, подгоняемый своими опасениями, Потемкин развернулся во всю ширь и показал, на что он способен, когда отбрасывает свою лень. В самом непродолжительном времени, почти не понеся никакого урона, больше действуя дипломатически, чем оружием, светлейший присоединил к России Крым и Кубань, а последний крымский хан – Шагин-Гирей – был сослан на жительство в Воронеж.
Как только позволили обстоятельства, Потемкин и Зорич понеслись обратно в Петербург.
VIII
В то время как Державин, оставив Марию в Москве у старухи-тетки, рылся в Калуге в канцелярской пыли, ревизуя дела и разбираясь во взаимопретензиях божков местного Олимпа; в то время как Потемкин победоносно двигался вперед, а Зорич писал реляцию за реляцией; в то время как великий князь становился все более и более примерным мужем, – царственный «мотылек» порхал и вился вокруг нового «цветка», присматриваясь к нему.
Этим «цветком» был майор гвардии Корсаков.
Майор Корсаков был одной из популярнейших личностей в Петербурге. Он слыл за опасного донжуана, на совести которого лежало довольно много Эльвир. Он принадлежал к категории тех людей, которых во Франции зовут «aimables vauriens» и «profonds scelerats»[16]16
«Любезные негодяи» и «глубокие злодеи» (франц.)
[Закрыть]. Мужчины этого пошиба опаснее всего. Недаром же Брюсочка, глубокая специалистка в этом вопросе, не раз говаривала Екатерине:
– Ваше императорское величество, les mauvais sujes sont les grands hommes en amour[17]17
Негодяи обыкновенно великие люди в любви (франц).
[Закрыть]!..
«Негодяем» этого рода был и майор Корсаков, про которого, подобно Юлию Цезарю, говорили, что он – муж всех жен и жена всех мужей… По отношению к женщинам он держался самой верной тактики – неизменно бывал груб, надменен, презрителен и никогда не показывал даме своего сердца, что она нравится ему. Кроме того, он никогда не довольствовался любовью одной женщины, а неизменно поддерживал отношения с двумя сразу, для того, чтобы быть гарантированным на случай измены со стороны одной. Впрочем две дамы – это было только минимальное, но никак не предельное число его единовременных жертв.
Словом, с точки зрения мещанской морали, Корсаков представлял собой негодяя чистейшей воды. Но большинство женщин так уж устроено, что негодяй скорее и легче побеждает их сердце, чем добродетельный юноша. Любительницы «прекрасных Иосифов» всегда будут в меньшинстве, а императрица Екатерина была не из их числа.
Однажды, ожидая Панина с докладом, государыня рассеянно смотрела в окно и увидела Корсакова, снимавшего посты. Она вспомнила все, что говорили в городе об этом пожирателе сердец, полюбовалась его статной, могучей фигурой и решила в самом непродолжительном будущем позвать его к себе, чтобы поговорить с ним и на деле увидеть, действительно ли он так умен и находчив, как говорят про него.
Возможно, что государыня не стала бы откладывать в долгий ящик свое намерение, но тут вошел Панин, и надо было заняться государственными делами.
Выслушав общий обзор положения дел в Европе, Екатерина Алексеевна спросила:
– Ну а какие новости при венском дворе?
– Там все или почти все по-прежнему. Император Иосиф Второй по-прежнему пользуется огромной популярностью и любовью. По-прежнему главные бразды правления держит в руках князь Кауниц. Впрочем, одной ли Австрии? Льстивые поэты называют Кауница колесницей Европы, указующей путь державам…
– Но обыкновенно колесницей кто-нибудь правит?
– О, да, ваше величество, в особенности такой дряхлой, как князь Кауниц-Ритберг! Вероятно, вам, ваше величество, известно, что Кауниц от души ненавидит иезуитов и попов. В отместку за это в Риме ему дали прозвище «ministro erotico» – эротический министр. Действительно, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, князь Кауниц разошелся со своей старой пассией и всей страстью недряхлеющей души привязался к молоденькой балерине. Это – очень тонкая штучка. Она вьюном вертится около князя, выражает ему неизменную покорность, а на самом деле вертит им как хочет. Наш посланник, князь Голицын, счел нужным преподнести маленькой волшебнице несколько ценных собольих шкур и дорогую малахитовую вазу.
– А как зовут ту, которая держит вожжи от «колесницы Европы»?
– Ее зовут Анной Бальдоф; она дочь какого-то канцелярского курьера. В Вене пользуется большой популярностью – ее все зовут schon Nannerl – красотка Анюточка! Говорят, что она уже обладает недурным состоянием…
– Да, принцессы полотняных дворцов и королевы кулис делают зачастую более счастливую карьеру, чем многие принцессы крови. Взять хоть бы эту самую Бальдоф, синьору Габриелли…
– Имя последней напомнило мне о депеше нашего посланника при лондонском дворе. Мусин-Пушкин сообщает: синьора Габриелли, которую весь двор носит положительно на руках, неоднократно приставала к королю Георгу с просьбой пожаловать орден Подвязки одному из ее русских друзей…
– А! Я догадываюсь, кому…
– Этот русский друг обещал своей приятельнице ценный подарок в сто тысяч рублей серебром, если она выхлопочет ему желанный орден, по крайней мере, как говорит Мусин-Пушкин, синьора с очаровательной непосредственностью сказала королю при третьих лицах: «Вам, ваше величество, это ровно ничего не стоит, а мне принесет сто тысяч!»
– И что же, это удалось ей?
– Пока нет. Его величество король Георг ответил диве, что предпочтет возместить ей теряемую сумму, но только не совершать поступка, унизительного для достоинства английской короны.
– Я просто готова собственноручно побить князя Потемкина! Ну как нарываться на подобный афронт? Ведь должен же он знать английский взгляд на вещи! Да и вообще какое безумие! Ведь умный, кажется, человек, а готов сделать такую глупость, как обещать сто тысяч за орден!
– Ваше величество, обещать – это далеко не так глупо, а поскольку мы знаем повадки светлейшего, он редко исполняет обещания… денежного характера в особенности!
– Положим, ты прав. Еще не так давно мне лично пришлось вступиться за Фази. Этот несчастный швейцарец, человек очень небогатый, изготовил для князя часы за тысячу четыреста рублей и никак не мог получить эти деньги. Понадобилось мое вмешательство, чтобы князь заплатил.
– А вам, ваше величество, известно, как именно был выплачен долг Фази?
– Нет. А разве и тут Потемкин что-нибудь выкинул?
– Еще бы! Князь был взбешен, что ему приходится платить, но ослушаться вашего приказания побоялся.
Так он приказал выплатить Фази долг медными деньгами! Фази ввели в две комнаты, сплошь усыпанные медью, и первым долгом приказали сосчитать. Фази и руками и ногами – не тут-то было: или пусть сочтет, или его прогонят, а то он потом будет говорить, что его обсчитали. Фази считал четыре часа подряд. Потемкин присутствовал тут же, а когда уходил, то оставлял вместо себя своего врача и наперсника. Кончил Фази считать – трех копеек не хватает. Он хотел было сказать, что верно. Не тут-то было! Потемкин заявляет, что по его счету здесь недостает двух копеек, и приказывает опять считать. Еще четыре часа считал Фази – действительно трех копеек не хватает. Князь торжественно приказал поднести швейцарцу на серебряном блюде три копейки. Но злоключения несчастного на этом не кончились. Как ему нести деньги? Мешков не дают, позвать рабочих не позволяют. Стал Фази носить по пригоршне на крыльцо. Стащил пригоршень десять, несет одиннадцатую – хвать, а кучка-то пропала! Тут уж старичок не выдержал. Упал на ступеньки, да и заплакал. Вернули ему припрятанные деньги, вынесли на носилках все медяки из комнат, да и свалили прямо на двор. Швейцарцу пришлось нанимать подводу, чтобы перевезти деньги к себе. Вообще было ему потом!
Императрица и смеялась, и сердилась.
– Вот всегда-то он таков! – сказала она. – Ну, да ладно, я с ним еще посчитаюсь, сама с ним что-нибудь такое сделаю. Вот явится победителем – прикажу отлить медаль в пять пудов, да и носи на шее! Однако вернемся к делу. Вы, кажется, сказали мне, что эта Анна Бальдоф – балерина?
– Да, ваше величество.
– В таком случае надо во что бы то ни стало добиться, чтобы эта крошка приняла приглашение на гастроли в Петербург. Она потанцует, мы ее побалуем. Если Бальдоф будет на нашей стороне, то и Кауниц – тоже. А при теперешнем положении турецких дел нам очень нужна Австрия… Божок Амур – лучший друг искусного дипломата, это нельзя забывать! – улыбнулась императрица, милостиво отпуская от себя Панина.