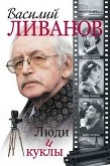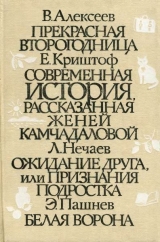
Текст книги "Белая ворона"
Автор книги: Эдуард Пашнев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
– Не сбежали, просто ушли, заявили, что я не так преподаю…
– Девятый «Великолепный», вы говорите? А что же тут великолепного? – спросил директор, дружелюбно улыбаясь и глядя на Нину Алексеевну веселым с крапинкой зрачком.
– Мы так привыкли «Ашники», «Бэшники», девятый «В» – «Великолепный». Представляете, какая наглость?
Андрей Николаевич был человек новый в школе, для многих непонятный. Защитив кандидатскую диссертацию, он неожиданно для всех перешел работать в школу. Решение его казалось легкомысленным, отвечающим общему впечатлению от его внешности и характера. Он, улыбаясь, говорил: «Новая работа ближе к дому, ближе к жизни». Иногда добавлял: «Где у нас сейчас идет перестройка, революция? В школе. А я историк». Если очень досаждали, становился совершенно серьезным, говорил о роли школы в обществе. Если спрашивали, собирается ли писать докторскую, снова отшучивался и, возвращаясь к мысли «революция – в школе», приводил слова Ленина, написавшего в конце неоконченной книги «Государство и революция»: «Приятнее и полезнее опыт революции проделывать, чем о нем писать».
– Мы должны принять какие-нибудь карательные меры? – спросил директор.
– Я думаю, педсовет с родителями, – ответила завуч. – Что это такое? Совсем распустились.
– Хорошо, – сказал Андрей Николаевич, наклоняясь, чтобы взять магнитофон. – Хорошо.
У Анны Федоровны в этот день были еще два урока в параллельных 9 «А» и 9 «Б». Она провела их собранно, поразив ребят в 9 «Б» вступительным словом о Великой Русской Литературе. Она говорила минут двадцать сначала с ноткой равнодушия, какой-то безнадежности, как бы для себя, а не для класса. А потом крикнула, обернувшись на шум, с болью:
– Ну, что же вы не слышите никого – ни Чехова, ни Толстого… Вы же наследники Великой Литературы. Вы всегда найдете в ней опору для своих сомнений и страданий… Если, конечно, будете способны сомневаться и страдать.
Надо было им сказать еще что-то. Она видела: не доходят ее слова. Только удивление в глазах: «Чего расстрадалась?» Но уже подступала головная боль и бессмысленными казались сквозь эту боль слова: «Великая Русская Литература! Великая Русская Литература!» Общие слова – великая или какая, если не прочитаны книги, если прочитан только учебник для того, чтобы, заикаясь и спотыкаясь, разобрать у доски образы. И получаются из образов образины. Как же объяснить? И можно ли объяснить?
Лев Толстой сказал, что искусство есть способность одного человека заражать своими чувствами другого. «Что же тут объяснять?» Она помнила слова Толстого неточно, но последняя фраза врезалась в сознание дословно: «Что же тут объяснять?» А она стоит и объясняет: великая, великая. «Великая дура!»
Снег летел в лицо мокрый, густой, подкрашенный красным светом светофора. Подойдя к перекрестку, Анна Федоровна загородилась от снега и красного светофора варежкой. Головная боль была совершенно невыносимой, и сквозь эту боль невыносимы были мысли о том, что она плохая учительница, которая не знает, как преподавать литературу, чтобы от этого была польза. Разве она не потеряла здоровье, разбиваясь перед ними в лепешку? Разве считалась со временем, особенно когда была помоложе? На экскурсию так на экскурсию. Сидеть летом в кабинете, консультировать тех, у кого переэкзаменовка, – пожалуйста. В колхоз ездила и за себя и за других. Старалась, воспитывала молодое поколение, способное чувствовать прекрасное. Великую Русскую Литературу. А воспитала сорную траву, васильки. Алена Давыдова – василек! Куманин – пырей, бузина, волчья ягода, а эта – василек. Голубеет, в вазу поставить хочется. А залюбуешься таким васильком и останешься без хлеба, без сочувствия в старости. «Ох, васильки, васильки, сколько вас выросло в поле? В школе?»
Подойдя к дому, Анна Федоровна совершенно точно знала, что ее столкновение с классом – это столкновение с поколением эгоистов, жестоких и умненьких, в лучшем случае – вежливых, которые в отличие от ее поколения, прошедшего в детстве через войну и голод, не чувствуют чужой боли.
В подъезде жалась к батарее тощая кошка. Анна Федоровна видела ее здесь и раньше. Но сейчас она подумала с обидой за все живое: «Такие не подберут, не приютят животное». Она присела у батареи, погладила кошку. «Такие мучают животных, отрезают у голубей лапки и выпускают в небо, чтобы летали, пока не умрут». Об этом случае недавно писали в газете.
Анна Федоровна взяла на руки осторожно ласкающуюся кошку, прижала к себе, сначала к пальто, а затем, расстегнув пальто, к свитеру. И после этого уже невозможно было опустить ее на холодный плиточный пол подъезда. Анна Федоровна поднялась к себе на третий этаж, не выпуская кошки, открыла дверь ключом и некоторое время стояла в прихожей, растроганная своей собственной нежностью ко всему живому на земле. Кошка слегка царапалась. Анна Федоровна просунула руку под пальто, погладила кошку уже как свою. «Если с лишаями, пусть. Зеленкой помажу». Кошка цеплялась когтями за свитер, быстро-быстро мурлыкала, торопясь насладиться человеческим теплом. Анна Федоровна стояла, боясь опустить ее на пол, чтобы кошка не подумала, что ее хотят выбросить.
Глава третья
У окна стоял однотумбовый письменный столик, над ним на стене висел матерчатый календарик, куколка на ниточке. Просыпаясь, Алена видела куколку, цветок на подоконнике, трещину на потолке. Все это были милые сердцу трещины, куколка, цветок. Хотелось закрыть глаза и умереть от счастья. Но сегодня Алена проснулась с тяжестью в сердце. Она плакала во сне. И во сне ей сделалось так тяжело, что не вздохнуть. От этого Алена и проснулась.
Она стала вспоминать, что ей приснилось, и вспомнила, что неприятное ей не приснилось, а было на самом деле. «Зачем Маржалета сказала про мои стихи? Получается – я из-за стихов? А стихи так, упражнения: розы-морозы-паровозы. Бывают же талантливые люди, как они пишут: «Я помню чудное мгновенье…» А я пишу какие-то хохмы: «Бом-бом, начинается альбом». Только я не из-за стихов. Стихи ни при чем. Точно ни при чем?» И чтобы ответить себе, стала перебирать в памяти случаи, связанные с Рыбой.
Один раз в овощном подвальчике тетрадки с сочинениями на вольную тему забыла. Капусту положила, а тетрадки оставила. Спасибо, продавщица попалась хорошая, принесла… А ходит, мамочки мои, в каком-то полупальто, полукуртке с драным воротником. И пыжиковой шапке, которая делает ее голову в два раза длиннее. Не голова, а кумпол… Из-за одной шапки и драного воротника нужно протестовать и убегать с уроков. «В человеке все должно быть прекрасно: и одежда, и душа, и мысли».
Алена повернулась со спины на живот и уткнулась головой в подушку. Вошла мама.
– Алешка, чего лежишь?
– Мам, можно я не пойду сегодня в школу?
– Да? И что ты будешь делать?
– Буду лежать и думать.
– Вставай быстро, мне некогда!
– Почему быстро? Что такое быстро? Ты знаешь, скажи!.. Имею я право хоть раз в жизни спокойно подумать?
– Да о чем думать, сокровище ты мое?
– О жизни. Что… нельзя?
– По дороге в школу будешь думать. Только под машину не попади. А сейчас вставай, убирай постель, – сказала мама, стаскивая Алену с кровати.
– Пусти! Ну пусти! Что ты! – возмутилась дочь. – Это ваше насилие тоже не очень прекрасное.
Алена стояла на коврике в длинной ночной рубашке, босиком. Убирать постель она не собиралась и в школу идти не собиралась. Минут пять Алена стояла на одном месте, обиженная, пока мама не загремела на кухне посудой.
За столом Алена не разговаривала с мамой, не отвечала на ее вопросы. Верочка Семеновна разрезала булочку за три копейки на две равные половинки, хотела сделать дочери бутерброд с маслом. Но Алена демонстративно взяла вторую половинку булочки, пододвинула к себе масленку, принялась намазывать сама. Мама сидела напротив. Она смотрела на дочь с улыбкой. Алена старалась все делать медленно, показывая, что никуда не торопится. Затем с преувеличенным изяществом взяла бутерброд двумя пальчиками, понесла ко рту, но зацепила локтем за угол стола, ткнула себя в щеку бутербродом и уронила его на пол. Щека оказалась в масле, и бутерброд упал маслом вниз.
– Ну, что, милая, довоображалась? – сказала мама.
– И ты, Брут и Брот, – проговорила Алена, поднимая булку, и вдруг прямо из ее улыбающихся глаз покатились крупные слезы.
– Ты что, Алешка?
– Почему ты во мне человека не видишь?
– Я не вижу? Да ты у меня самый главный человек.
Потягиваясь, появился отец. Обычно он уходил на работу раньше жены и дочери, в шесть часов уже выезжал из гаража. Но сегодня Юрий Степанович взял отгул и был по этому случаю настроен игриво. Он разводил руками, потягиваясь, улыбался.
– Что у вас тут происходит?
– Да вот барышня не хочет идти в школу.
– Правильно, чего там делать? – сказал отец. – Мы пойдем с ней сегодня в кино. – Он присел рядом с Аленой на свободный табурет и обнял дочь за плечи: – Хороший ты у меня парень, Алешка.
– Ну что в самом деле? – сказала Алена, вырываясь. – Я не парень.
Она выбежала из кухни. Юрий Степанович вопросительно посмотрел на жену.
– Соображай, – сказала она. – Взрослая уже. Приперся в майке, в трусах.
– А как? – растерянно развел руками муж.
– А так… Юрий Степаныч, снимай штаны на ночь, а как день, опять надень.
– Ну, ты даешь, – сказал муж с нотками смущения в голосе.
На первый урок Алена опоздала. Она бежала по коридору, торопливо придумывая, что сказать учителю черчения. Но дверь класса вдруг отворилась, и в коридор вышла учительница географии. Алена успела увидеть из-за спины ближнюю к двери часть доски, учителя черчения в темном пиджаке, испачканном мелом, и Юрку Лютикова с большим треугольником в руках.
Алена со всего бега остановилась, не переводя дыхания сказала:
– Здрасте, Марь Яна!
– Здравствуй, – очень отчетливо сказала учительница и прошла мимо.
В первое мгновение Алена подумала, что классная ее не узнала.
– Марь Яна!
– Иди в класс. На уроке литературы поговорим. Не подходи ко мне! Не подходи ближе!
– Почему нельзя ближе?
– Дистанцию будем держать. Я – учительница, ты – ученица, понятно?
Марь Яна двинулась по коридору животом вперед, обтянутым пушистой кофтой. Она была крепкая, толстая. За три года (Марь Яна работала в этой школе недавно) ребята сдружились с классной, особенно Алена. Она привязалась к простой, энергичной, справедливой учительнице, бегала на угол встречать ее, отбирала и сама несла портфель. И, не зная, как еще выразить свое отношение, говорила: «Марь Яна, вы знаете, кто вы для нас? Вы для нас… Вы для нас… – И, не находя нужного слова, заканчивала шуткой: – Вы для нас… Юрий Сенкевич!»

В первое время Марь Яну поражала и обезоруживала веселая беззащитность и открытость Алены. Отвечая у доски, она могла так обрадоваться звонку, что обо всем забывала – где она, что она…
«Что там добывается, Давыдова?»
«Там… добывается каменный уголь».
«Какой?»
«Бурый, кажется… Бурый, да?»
«Еще что?»
«Там добывают каменный уголь, бурый, железную руду… Лаб-даб-ду! Лабы-дабы-ду!»
Указка описывала веселую дугу, и ноги сами начинали пританцовывать.
«Давыдова, что за ответ?»
«Звонок, Марь Яна!»
«Звонок для учителя, а не для ученика. Ну что мне с тобой делать? Рассердиться, наконец, влепить двойку по поведению?»
«На Давыдову нельзя сердиться, она несерьезная. Честно!»
Нельзя и не хотелось, а надо было. Марь Яна слышала за собой шаги и знала, что Алена идет за ней и ждет, чтобы классная обернулась.
– Что ты за мной идешь?
– Вы считаете, правду говорить не надо?
– На уроке литературы поговорим. Там и объяснишь свое поведение. Ты школьница, а не Жанна д’Арк, чтобы водить за собой полки.
– Я Жанна д’Арк, – серьезно сказала Алена. – Я хочу водить за собой полки. Жанна д’Арк – положительный пример. Я хочу быть такой, как Жанна д’Арк. Почему вам это не нравится?
– Иди в класс, Давыдова.
– На костер, да?
Марь Яна скрылась за дверями учительской. Алена постояла и пошла назад. Она поняла, что перед началом урока в классе произошел разговор о вчерашнем. Значит, придется отвечать. Пожалуйста, она готова на костер. Рыба – плохая училка. Об этом все знают. Валера Куманин сказал правду.
Конечно, было бы лучше, если бы эту правду сказал кто-нибудь другой, Жуков, например. Тогда было бы хорошо пострадать и за Сережку и за правду. А так – только за правду.
Алена думала вчера и сегодня. Почему так: в школе учат говорить правду, дома учат… Мама и папа без правды жить не могут. У мамы на работе главный инженер – дуб. Мама давно ждет, когда ему кто-нибудь об этом скажет. А сама не говорит. А у отца в гараже есть какой-то завскладом, даже не начальник, а так – Нечто. Этот Нечто сбывает на сторону запчасти, и никто ничего ему не говорит, все только улыбаются. Все почему-то ждут, чтобы кто-нибудь другой начал говорить правду, а сами молчат.
Алена не жалела, что так поступила. Пусть обсуждают, пусть судят, даже исключают из школы. Жанну д’Арк на костре сожгли. Зато она Францию спасла.
Стоя у окна в коридоре и глядя на заснеженный двор, Алена вообразила себя верхом на лошади, в тяжелых латах, с тяжелым мечом в руках. Вот она въезжает в гараж к отцу, золотые волосы рассыпаются по плечам. Алена скачет прямо к завскладом, товарищу Нечто. А у того уже руки трясутся: «Вам карбюратор? Вам масляную прокладку? Может, Жанна Дарковна, вам масляный насос нужен? Совсем новенький, в упаковочке». «Ты предатель интересов рабочего класса», – говорит ему Алена и заносит над его головой меч.
На перемене Алена вошла в класс. Ее окружили, стали рассказывать, что сказала Марь Яна. Одна Раиса Русакова держалась отчужденно. Она стояла около учительского стола и ждала, когда все успокоятся. Потом принялась стучать линейкой.
– Куманин, сядешь как следует?
По отношению к Валере она усвоила манеру учителей. Обычно это его забавляло, но сейчас он разозлился.
– Ну, чего тебе, Ру-са-ко-ва?
– Сядь как следует.
– А как?
– Молча!
– А зачем молча?
– За огурцами. – Она постучала еще раз линейкой. – Товарищи! Комсомольцы! Я считаю и Марь Яна считает… мы должны извиниться. Девятый класс – не время для психологических экспериментов.
– А можно я так буду сидеть, когда вы будете извиняться? – сказал Валера и повернулся спиной. – Как будто меня нету. Я ушел.
Кто-то гыгыкнул. Это прибавило Валере энтузиазма. Он мелко захихикал. Он никогда не смеялся, а именно хихикал. В начале учебного года группа социологов под условным названием «14–17» проводила анкетирование…
«Какую работу выполняешь по дому?»
Валера ответил:
«Хожу в магазин за водкой».
«Кем хочешь стать после окончания школы?»
«Хочу судить людей, которые воруют, а со мной не делятся. На юридический буду поступать. Хи-хи!»
Анкета безымянная, можно похихикать и спрятаться в толпе за другими анкетами. Он и сейчас старался сделать так, чтобы все смеялись и его смешок потонул бы в общей «ржачке».
– Да, Светка, – повернулся он к своей соседке по парте, – тебе жэ… нужна?
Тихая девочка испуганно вскинула ресницы. Многие в классе хотели иметь сумку-пакет с изображением во всю ширину пакета синего джинсового зада фирмы «Рэнглер». Валера кое-кому такие пакеты достал, не бесплатно, конечно. Он смотрел на Светку Пономареву серьезно, даже чуточку озабоченно. Она поморгала ресницами, сказала тихо:
– Нужна.
– Нету, – ответил Валера и захихикал.
– Дурак!
Возмутиться сразу не хватало уверенности в себе. И потом, что же возмущаться: на пакете, который она хотела иметь, действительно изображено то самое, о чем спросил Валера. Нежные щепетильные девочки вместе с вещичками покупали у него и барахольные слова. Им было стыдно их слушать, но они делали вид, что им не стыдно, и слушали. Но Валера-то знал, что им стыдно, поэтому и говорил, и наслаждался, наблюдая, как они краснеют.
Раиса Русакова ударила по столу кулаком.
– Куманин, ответишь на бюро за срыв собрания.
Валера театрально развел руками. Впереди него сидели две подружки, две Люды: Попова и Стрижева. Он называл их «По́пова и Стрижо́пова».
– Чего ты ко мне привязалась? Попова и Стрижопова разговаривают.
Люда Попова обернулась и трахнула Валеру книжкой по голове. Он воспринял это как награду, захихикал, обнажив все зубы. Это был его день, его час.
Раиса Русакова стояла, беспомощно опустив руки, ждала, когда придет кто-нибудь из учителей – Рыба или Марь Яна. Алена решила ей помочь. Она выбежала к доске и быстро написала, стуча мелом:
«Сидел у моря Гомер и сочинял стихи. Потом поме́р, а мы живем. Хи-хи!»
Но ее ироническая эпиграмма произвела противоположное действие. Ребята решили, что она тоже хихикает, и обычное в таких случаях бессмысленное веселье сделалось всеобщим. Топоча ногами и стуча руками, книжками по партам, мальчишки и девчонки поворачивались затылками к дверям. Прозвенел звонок. И Валера почувствовал, что наступил момент для грандиозного «хи-хи!».
– «Мы пук! Мы пук!» – запел он.
Песню подхватили. Это была настолько глупая детсадовская песенка, что петь ее можно было только так – повернувшись к глухой стене, не видя лиц Марь Яны и Анны Федоровны, которые должны были вот-вот войти в класс…
– «Мы пук, мы пук, мы пук цветов нарвали…»
Открылась дверь, и вошла Марь Яна. Ребята стыдливо замолчали.
– «Мы пук! Мы пук!» – начал Валера снова. Его не поддержали.
– Зря стараешься, пук, – сказала Марь Яна. – Зря стараетесь. Заболела Анна Федоровна. Не будет урока.
Она больше ничего не сказала, закрыла дверь, и в тишине коридора прозвучали ее удаляющиеся шаги.
– А нам чего? Сидеть или уходить? Во!
Валера подбежал к двери, выглянул, затем плотно притворил дверь, крикнул:
– Ну и что? Она нарочно заболела.
– Выгнала всех из класса и заболела, чтоб не отвечать, – сказала Маржалета и уверенно добавила: – Ей за это обязательно будет.
– А почему Марь Яна так? Собрание бы провела, все равно пусто-о-ой урок! – проговорила певучим голосом круглоликая девочка с косой Нинка Лагутина.
– А может, ее уже уволили? А-а-а? – спросил Мишка Зуев и обвел всех раскрытым ртом.
– Если написать в газету, уволят в два счета, – со знанием дела заметила Маржалета.
Отец ее был крупный строитель, мать – вечная председательница родительского комитета. Маржалета знала про школу все.
– В газету! Надо в газету!
– В «Алый парус»!
– Что мы, деточки? Князевой написать. Я читал Князеву. Кто читал Князеву? Она всегда против училок выступает.
Валера выдрал из своей тетради лист, положил перед Светкой Пономаревой.
– У тебя хороший почерк, пиши… Тиха-а-а! – крикнул он. – Письмо в газету! – И продиктовал первую фразу: – «Уважаемая редакция…» Смирнов, помогай сочинять.
– Не могу. У меня полный маразмей, то есть маразмай, маразмуй. – Смирнов засмеялся, вокруг захохотали. Светка Пономарева написала первую фразу и сидела, ждала…
Валера продиктовал:
– «Обращаются к тебе ученики 9 «В» класса, комсомольцы… Это письмо мы пишем, – с неожиданным вдохновением произнес он, – в Ленинской комнате!»
– Где Ленинская комната?
– Мы можем писать в Ленинской комнате. Так надо!
– Зачем?
– Валера, ты гений!
– Не надо! – крикнула Алена. – А если заболела?
– Какое-нибудь ОРЗ, подумаешь.
– Не надо! Лежачего, больного не бьют!
– В Ленинскую комнату! – крикнул Валера.
Алена вскочила на скамью своей парты, размахивая сумкой-пакетом, заявила:
– Я подписывать не буду!
– Во! Подписывать надо? – сказал Мишка Зуев. – Извините, я пошел.
Он сделал вид, что уходит. За ним двинулся шутовской походочкой его дружок Игорь Смирнов.
– Извините, у нас дела.
Алена спрыгнула на пол.
– Домой!
– А чего – уроков больше не будет? А чего мы тут? Делать, что ли, нечего? – сказал Толя Кузнецов и решительно зашагал за Аленой.
Алена, Раиса Русакова, Толя Кузнецов, Игорь Смирнов и Мишка Зуев, Люда Попова и Люда Стрижева высыпали в коридор. Письмо осталось недописанным. «Я точно Жанна д’Арк, полки вожу», – подумала Алена. Она оглянулась, ребята плотной толпой двигались по коридору. Сережка Жуков и Лялька Киселева шли последними. Они показались Алене очень взрослыми, снисходительно поглядывали на все происходящее издалека, будто знали про жизнь что-то такое, чего другие еще не знали. Неужели?..
И чтобы заглушить неожиданные мысли, Алена взмахнула сумкой-пакетом, побежала по коридору, затем по ступеням лестницы, выкрикивая фразу из школьного учебника:
– «Монета, падала, звеня и подпрыгивая!»
За ней затопали, подхватили на лестнице и в коридоре:
– «Монета падала, звеня и подпрыгивая!»
В коридоре начали открываться двери классов. Высунул свою лохматую голову, сверкнул очками вслед убегающим физик Михаил Дементьевич. Из соседней двери выглянула Зоя Павловна.
– Что такое? – спросила она у физика.
– Вы разве не слышите? «Монета падала, звеня и подпрыгивая…»
– Научили на свою голову.
Марь Яна распахнула дверь учительской, кинулась догонять свой класс.
– Смирнов! Зуев! – крикнула она в лестничный пролет. – Ах, молодцы! Ах, негодяи!
Пока она спускалась, торопливо переступая через две ступеньки, мальчишки и девчонки успели похватать свою одежду. Их крики раздавались уже на улице. В раздевалке осталось несколько человек. Раиса Русакова задержалась: кто-то пристегнул пуговицы на рукавах пальто к полам. Нинка Лагутина искала свое кашне. Сережка Жуков подавал Ляльке Киселевой дубленку. Девочка не спешила воспользоваться услугами кавалера, поправляла на голове красную вязаную шапочку, потом поправляла шарф. Сережка держал дубленку, смотрел без смущения умными, скучающими глазами.
– И Жуков! И Киселева! Не стыдно? – сказала Марь Яна.
– Стыдно, – ответила Лялька, скромно прикрыв глаза ресницами, тоном и неторопливостью подчеркивая, что ей стыдно не за себя.
– Что поделаешь, коллектив. Нельзя отрываться от жизни коллектива, – проговорил Сережа, скупо улыбаясь, помогая Ляльке надеть дубленку и поправляя вылезший из-под воротника шарф.
Через окно было видно, как мальчишки и девчонки бегут по двору, размахивая одеждой, без шапок.
– Ах, негодяи, – сказала Марь Яна, открывая дверь и, сбежав со ступенек на снег, чувствуя, как шею, голову охватывает морозом, а кофта и юбка становятся холодными, крикнула: – Простудитесь! Оденьтесь! Я прошу! Вот остолопы!
Оглянулась. Последнее слово она крикнула тоже достаточно громко, но его, слава богу, не услышали ни убегающие, ни те, что были за дверями.