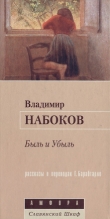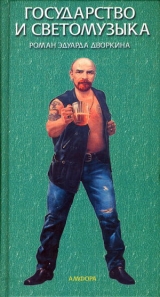
Текст книги "Государство и светомузыка, или Идущие на убыль"
Автор книги: Эдуард Дворкин
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
22
Степан Никитич Брыляков продолжал находиться в своем служебном кабинете.
Зажженные газовые фонари симметрично разрезали кромешную мглу за окнами, уставшие лошади медленно протащили к реке последнюю подводу со снегом, в кондитерской напротив появились гусары – отчаянные красавцы в распахнутых шинелях опасно флиртовали с объевшимися сладким гимназистками, ухарски пили ром из больших плоских бутылок и, старательно не замечая дорогого старинного зеркала, порывались разбить в складчину что-нибудь не слишком ценное.
Не желая возиться с трубкой, он закурил папиросу. Тут же появилась пошлейшая, противоречащая его убеждениям мысль. ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ. Допустим. Но разве Александра Михайловна Колонок была его судьбой? Разве не жена Аглая Филипповна, дочь, сыновья и даже дедушка-молоканин? Причем тут эта странная и чужая женщина, с которой он виделся лишь однажды и от которой бежал на рассвете по высокой росной траве?
Он принял тогда рассудочное и верное решение. Он ничего не хотел менять в своей жизни, хотел и дальше жить по чести и со спокойной совестью смотреть в глаза родных…
Последние две недели его жизнь сделалась невыносимой.
Тяжелей всего было ночами. Жена Аглая Филипповна, выделив ему отмеренную порцию супружеской взаимности, погружалась в праведный и стандартный сон. Он знал, что, лежа подле, она прогуливается под белым зонтом по Гефсиманскому саду, поливает из шланга клумбы с анютиными глазками, кормит бутербродами ручных пантер, одаривает серебром бесполых нищих, а потом, за чашкой чая или тарелкою борща кротко беседует с семейным Ангелом, выспрашивая, как обстоят дела в Свято Семействе, здоровы ли ангелочки, усердно ли постигают Закон Божий.
Степан Никитич смотрел на благостно почивавшую супругу, стыдился себя, своей греховности, той «вещи», которая была в нем, пытался отвлечься и до последней клеточки загрузить мозг предстоявшими наутро служебными делами. Медленно, с опаской закрывал глаза.
Представлял…
Вот он приезжает в Управу, здоровается с чиновниками, поднимается по мраморной лестнице, входит в кабинет. Секретарь услужливо раскладывает на столе требующие его внимания бумаги. Степан Никитич тщательно рассматривает все входящее и исходящее, все приказы и отчеты, прошения и платежные ведомости. Он выносит резолюции, что-то отправляет на доработку или отвергает, что-то подписывает и складывает в зеленую сафьяновую папку.
Работа продвигается споро…
Пять тысяч двести шестьдесят семь рублей на содержание сиротского приюта?.. Пожалуй, в этом месяце можно выделить все шесть…
Семьдесят рублей крестьянину-погорельцу Вуткину?.. Обойдется и пятнадцатью – все одно пропьет, шельма!..
Участок под застройку купцу Гладкостволову?.. Накося-выкуси!.. Землю продать на аукционе, пусть выкупает!..
А это что?
Какое странное прошение! Бумага перепачкана губной помадою, почерк оставляет желать…
Он подносит лист к самому лицу.
«Покорнейше прошу ваше превосходительство с максимально возможной страстью незамедлительно овладеть мною… неслыханное блаженство гарантирую… ваша…»
С негодованием он комкает бумагу, и тут же кровь бросается ему в голову. Александра Михайловна (кто же еще?!), голая, с ярко накрашенным ртом, пляшет перед ним на ковре.
Степан Никитич хочет прекратить безобразие – все же, он на работе, в кабинет могут войти, но разошедшаяся дама ловчайше запрыгивает к нему на стол – ее большие сочные груди тяжело бьют его по затылку… ароматные пахи Александры Михайловны забивают ему ноздри. Он не может сопротивляться. В мгновение ока она срывает с него одежду. Захлебываясь, воя и кусая друг друга, они слепляются в огромный сладострастный ком…
Он падал с кровати, корчился от судорог, потом бежал в ванную комнату, смывал под душем остатки липкого эротического кошмара. Аглая Филипповна продолжала находиться в объятиях Морфея, а он до утра ходил по дому, пил ледяной квас, курил трубку за трубкой и безуспешно пытался взять себя в руки…
Степан Никитич Брыляков продолжал стоять у окна в своем служебном кабинете.
Чиновники Управы давно разошлись по домам, ночной сторож, постукивая колотушкой по крепкой казенной мебели, обходил большое гулкое помещение. Кондитерская напротив закрывалась – маслянистый грек-хозяин выметал осколки стекла, красавцы-гусары охотились за расстреножившимися лошадьми, набрасывали лассо на высокие гривастые шеи, подтягивали строптивых любимцев, скармливали им с ладони горки сладкого рафинада. Тяжеленькие гимназистки в форменных синих салопчиках одна за другой взмывали в воздух, пронзительно вскрикивали, дрыгали стройными ножками и оказывались на конских спинах. Гусары тут же прыгали в седла, давали жеребцам шенкелей, и крепкие орловские рысаки на зависть маломощным иностранным боливарам легко уносили смеющиеся влюбленные пары в бескрайние ночные пространства…
Степан Никитич отошел от окна, надел шубу, велел сторожу отпереть перегороженную запорами дверь и вышел в морозную синь. Ногам в тонких, слегка маловатых штиблетах сразу стало холодно, он прислушался, не проезжает ли поблизости извозчик, и скоро, не торгуясь, сел в подвернувшиеся сани.
Город был небольшой, однако же протяженный и стоял вдоль реки. Ехать надобно было около получасу. Степан Никитич, накинувши полог, угрелся, и мысли вернулись на прежнее направление…
С единственной их встречи в самом конце лета более Александры Михайловны он не видел. Полгода он держался достойно. Ни на минуту не забывая этой необыкновенной женщины, он, тем не менее, полагал, что своим поступком начисто прервал все связи. Волнующий и прекрасный образ отошел в область отвлеченных романтических воспоминаний, никак не соприкасавшихся с его реальной, повседневной, устоявшейся жизнью. Он не пытался разыскать ее, как бы ни щемило иногда внутри. Пленительная дама, постепенно утрачивая вес, объем, температуру, тускнея красками, превращалась в собственную моментальную фотографию, плоскую и существующую в ином измерении. Ей было предоставлено удобное теплое место в запасниках души по соседству с любимыми женскими литературными образами. Поселившись там, Александра Михайловна близко сошлась со своими знаменитыми соседками, запросто ходила в гости к Анне Карениной, Наташе Ростовой, смотрела вместе с Верой Павловной ее замечательные сны, читала стихи с пушкинской Татьяной, охотно принимала всех их у себя. Степан Никитич радовался тихому и безопасному для всех существованию Александры Михайловны внутри него – он мог с чистой совестью смотреть в глаза жене и детям и, в то же время, не расставался с той, которая так чувствительно задела его сердце…
Все рухнуло две недели назад.
Она сама разыскала его. Он получил письмо. Она сообщала, что приезжает из Петербурга, чтобы увидеть его и умоляла прийти к ней в гостиницу.
«Она непременно станет домогаться меня! – со сладким ужасом думал Степан Никитич. – И тогда я… тогда…»
Ничем не примечательное, безликое, служебное словечко вопреки всем правилам превращалось в огромный камень преткновения, этакий запрудный валун, сдвинуть который не было никакой возможности. Мысли Степана Никитича, до того протекавшие достаточно плавно, натыкались на это неподъемное «ТОГДА» и разделялись на два русла. Одно, равнинное и спокойное, повернув, возвращало его к семье, превращаясь в тихое, поросшее камышом и ряской озерцо. Другое, изобилующее опасными рифами, уносило к ревущему пенному водопаду. Уставший и запутавшийся в водорослях пловец пока еще держался за разделяющий камень. Рассудок направлял тело в одну сторону, чувства – в другую…
В отличие от большинства мужчин, Степан Никитич не мог положиться на собственный опыт. В студенчестве он, как и все, посещал публичный дом, но делал это по совершеннейшей необходимости и много реже сотоварищей. Ходил постоянно к одной и той же девушке-карлице, легко и быстро освобождавшей его от унижающего и мучительного состояния. Закончив, тут же уходил и забывал о своей освободительнице.
Была еще квартирная хозяйка Протазанова, мосластая, злобная старуха, опаивавшая его приворотными зельями, хроменькая Машенька-белошвейка и ее вдовая матушка, никогда, ни при каких обстоятельствах не разлучавшиеся… приплюсовывалось комическое происшествие в женской купальне, куда он забрел по рассеянности. Более вспомнить было нечего. Завершив учебу, он вернулся в родительский дом, и уже через месяц Аглая Филипповна, положившая глаз на красивого статного парня, заслала к ним сватов. Обвенчавшись, молодые зажили в любви и согласии. Степан Никитич никогда не изменял жене. Если Аглая Филипповна уезжала на воды, он, по ее же рекомендации, брал в постель чернявенькую служанку Грушу, за что девушке дополнительно приплачивалось…
Надвигавшееся сейчас было несравнимо со всем этим.
Степану Никитичу грозил настоящий романс большими, сильными страстями и бурным их выказыванием, неизбежной двойной жизнью, душевными терзаниями и еще черт знает чем… Интуиция подсказывала, что, ступи он на тропу любви– и мучительные тургеневско-чеховские коллизии покажутся ему невинным флиртом приготовишек.
«Значит, так, – постановил себе Брыляков. – Одежду срывать не позволю, никаких танцев на ковре… водку пить не стану. Минут через десять сошлюсь на позднее время и откланяюсь. Не обессудьте, милостивая государыня и прощайте навеки!..»
– Приехали, барин!
– Сам вижу, не слепой! – грубо закричал Степан Никитич.
Он кинул ваньке полтинник и пошел навстречу судьбе.
23
Швейцарская весна никак не походит на весну российскую.
Российская – девушка в красном сарафане.
Тоненькая, трепетная, влюбленная по первому разу. Ждут ее – не дождутся. Зовут, кличут – приходи, красавица, согрей! Зиму проводили, самое твое время! Но стесняется девица, медлит, не решается, запаздывает… Прибежит, когда уже и ждать перестали – все вокруг высветит лучезарной улыбкой, души людские оттает, и сама развеселится. Песни звонкие поет, с молодежью хороводы водит, девкам подснежники дарит. А то – наберет полные пригоршни веснушек и вытряхнет на сопливые носы. Ночью на ухо шепчет – не заснешь… Шалит девица, проказничает и вдруг спохватится, тучками всплеснет, застыдится да и спрячется – ходи, ищи ее. Была и нету!
Швейцарская весна, фрау Фрюлинг – приветливая, степенная дама, добросовестная поденщица, по договоренности исполняющая порученное ей привычное дело. Приходит в точно назначенное время, переодевается в зелено-голубую рабочую одежду, прогревает на положенные восемь с половиной градусов температуру наружного воздуха, освежает небесные краски, растапливает снег, аккуратно пуская стоки в канализацию… Старательная фрау прорастит травку в поле, не забудет нарядить клейкими листочками каштаны и липы. За отдельную плату с удовольствием займется вашими тюльпанами. Закончив все, сядет за чистенький стол, пьет кофе со сливками, ест сладкие пумперникели. Никуда не торопится, сидит до лета, приглядывает за хозяйством. Рассчитавшись с бюргерами, уходит с чувством выполненного долга… Ауф видерзеен, либе херрен! В это же время на будущий год!..
Человеку, до глубины естества творческому, способность к перевоплощению дарована едва ли не первой.
Александр Николаевич на удивление легко вогнал себя в образ мифического мингрельского князя. Пофантазировав в пределах поставленных ему рамок, он насытил абстрактную фигуру живой плотью и кровью, обуял страстями, снабдил характером решительным и твердым. Все это в немалой степени способствовало успешному прохождению паспортного и таможенного контроля…
Великий Композитор прежде не бывал в Цюрихе.
Он непременно смешался бы на незнакомом шумном перроне, среди толпы приехавших и встречающих, чужих и равнодушных к нему людей, но для уверенного в себе, невозмутимого грузинского аристократа ситуация была проще простой. Небрежно окликнув носильщика, он отдал ему дорожный баул и на приличном средненемецком велел проводить до дрошкенкучера.
Пунктуальный Плеханов, снабдивший Александра Николаевича рекомендательным письмом к единомышленникам, не позабыл указать на конверте подробный и точный адрес. Дрожки простучали по выгнутому старинному мосту через неширокую речку Лиммат, обогнули островерхое, с черепичной крышей, здание ратуши и остановились в квартале однотипных барочных домов, принадлежавших, судя по выложенным гербам и девизам, гильдии булочников. Девятая Кантонная, четыре. Приехали.
Легко взбежав по выскобленным высоким ступеням, он постучал прибитым к двери кольцом по ее прочной дубовой обшивке. Явившаяся пожилая гретхен в буклях и крахмальной наколке провела его в светлую просторную гостиную. Великий Композитор скользнул взглядом по массивной темной мебели, сел на неудобный, узкий, с прямой спинкой стул. Одна из стен была увешана живописью. Одинаковые тучные люди в пекарских колпаках и белых передниках напряженно позировали не слишком умелому мастеру на фоне гигантских сдобных кренделей и булок.
Ожидание затягивалось. Александр Николаевич переменил позу, встал. Дальний угол гостиной был уставлен многочисленными кадками и горшками с домашними растениями. Великий Композитор подошел понюхать цветок и увидел чьи-то холодные враждебные глаза. Густая зелень скрывала внушительных размеров террариум. На дне его, до половины зарывшись в жирную грязь, лежал зеленовато-коричневый нильский крокодил.
За спиной хлопнула дверь, раздались голоса.
Невозможно шаркая ногами в разношенных домашних туфлях, к Александру Николаевичу приближался крошечный носатый старец в шлафроке и ермолке. Сцепив большой и указательный пальцы, он нес раскачивающуюся на хвосте мышь.
Великий Композитор с достоинством поклонился.
– Месье Шарль? – осведомился он на неплохом французском. – Я друг месье Плеханова. Он пишет вам… вот письмо…
Шарль Раппопорт подошел вплотную, привстал на цыпочки и принялся сосредоточенно разглядывать гостя.
Александр Николаевич счел необходимым повторить свое представление.
– …мсье Плеханов, – стараясь следовать всем правилам галльской фонетики, медленно выговорил он. – Письмо…
Почтенный старец придал лицу озабоченное выражение.
– Месье Плаханов… месье Плеханов, – рассеянно накручивая на палец мышиный хвост, забормотал он. – Месье Плеванов…
Александр Николаевич преисполнился терпения.
– Бо-о-ольшой, – показал он руками, – си-и-ильный… социа-а-ал – демокра-а-ат… «Социа-а-ализм и полити-и-ическая борьба», «На-а-аши разногла-а-асия», «Мо-о-онистический взгляд на исто-о-орию»…
– Монистический? – до глубины души удивился Раппопорт и ловко закинул мышь в разверзшуюся крокодилью пасть.
Воспоследовавшая пауза оказалась достаточно долгой.
Скрябин уже решился было откланяться, но тут в глазах старца промелькнула живая и ясная мысль.
– Большой! – возбужденно выкрикнул он. – Социал-демократ! Монистический! Плеханов! Письмо!
Он выхватил конверт из рук Александра Николаевича и замахал им в воздухе.
– Жюль! Где ты? Жюль!
На шум откуда-то сбоку вышел другой старец, очень высокий, худой, в смокинге и белых перчатках. В его отставленной руке трепыхалась большая древесная лягушка. Это, без сомнения, был Жюль Гед, импозатный лидер Второго Интернационала, один из отцов потрясшей воздух «Гаврской программы». Величественно прошествовав к террариуму, патриарх швырнул земноводное поймавшему его на лету пресмыкающемуся.
– Ну, что – утопаешь в своей грязи? – Основатель французской рабочей партии любовно постучал по толстому запотевшему стеклу. – Он у нас утопист и анархист в одном лице, – тут же объяснил Жюль Гед Скрябину. – Мы зовем его Прудон.
– Пожалуй, они и внешне похожи, – в тон знаменитому центристу заметил Александр Николаевич. – Помнится, месье Пьер Жозеф был несколько толстокож и весьма зубаст.
Жюль Гед расхохотался и одобрительно похлопал Александра Николаевича по плечу.
– У вас письмо от месье Плеханова?.. Это замечательный человек. Когда-то мы вместе ели сосиски с картофельным пюре… кстати, – месье Гед наклонился к задумавшемуся о чем-то Шарлю Раппопорту, – сходил бы ты на кухню… пусть фрау Клетцаль принесет нам чего-нибудь перекусить…
Александр Николаевич наконец-то освободился от тяжелой жаркой бурки, заботливые старые социалисты предоставили ему возможность посетить туалетную и ванную комнаты – обрызгавшись водой, Великий Композитор вышел к столу достаточно бодрым и свежим.
Ветхая волшебница фрау Клетцель сотворила за это время несколько истинных кулинарных чудес. Скрябину подали суп из бычьих хвостов, чрезвычайно густой и пахучий. Выхлебав клейкую массу, хвост полагалось обглодать до последнего хрящика. На второе предлагались свиные уши, евстахиевы трубы которых были заполнены сочными шкварками, а барабанные перепонки проткнуты пучками ароматной травы. Были еще с треском лопавшиеся во рту глаза молодого оленя, запеченные в тесте козлиные ноздри и фаршированные коровьи копыта.
Старые левые интернационалисты, стараясь посытнее накормить гостя, подкладывали ему лучшие куски.
– Созрел ли по весне грузинский пролетариат? – наперебой спрашивали они. – Выкорчеваны ли гносеологические корни оппортунизма? Успешно ли прошла в России плановая ревизия марксизма, и не выявлено ли злоупотреблений? По-прежнему ли месье Плеханов глотает сырые яйца или уже научился делать яичницу?..
Александр Николаевич запивал еду липовым чаем и обстоятельно отвечал на вопросы.
– Георгий Валентинович сегодня – лучший в России специалист по глазунье и омлетам! – с гордостью за друга сообщил он.
В компании милых, комфортных старичков, со вкусом потративших жизнь на игры с социалистической идеей, было легко и спокойно. Впавшая в азарт фрау Клетцель приносила все новые кушанья – желтые, фиолетовые, черные, под конец валом пошла горячая выпечка. Переменивший за безопасным стеклом позу Прудон поглядывал на гостя весьма дружелюбно. Жюль Гед и Шарль Раппопорт ели с саксонских тарелочек блинчики с творогом и сметаной.
За окнами темнело, густело, влажнело. Пунктуальная фрау Фрюлинг (уж не сестра ли заботливой фрау Клетцель?), сверившись с астрономическими часами, задергивала небо плотными тяжелыми шторами. «Цайт фюр шлаффен – Спать пора!» – явственно выкрикнула с газона неизвестная швейцарская птичка. Голова Великого Композитора начала клониться, западать на плечо, виснуть над столом. Сидевшие напротив Шарль Раппопорт и Жюль Гед непостижимым образом слились в одного человека – не то в Шарля Геда, не то в Жюля Раппопорта.
– Месье Скакунидзе… месье Скакунидзе, – пробился к Александру Николаевичу мягкий двуединый голос. – Вам постелили наверху, в гостевой… пойдемте…
Утопая в мягчайшей перине, он успел ухватиться за соломинку сна и поплыл по его изменчивому и прихотливому течению.
24
Сон, как обычно, был цветной, трехмерный, музыкальный.
Он плыл по широкой, могучей реке и знал, что это – река Жизни. Голубые небеса, хрустально позванивая, висели над его головой. Прозрачно-чистые звоны, построенные на романтических секундовых интонациях томления, как бы истаивали в интонировании еле слышного полувздоха-полувопроса…
Провидение слало своему избранцу начало новой гениальной симфонии!
Наверху прибавили громкости, он начала планомерно запоминать… разочарование оказалось болезненным и горьким. Начинавшаяся с пятого такта малотерцовая цепочка доминантоподобных гармоний привела к неприятно знакомым в седьмом такте минорным трезвучиям, омраченным тритоном в басу. Бетховен! Увертюра «Кориолан» к драме Генриха фон Коллина!
Он перестал слушать, и мелодия, звякнув на прощание резковатым ре бемоль мажором, тут же смикшировалась, затихла, растворилась без остатка в бескрайнем акустическом пространстве.
Более ничего не было,и он, не терпящий звуковой пустоты, запел сам вибрирующим звонким тенором. Навеянная промытыми голубыми просторами, порывистая и свежая, как морской бриз, «Соната-фантазия» проникла трепетным зовом во все уголки и веси, насытила их мощными волевыми импульсами и нежными меланхолическими ощущениями. Это был призыв,биение души в коловороте раскрепощенных элементов среди любви и грусти, желаний смутных, чувств невыразимых…
– Откликнись же, – взывал он, – о, дивный образ божества – гармоний чистое искусство!
Такоене могло остаться безответным.
Бросив весла, он терпеливо ждал. Небеса безмолвствовали…
Не сверху, а снизу готовился сюрприз ему! Внезапно вспенилось все, ударил из пучины, рассыпался водным прахом могучий фонтан, и возникла из пены не Афродита вовсе, прекрасная и вечная… старец восстал, волосатый и глумящийся.
Пошел к нему по воде, аки по суху, руки раскинул, зашелся, отчаянно фальшивя, в жирном речитативе:
«Царит всевластно на земле
Мое учение – могуче.
И „Капитал“ во двух томах
Свершает славно подвиг лучший. Придите все народы мира,
Марксизму славу воспоем!»
И сразу потемнело все, ветер дунул, буревестники закричали, с Капри прилетевши, холодно стало Александру Николаевичу, знобко, закачалася лодка под ним, воды зачерпнула. Схватился он за весла – от беды подальше… едва не утонул в водовороте… вагнеровскую «Гибель богов» слышать стал…
Потом словно порвалось что-то – были царапины, колючие, ломкие… сполохи мертвящей белизны, шипение, треск, страх, кромешный мрак, небытие… и снова музыка, возвращающая жизнь, наивная, чистая, из детства… Иенсен, «Лесные сцены»…
Нет больше обманчиво-плавной реки, по которой плывешь, положась на нее самое, без руля и ветрил. Есть горная гряда (вот верный для него символ!), вершины которой нужно брать самому. Вот высшая цель и высшая радость! Взобраться, спуститься и покорить следующую вершину, еще более высокую! Процесс, вечный процесс! Не достижение,а достиганиеи вечное преодоление уже достигнутого!
…Ему четырнадцать. Утесы далеко впереди. Он учится забираться на холмы. Срывается, царапает коленки, ломает правую ключицу. Рука висит как плеть. Так что же – покориться, ждать, терять время?! Ну, нет! Скривившись от боли, он вызывающе смеется. Он знает, чтоделать – «Прелюд и Ноктюрн для левой руки!» Он взял вершину! И дальше, дальше – не останавливаться! Откажет левая рука – он станет сочинять для ног! «Парафраз на вальс Штрауса для обеих»! «Морская соната для правой ноги»! «Соната фа-диез минор для четырех пальцев левой»!.. Понадобится – он и носом сыграет или сочинит что-нибудь дерзкое исключительно для исполнения мужского!..
Но почему он слышит Иенсена, эти фразы – короткие, отрывистые, пульсирующие и вдруг – причудливые, хрупкие, сложные, с отдельными словами-намеками, такими тревожными и настораживающими?
Почему – «Лесные сцены»?
Не потому ли, что он в чащобе?
Он пробирается сквозь бурелом и заросли, еловый лапник больно хлещет по лицу, остроконечный терновник оплетает голову хватким, раздирающим кожу венцом, ядовитый мох мерзко чавкает под ногами и хочет засосать в свою прогнившую утробу…
Лес есть, он несомненен, но где же сцены?
«Музыка не может обмануть (тебя, во всяком случае!), – говорит ему уставший внутренний голос. – Сцены будут – приготовься!»
Раздвинув руками ветви, он выходит на поляну. На краю ее, в кустах, стоит рояль. Он не идет к нему. Он знает, что сейчас он – зритель. Он должен сесть на пенек, и сцены пройдут перед ним так, как это задумано тем, кто привел его сюда.
Осматриваясь, он замечает транспарант, развернутый между соснами.
«Силен и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил его!» – выведено по огненному кумачу его же почерком. А ниже – приписка, бесовской рукою: «А сам – готов ли?»
В карманах нашлась пачка папирос, коробок шведских спичек.
Великий Композитор закурил.
Он был готов.
И – началось…
Крикнул, застонал под бездушными механическими пальцами прекрасный беккеровский инструмент. Кощунственно возникла и хаотически заметалась между стволами постыдная и циническая пародия на Третью симфонию. Так невыразимо пошло интерпретировать его творчество могла только она – бывшая, Вера Ивановна Исакович.
Огромная, расползшаяся, обсыпанная пожелтевшей хвоей и грибными спорами, с лицом, измазанным кровавым брусничным соком, одержимая ненавистным ему принципом просветительства,она остервенело била по клавишам и одновременно подмигивала бывшему мужу набрякшими глазными мышцами.
– Твое исполнение никуда не годится! – не прерывая надругательства над искусством, крикнула она ему. – Оно слишком свободно! Оно малоритмично! Доводи мысль до аудитории в максимально доступной форме! Играй, как я! Делай, как я! Будь мною!
Он хотел подбежать, схватить за плечо, опустить тяжелую крышку на пальцы-черви – и прекратить… он никогда не давал ей согласия, он запрещал, она не имела права играть его музыку… она не выплачивала ему авторского вознаграждения!..
«Силен и могуч тот…»
Он был в отчаянии. Он должен победить ее. И он победит!
Какие-то люди выскочили на поляну и завертелись перед ним. Он узнавал их, никогда не оставлявших его чашу отчаяния пустою.
Танеев выдвинулся, огромный, гривастый, в поповской рясе – запел зычно, глаза закативши:
– Филосо-о-офской програ-а-амме раско-о-ольника Сашки Скря-я-ябина… поро-о-очной и вре-е-едной… ана-а-афе-е-ема-а-а!..
– Ана-а-афе-е-ема-а-а! Ана-а-афе-е-ема-а-а! – с готовностью подхватили все.
Римский-Корсаков с Глазуновым, в шутовских колпаках, с приклеенными носами, выше всех выпрыгнули:
– Мир – есть результат егодеятельности! – со смеху по траве покатились. – Еготворчества, егосвободного хотения!.. Ишь, выискался!..
Кюи Цезарь наманикюренным пальцем ткнул:
– Композитор – так себе! Однообразен! Ничем не выделяется!
Кусевицкий с Лядовым на четвереньки упали, залаяли, завизжали:
– Не будем твоими антрепренерами и издателями! Двести рублев за сонату захотел, пятьдесят – за прелюдию! Не стоишь ты этаких деньжищ!
Сафонов, багровый, в истерике забился, пену изо рта пустил:
– Развратник! В грехе живешь! Знайте все – невенчан он с Татьяною! Невенчан! Анафема ему! Ана-а-афе-е-ема-а-а!..
…Горька была чаша, тяжела, но принял он сосуд, испил до дна да еще и губы облизал. Тешьтесь, бесово семя! Встал, руки на груди скрестил, взглядом испепеляющим ворогов обдал.
Не выдержали поругатели – заворчали, попятились, сгинули.
Вышел он из чащи просветленным старцем, через страдание очистившимся и ныне истиной монопольно владеющим.
И был он старец, и был он юноша. И ноги его не касались земли. И подымался он все выше. И были ему день с ночью, пламень со льдом и весна с осенью. И низвергался дух его в материю. И грохотала миллионами солнц мировая стихия. И клокотали трезвучные арпеджии, протяжением в малую нону каждая. И было волеизъявление могучее на вершине самоутверждения личного. И окончательно растворилось личное в едином. И был экстаз, последнее изнеможение. Нет завершения, есть прекращение…