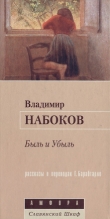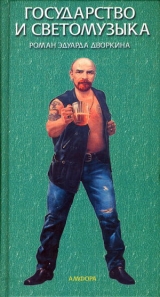
Текст книги "Государство и светомузыка, или Идущие на убыль"
Автор книги: Эдуард Дворкин
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
35
К лету Степан Никитич сделался как бы большим сосудом, заполненным исключительно чувством к Александре Михайловне. Сосуд был прочен и обширен, но чувства было так много, что оно не умещалось, и, не выплескивайся Брыляков по нескольку раза на дню – бог знает, чем это все могло бы для него окончиться.
Александра Михайловна истязала себя норвежской грамматикой, Брыляков шатался по дому с инструментом или пилил на дворе дрова с отставным путевым обходчиком, но мысли всегда были об одном – разделавшись с очередным бревном или заколотив десяток гвоздей, он бежал наверх, в чердачную их комнатку, тянул к любимой руки, делал умоляющие глаза… Чаще всего он бывал изруган и отогнан. Александра Михайловна, стремясь урвать поболее от сокровищницы знаний, не позволяла себе расслабляться. Иногда, все же, Степан Никитич попадал удачно – ему дозволялось приблизиться и накоротко замкнуть объятия. Следовало ставшее ритуальным упоминание о Чичерине, и любовная феерия разворачивалась во всей своей всеобъемлющей первозданности. Едва выплеснувшись, Брыляков был тут же готов к продолжению действа, однако Александра Михайловна, экономя время, повторные попытки решительнейше пресекала, обрекая Степана Никитича на душевные терзания и очередные часы разлуки.
Все существовавшее помимо Александры Михайловны и напрямую с ней не связанное интересовало Брылякова весьма приблизительно, тем не менее, будучи человеком системными проникнув в тайны трех обитателей дома, он поставил необходимым ознакомиться с биографиями остальных коммунаров.
Пиливший со Степаном Никитичем человек в тужурке путевого обходчика был, по всей вероятности, слабоумным и никакой жизненной истории не имел вовсе. Убийственные близнецы в кожаных одеждах держали Брылякова на безопасном для него расстоянии, и нарушать дистанцию было неблагоразумно. Оставался, таким образом, только бритый господин в толстовке и с моноклем в глазу, неизменный послеобеденный оппонент хозяина дома.
Степан Никитич приделывал дверь к этой комнате умышленно долго. Украдкой бросая внутрь любопытствующие взгляды, он всякий раз искренно удивлялся представлявшемуся антуражу – помещение было заполнено разнокалиберными горшками с бальзамином, стоявшими как придется на полу, подоконниках, повешенными на стены и свисающими с потолка. Никакой мебели или даже предметав комнате не было вовсе. Сам хозяин, отменно выбритый, в распахнутой толстовке с засученными рукавами, ходил между цветами, всем своим видом выражая крайнюю задумчивость и отрешенность.
Степан Никитич продолжительно вжикал ручной пилою, покашливал, раза четыре звучно высморкался, шумно вогнал в дерево несколько гвоздей. Навесив дверь и притирая ее окончательно к освеженной им проемной коробке, он умышлено,со скрипом проворачивал ее в тугих петлях – все было безрезультатно, обитатель цветущего помещения не обращал на Брылякова ровно никакого внимания.
Отчаявшийся Степан Никитич, с грохотом собрав инструменты, собирался уже отправиться восвояси и тут, мотнувши с досады головою, выронил на пол упрятанный за ухом карандаш.
Господин в толстовке вздрогнул и, вскинув голову, сосредоточился на Степане Никитиче. Тот отвечал ему вполне дружелюбным взглядом.
Сцена продолжалась достаточно долго, видно было, что хозяин комнаты от созерцания внутреннего переходит к созерцанию внешнему. В его глазах засветился огонек адекватности, провисшее тело подобралось, висевшие плетьми руки вскинулись, от былой отрешенности не осталось и следа – он, несомненно, не возражал против общества Степана Никитича и даже приглашал его пройти внутрь.
С готовностью откликнувшись, Брыляков переступил через починенный им порог. Еще в коридоре он ощущал дурманящий запах расцветшей флоры, воздух же внутри был спрессован ароматами настолько, что его можно было резать на части и немедленно продавать на парфюмерные фабрики.
Не имея возможности присесть, мужчины прохаживались меж толстых разноцветных стеблей.
Молчание продолжалось, и Степан Никитич, внутренно расшалившись (настроение располагало – Александра Михайловна между завтраком и обедом допустила его до себя четырежды), попытался предугадать предстоявшую ему историю.
Бритолицый господин мог бы оказаться сыном удачливого заводчика, производящего на своих предприятиях добротные суконные толстовки, бритвенные лезвия и монокли. Мать господина, едва дав жизнь младенцу, наверняка была похищена злоумышленниками и увезена в австралийские саванны, где по прошествию лет сделалась королевой аборигенов. Мать уже стара, ее зубы выпали, глаза ослепли от палящего солнца, а груди высохли – ей все труднее управляться по королевству. Она прислала ему священный бумеранг и окаменевшее яйцо птицы киви. Это – атрибуты власти. Мать зовет сына, чтобы передать ему бразды правления… Отец господина тоже одряхлел – он тучен и одышлив, с трудом передвигается, опираясь на палку, и уже начал говорить невпопад, он должен отойти от дел, которые надлежит принять сыну… все эти многочисленные заводы и мануфактуры нуждаются в сильной руке… Обритый господин стоит перед выбором, сейчас он на перепутье, но ему равно не хочется быть ни королем, ни фабрикантом. В душе своей он неисправимый романтик, ему нравится мечтать о всяких разностях и быть свободным от прочих дел…
Фигура бритолицего господина мелькала среди высоких упругих стеблей.
– Вы полагаете, вероятно, что я ботаник, – донесся, наконец, до Степана Никитича исполненный сарказма голос хозяина, – и выращиваю растения исключительно ради них самих. – Не выдержав собственного ёрничества, он прыснул в подставленный ко рту кулак. – В вашем представлении я – этакий домашний агроном, не поднимающийся в умственных рассуждениях выше формулы селитры и пропорций смешения ее с перепревшим навозом. – Он коротко, со вкусом хохотнул. – По-вашему, я – земляной червь! Крот! Червивый крот! Кротовый червь! – Распалившись, он размахивал руками, говорил и смеялся одновременно, не оставляя гостю ни единой паузы. – Но, смею вас уверить, милостивый сударь, вы жестоко ошибаетесь! Ибо сказано – глупцу труднее установить истину, чем верблюду пролезть в замочную скважину! – Господин в толстовке, нацелясь на Степана Никитича сверкающим моноклем, выстреливал слова, как из пневматической винтовки. – Так знайте же… если и интересуют меня корни, то корни эти гносеологические!По убеждениям я в высшей степени бодлеровеци выращиваю цветы зла!Природная кротость характера – не путайте с проклятым кротом! – мешает мне сражаться с существующей несправедливостью… Я нюхаю эти цветы, погружаю в них голову, втягивая ноздрями пыльцу – и праведная злость наполняет мои жилы, превращая из пассивного критика в неистового ниспровергателя. – Он страшно захохотал и, растопырив пальцы, пошел на Брылякова, счевшего за лучшее попятиться. – Пока еще – это цветочки!Но скоро – и час уже близок! – на их месте вырастут ягодки!И тогда, наевшись их до рвоты, мы осуществим задуманное! И никто – слышите вы! – никто уже не сможет нас остановить!..
Прорычавши последние слова, он прыгнул на Степана Никитича, намереваясь впиться в него зубами и ногтями. Степан Никитич, не без труда увернувшись, выскочил и прижал за собой дверь. Удерживая ее, пока удары, царапанье и воинственные крики не прекратились, он задавался вопросом, ответа на который не находил…
– Такие разные люди, – в удобный момент спросил он Александру Михайловну. – Здесь, под одной крышей… Что объединяет их всех?
Александра Михайловна просветлела лицом, подошла к оконцу, отдернула пыльную занавесь и долго вглядывалась в какие-то не видимые Степану Никитичу дали.
– Мы, – отвечала она звенящим от волнения голосом, – ячейка российской социал-демократической рабочей партии, убежденные большевики-сувенировцы. И будущее за нами!..
36
В июле Генриетте Антоновне Гагеймейстер стало ясно – войны не миновать.
Германия лязгала оружием, топала коваными солдатскими ботинками, упивалась собственной человеконенавистнической теорией и ждала только повода, чтобы всей мощью навалиться на Россию и ее союзников.
Светские приемы в большом доме на Мойке были прекращены, мужская обслуга лично Генриеттой Антоновной мобилизована в ряды действующей армии, из комнат вынесли прочь дорогую мебель, установили рядами железные панцирные кровати. Кухарки и судомойки в надвинутых на брови белых косынках рвали на бинты хозяйские полотняные простыни, учились переливать кровь и ампутировать пораженные конечности.
Генриетта Антоновна пропадала в казармах. Она зароняла в души стойкие ростки патриотизма, как могла, поднимала боевой дух, спешно проводила переаттестацию офицерского состава, учила новобранцев тонкостям штыкового боя.
Неутомимая, деятельная, жертвенно-самозабвенная, на белом коне с развевающейся длинной гривой, она сутками носилась по плацу, заражая своей энергией все живое, попадавшееся ей на пути.
Чувствуя иногда острые приступы тошноты, она приписывала их несвоевременному приему пищи, некоторые внезапно появлявшиеся боли в области живота отнесены были на счет постоянного пребывания в седле. Был, однако, и еще симптом, объяснить который генерал-квартирмейстер уже не могла – ее осиная на протяжении десятилетий талия более таковою не являлась. Генриетта Антоновна отчаянно располнела, ее генеральские брюки постоянно расшивались широкими суконными клиньями. Это было весьма странно и никак не сочеталось с тем крайне подвижным образом жизни, который она вела в последнее время.
Меж тем, боли в животе становились все более резкими – предчувствуя худшее, генерал-квартирмейстер вынуждена была однажды остаться дома и пригласить доктора Боткина.
Мудрый старик долго мыл желтые ладони.
Генриетта Антоновна лежала на спине, и освобожденный от тугих резинок живот огромным шаром колыхался между ее чуть выпятившимся подбородком и аккуратными круглыми коленями.
Вытерев каждый палец в отдельности, Сергей Петрович извлек из саквояжа несколько длинных заостренных предметов, но употреблять их не стал, а вынул из кармана слуховую трубку и, напевая себе под нос, приложился ухом к раздувшемуся естеству пациентки. В чем-то для себя убедившись, он вновь отправился к раковине.
Пораженная недугом женщина, приподняв голову, следила за каждым его движением. Покончив с вытиранием, знаменитый врач молча ходил по комнате, от дверей к окну и обратно. Его лицо ровным счетом ничего не выражало.
– Что со мною? – простонала баронесса.
Старый профессор подошел, положил сухую прохладную ладонь на ее покрывшийся бисеринами пота прекрасный лоб.
– Вы беременны, сударыня. – Он посмотрел на часы. – Минут через двадцать вы станете мамой… распорядитесь принести чистых полотенец и таз горячей воды.
Генриетта Антоновна порывисто села и тут же, сраженная тянущей болью, бессильно откинулась на подушку.
– Но как же… ведь я девственна… у меня никогда не было любовных отношений с мужчиной… вы же знаете…
Сергей Петрович вставил в глаз стеклышко, попросил пациентку принять удобную ему позу и ловко задействовал два длинных опытных пальца.
– Действительно… в этом вы правы. – Он снова намыливал руки. – Тем не менее, в нашем распоряжении всего пятнадцать минут. – Выйдя за дверь, он что-то объяснил вскрикнувшей горничной и тут же вернулся. – Сейчас все доставят…
– Как… как такое могло со мной случиться?!
Опытный медик, посыпав тальком руки, натягивал эластичные резиновые перчатки.
– Случай представляется мне весьма редким… попробуем все же выявить истину. – Установив Генриетту Антоновну мостиком, он выдернул из под нее тюфячок, оставив лежать на голом брезенте. – Без мужчины, уверяю вас, тут не обошлось… отбросим добрейшего супруга вашего Карла Изосимовича… что же остается? – Он вынул безопасную бритву и развел в ванночке мыльную пену. – Припомните – не было ли у вас не вполне осознанного контакта с партнером по танцу… или в казарме… случайно… молодые офицеры излишне пылки, солдаты – попросту грубы и невоздержанны… какое-нибудь одно, излишне плотное прикосновение…
– Нет! Нет! – Генриетта Антоновна отчаянно замахала руками. – Как вы могли подумать!
– Хорошо. – Профессор намылил низы баронессы и опробовал лезвие. – Внезапно его рука остановилась. – Знаете, я вспомнил отчего-то тот зимний концерт в вашем доме… Помните, вы пригласили странного человека… Скрябина… он играл нечто необыкновенное, проникающее…я наблюдал за вами, и мне показалось…
Генриетта Антоновна покраснела. Она никогда не забывала того вечера и своих, связанных с ним ощущений.
– Конечно, все это очень необычно, – уже увереннее ступая по нащупанной умозрительной тропке, продолжал профессор и гениальный провидец, – но я видел, что происходило тогда… мы знаем, какая мощная сила искусство, в особенности искусство музыкальное. – Сергей Петрович спокойно продолжил начатое дело. – Я сам в молодости серьезно занимался симфонизмом… скажите же мне со всей откровенностью – тогда, во время исполнения поэмы, вы почувствовали энгармонизм?
– Да, – смутилась роженица. – В нижнем регистре… на органном пункте тоники.
Знаменитый лекарь полностью завершил подготовку и откровенно любовался делом своих рук.
– Все ясно! – обрадовался он подтверждению гипотезы. – Я склонен объяснить произошедшее так. Слушая симфонию, вы эмоционально раскрылись и впустили альтерированный нонаккорд с секстой – отсюда и ощущения… Далее естественным образом произошло экспрессивное задержание от си-бемоль через си-дубль к ля-бемоль. – Достав флакон со спиртом, он протер обнажившееся место. – Возникла ритмоинтонационная выпуклость, переродившаяся в здоровом и заждавшемся большого чувства женском организме в новое тематическое образование… Вот вам и беременность!.. Еще одно подтверждение, что одинакового результата можно добиться разными способами!.. – Он снова посмотрел на часы. – Осталось около минуты… я попрошу вас упереться вот так и приготовиться…
Потолок над Генриеттой Антоновной закачался, ей стало совсем невмоготу, что-то стукнуло ее изнутри, она крикнула, дернулась, доктор Боткин, подобно чемпиону по плаванию, нырнул куда-то – и тут же стало необъяснимо легко.
Она услышала мощный, насыщенный басовыми тритонами плач.
На руках у доктора заливался прекрасный крупный младенец.
– У вас мальчик, мамаша, – широко улыбаясь, сообщил Сергей Петрович. – Удивительно, между прочим, похож на отца… Ребенок полностью здоров, весит десять фунтов ровно. Маленький негодник проголодался и требует у мамы молочка…
Генриетта Антоновна взяла сына, выпростала налитую персю и засунула ее соском в прожорливой розовый ротик.
37
Великий Композитор очнулся на какой-то открытой веранде.
Ярко сияло солнце, слышался мерный рокот прибоя, пышнейшая зелень колыхалась вокруг, вдали виднелись горные вершины.
В уютнейшем шезлонге он сидел за изящно сервированным столом, в руке у него была серебряная вилочка, он тянулся к аппетитнейшему на вид матлоту из налимов.
– Где я? Что со мной? – с трудом прожевывая нежнейший филейчик, простонал Скрябин, и тотчас вокруг него возник какой-то шум, суета, крики. Медленно повернув голову, он увидел множество людей в белых халатах. Заботливые руки помогли ему сесть прямо, кто-то по капле вливал в его пересохший рот целительное французское шампанское.
Мелькнуло и пробилось среди прочих большелобое, чуть грубоватое лицо с широкими кустистыми бровями, ослепительно улыбающееся.
– Георгий Валентинович! – узнал Скрябин. – Объясните же…
– Пришел в себя! Наконец-то! – Плеханов радостно обхватил его за плечи, помогая встать. – А мы, признаться, опасались худшего…
– Что за загадки! – притопнул Александр Николаевич. – Намерены вы пролить свет на обстоятельства?
Великий Мыслитель жестом показал ему на природу.
Друзья вышли наружу. Они стояли на вершине живописного холма, вниз сбегала выложенная камнем извилистая дорожка. Покидая помещение, Великий Композитор успел оглядеть себя в зеркале – он был в шелковой зеленоватой сорочке, кремовых летних брюках, на голове красовалась ярко-желтая панама, ноги были обуты в высокие голубые сандалии…
Плеханов шел впереди, раздвигая руками нависающие над головой кусты чайных роз и прогнувшиеся под тяжестью вызревающего урожая ветви кофейного дерева. Тропинка перешла в лестницу с пологими, сточенными ступенями. Мужчины спустились к морю, разулись и, загребая пальцами горячий песок, двинулись вдоль пляжа.
– Итак?.. – поторопил один Великий другого.
– Итак, – патетично подхватил другой, – худшее, что называется, позади. Вы справились с недугом и, надеюсь, еще не единожды порадуете нас своими удивительными звуками…
Великий Композитор взглянул на море. Море смеялось. Александра Николаевича окатила сильнейшая волна раздражения. Перегородив дорогу спутнику, он дернул его за рукав и принудил остановиться.
– Какого черта! Это не Швейцария!.. Что же?.. Греция? Португалия? Франция?
– Италия. – Памятуя о недавнем поражении в буфете цюрихской оперы, Плеханов предпочел более не увиливать от прямых вопросов. – Сан-Ремо.
– Какого черта?! – повторился Великий Композитор.
Великий Мыслитель мягко высвободился. Они пошли по самой кромке, и набегавшая вода приятно щекотала им пятки.
– У вас было эмоциональное перенапряжение. – Георгий Валентинович тщательно подбирал слова. – Вы не помнили себя… необходимо было переменить обстановку… предоставить вам уход… здесь, в санатории отличные специалисты… процедуры, шестиразовое питание… вечерами танцы, легкий флирт, ни к чему не обязывающие клятвы под луною… уста, сливающиеся воедино… тела, изнемогающие от любовных судорог…
Рисуя чудесные перспективы, заботливый друг, как мог, старался увести незадачливого пациента со скользкой и опасной тропы воспоминаний – ассоциации, однако же, отбросили Скрябина к ужасающей картине.
– Я вспомнил! Вспомнил!.. – Александр Николаевич побелел лицом. – Вышивальщица из поезда! Маделен Гот! Вышивальщик!.. Конгресс Интернационала… потом у меня дома… царь Соломон… и этот огромный… мужской… там… неожиданно… без предупреждения!.. – Великого Композитор била крупная дрожь.
Георгий Валентинович с перекосившимся от сострадания лицом схватил руку Скрябина.
– Немедленно забудьте! Заклинаю вас! Ошибиться может каждый! Множество истинных женщин жаждет вашей любви! Санатория переполнена ими! Все многократно осмотрены гинекологами… гарантия стопроцентная…
Какие-то девушки, смуглые и востроглазые, увитые с головы до ног побегами дикого винограда, в тоненьких красных юбчонках, звеня браслетами и белозубо смеясь, окружили их и защебетали на языке великого Данта.
– Чего они хотят? – В полнейшем смятении Скрябин попятился к Плеханову.
– Они предлагают свои поцелуи, – обрадовавшись неожиданной разрядке, объяснил Георгий Валентинович. – Недорого. По лире за дюжину. Пожалуй, я возьму несколько… за вас заплатить?
Он швырнул несколько монет и тут же слился в продолжительном орале с самой полненькой из претенденток.
Две или три проказницы, вытянув шеи, прицелились в Александра Николаевича напомаженными мясистыми лепестками, обнаженные до подмышек ручки готовы были захлестнуться у него за спиною – может быть, еще неделю назад Великий Композитор не спустил бы подобного ни единой девчушке, но сейчас…
Ему представилось…
Сорванная, скомканная юбчонка яркой птицею улетает в далекие края…
Белья, разумеется, никакого…
Очаровательный выпуклый лобок, аккуратно подстриженный и завитый на раскаленных щипцах… этакое маленькое чудо и самое совершенство… магический треугольник с проведенной Создателем сладчайшей биссектрисой…
И вдруг…
Все рушится…
Прекрасное женское– не более, чем фикция и искусные декорации…
Круша и корежа непрочную бутафорию, наружу с грохотом выпрастывается истинная сущность порочного организма…
Огромный… мужской… глумливый… разящий наповал…
Коварная ловушка… смертельная западня… губительное болото, прикинувшееся цветущим лугом…
Он оттолкнул кого-то и, высоко подкидывая колени, побежал по бесконечной пляжной полосе. Георгий Валентинович не без труда нагнал его и пристроился рядом трусцою.
Великий Мыслитель более не разубеждал и не успокаивал. Резко переменив тему, он заговорил о том большом и главном, что должно было забитьнеприятные частности и вернуть пострадавшего на магистральную жизненную стезю.
Творчество. Могучий процесс исторического музыкального развития. Его импульсивный пульс. Усилия новаторской мысли, стремящейся разрушить привычные рамки мажора и минора. Интенсивность и психологическая значимость смены гармоний. Колыхание в больших амплитудах свежайших из них, пребывающих в медлительных переборах и тут же оживающих в быстрых фигурациях. Возникновение на фоне вытаптываемых аккордов энергичного сопровождения смелой, гордой темы разгона и взлета…
Плеханов говорил пылко, и его усилия не пропали даром. Великий Композитор менялся на глазах. Испытываемые им сильнейшие отрицательные эмоции плавно понижались до разряда более слабых и безопасных. Отвращение и ужас сошли к простому житейскому неприятию и заурядному испугу, на смену им явились равнодушие и очищающее забывание.Внутри Александра Николаевича возникла целительная пустота. Это кратковременное состояние, необходимое для дезинфекции души, не могло продолжаться долго – пустоты не терпела сама природа Скрябина. Подобно очистившемуся от затхлости колодцу, он вновь наполнялся от свежих родниковых струй. Слова Плеханова, которым до поры он внимал пассивно, начали находить в нем живейший отклик. Он принялся повторять их, вначале бездумно, а потом вполне осмысленно. Разговор пошел на равных, мнения слегка разошлись, возникла нормальная философская дискуссия, и Великий Композитор на своей творческой территории легко порушил чуть поверхностные тезисы Великого Мыслителя.
Все вернулось на круги своя. Александр Николаевич был здоров, бодр, целенаправлен, встречных женщин воспринимал именно как женщин, улыбался им и махал сорванной с головы панамою.
Женщин было много и на любой вкус.
Сновали туда и сюда напоенные солнцем бесхитростные крестьянские девушки. Прохаживались под белыми кружевными зонтиками анемичные дамы из общества. Шныряли и скалились оборванные девочки и старухи.
Высматривая типы и обмениваясь оживленными комментариями, мужчины шли по целебному золотому песку. Александр Николаевич, смеясь и жестикулируя, доказывал Георгию Валентиновичу преимущества брюнеток перед блондинками. Георгий Валентинович, не соглашаясь, советовал Александру Николаевичу пренебречь худощавыми и отдать предпочтение толстушкам.
Внезапно, как по команде, мужчины замерли. В десятке шагов от них две дамы в смелых купальных костюмах самозабвенно играли в волейбол. Попеременно срезая высоко взлетевший мяч, они падали на песок, ловко отбивали крученые сильные удары и, раззадоривая друг друга, обменивались азартными репликами на чистейшем русском языке.
– Что это? – Скрябин взял Плеханова под локоть. – Дама в малиновом… если не ошибаюсь, супруга ваша Розалия Марковна… а та, другая, в сиреневом… спиною к нам…
– Спиною к нам – Татьяна Федоровна. – Великий Мыслитель почесал пяткою колено. – Розалия Марковна телеграфировала ей, что вы здесь и пригласила погостить… ваша жена живет на вилле более недели…
Не сговариваясь, друзья повернули назад. Близилось время обеда. И оба чувствовали, что проголодались.
Вернувшись той же дорогою, мужчины наелись за табльдотом запеченных в тесте ракушек, выпили по нескольку рюмок ароматной граппы. После кофе, ликеров и сыра Георгий Валентинович предложил Александру Николаевичу пройти на второй этаж.
Они поднялись по широкой мраморной лестнице и оказались в просторном холле, убранство которого поражало своим великолепием. Повсюду расставлены были величественные статуи, развешены дорогостоящие полотна, постелены ковры редкой ручной работы. В углу распухший от водянки господин тренькал на прекрасном концертном инструменте. Изображая из себя аккомпаниатора, он провоцировал замученную крапивной лихорадкою немолодую даму на некое подобие мелодического кваканья. Еще несколько пациентов с расстроенными слуховыми способностями, напустив на лица сентиментальное выражение, восседали вокруг рояля на высоких золоченых стульях.
Решительнейшим образом попросив публику немедленно удалиться и дождавшись, пока последний из клиников не покинет пределов помещения, Плеханов уселся за рояль и тщательно протер клавиши.
Приготовившись к каком-то сюрпризу, Великий Композитор расположился на скользкой сафьяновой козетке и принялся обмахиваться снятой с головы панамой. Висевшие под потолком вентиляторы отчего-то не работали, и внутри было душно.
Плеханов сидел прямо. Его руки были скрещены на могучей груди, глаза закрыты, красиво посаженная голова раскачивалась из стороны в сторону – он настраивался внутренно и скоро должен был заиграть.
Прошла минута, другая – и вот две большие мускулистые руки взметнулись, казалось, к самому потолку и пикирующими орлами бросились на беззащитную черно-белую добычу.
Скрябин вздрогнул. Могучие и страстные звуки – этот прорывающийся наружу страшноватый иронический смех… все, несомненно, было отлично ему знакомо, но он, обладатель уникальной музыкальной памяти, не могвспомнить автора и названия вещи.
– Это Лист? – схватил он Плеханова за руку, едва тот кончил. – Похоже на его «Мефисто-вальсы»…
Великий Мыслитель выбрал из пачки самую толстую папиросу.
– Нет, – как-то особенно произнес он. – Это не Лист.
Александр Николаевич возбужденно забегал по интерьеру.
– Глинка? – торопливо бросал он. – Рубинштейн? Балакирев? Римский-Корсаков?.. Может быть, Шостакович?
Интригующе улыбаясь, Плеханов пускал в потолок густые синие струи и отрицательно поматывал головою.
– Сдаюсь! – Великий Композитор сокрушенно развел руками. – Не могу определить… такое со мной впервые. Скажите же, не мучайте меня более…
Георгий Валентинович встал и сделался серьезным.
– Это – Скрябин! «Сатаническая поэма».
– Ничего не понимаю! – Александр Николаевич дернул себя за нос. – Как? Почему? Когда?
Великий Мыслитель мягко положил руку на плечо друга.
– В Цюрихе. – Он говорил уже не боясь коснуться окончательно зарубцевавшейся раны. – Я пришел к вам… вы играли… это было бессознательно… я опасался, что вы позабудете и решился записать. Вот. – Он сунул руку за пазуху и вынул лист нотной бумаги.
Скрябин торопливо пробежал партитуру.
– Тут надо кое-что изменить… совсем немного… кварто-квинтовое и секундово-септимовое соотношение звуков…
Он сел за рояль, уже никого не видя и не слыша.
Плеханов подошел к дверям, широко развел руки и так, никого не впуская, стоял, пока последний гениальный звук не истаял под высоким лепным потолком.