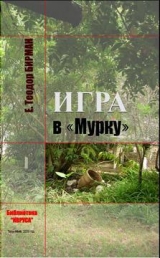
Текст книги "Игра в «Мурку»"
Автор книги: Е. Теодор Бирман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
АРЕСТ
Теодор сидел в кабинете, сочиняя E-mail для отправки своей однокласснице (той самой, которую он когда-то так бездумно подставил энергичному Пронину) и с которой вел теперь нескончаемую дискуссию об определении «дамского» романа. У этого обсуждения была и вполне утилитарная цель, если вспомнить предложение Теодора о душещипательном дамском романе как факторе оборонного значения.
Освободив из гендерной тюрьмы «дамского» романа небольшую компанию во главе со столь ценимой им госпожою Елинек, Теодор заявлял в письме, что «дамский» роман характеризуется прежде всего занимательностью. Подпустив шпильку, Теодор тут же потерял интерес к выдвинутому им тезису и не стал утомлять себя доказательствами. Он ни в коем случае не порицает «дамский» роман, писал Теодор, не относится к нему свысока и доказывает это тем, что читает дамские романы почти всегда до конца и в дальнейшем не намерен больше брать это слово в кавычки. Например, первый признанный им дамский роман «Унесенные ветром» ему очень понравился, хотя и не ценит он вовсе экранизацию, как, впрочем, не любит он все почти фильмы по действительно крупным книгам. «Унесенные ветром» именно и очаровали его женским взглядом на мир, пишет Теодор. Это эпическое произведение совсем не похоже на классический, поставленный мужчиной, спектакль, в котором личные судьбы героев видятся нам на фоне битвы идей и страстей, являющей зрелище по-настоящему грандиозное и захватывающее, герои же скорее помогают персонификации этих страстей и идей. В «Унесенных ветром» обходящиеся без рыцарских лат женщины являются и небом, и землей, и тучами, и горами. И лишь унылой неизбежностью, вроде месячных с нытьем в нижней части живота, проходят на заднем плане идеи, битвы и возящиеся с ними мужчины. Нет, конечно, и письмо Елинек – это явление женское, но в ее «Пианистке» бушует такой ураган, какой сравним разве с бурей отчаяния во флоберовской «Мадам Бовари». Но не такой дамский роман ищет теперь Теодор, а такой, который читали бы не только женщины и который своим стилем и содержанием не только растрогал и утешил бы к……ованных военных, но и внушил бы им человеколюбивые мысли. Теодор вычеркивает не вполне приличное слово, заменяя его термином «оскопленных», потому что не желает уподобиться Николаю Гоголю, позволившему себе в «Мертвых душах», изданных в России для школьников 9-го класса, употребить слово «жидовское». Из-за этого редактор, не будучи вправе изменять текст Гоголя, разъяснил, что это – «грубое выражение, употреблявшееся в литературе до ХХ века, ныне считающееся абсолютно неприемлемым». («Считающееся», отмечает редактор, дистанцируясь на всякий случай от спорного мнения.) Значение корня, впрочем, не разъясняется недоумевающему ученику. Теодор, болея за ученика, проверил сайт «Грамота. ру». Вот. Толково-словообразовательный словарь:
«ЖИДОВСКИЙ прил. разг. – сниж.
1. Соотносящийся по знач. с сущ.: жид, связанный с ним.
2. Свойственный жиду, характерный для него.
3. Принадлежащий жиду».
Из этого словаря неясно еще значение самого «сущ.». Его находим в другом словаре, Словаре синонимов сайта: «жид см. еврей». Только теперь Теодора оставляет тревога за образование русских школьников.
Он еще посетовал на отсутствие у него гоголевской смелости выражения мысли, но потом передумал и посоветовал Николаю Васильевичу брать с него, Теодора, пример и писать это слово ну хотя бы вот так: «Ж….ское».
В тот самый момент, когда Теодор стихийно переключился с дамского романа на писателя Николая Гоголя, во входную дверь постучали, нельзя сказать чтобы тихо, однако ж и не так чтобы слишком громко. Теодор спустился на первый этаж, спросил «Кто там?» и, получив не слишком понятный ему в эту минуту ответ «Алекс», но произнесенный успокаивающим русским выговором, открыл дверь. На пороге в сопровождении еще двух незнакомых Теодору мужчин стоял контрразведчик Алекс.
– Ну, здравствуй, Теодор, – сказал Алекс именно тем тоном, каким говорят эту фразу в фильмах, когда представляющие власть и закон официальные лица посещают на дому героя с сомнительной репутацией.
Теодор отступил вглубь салона, приглашая неуверенным жестом нежданных посетителей, которые сели на указанный им зеленый диван и, кажется, внимательно следили за реакцией и поведением Теодора. Он тоже присел на пуф и молча смотрел на гостей. Наконец Алекс нарушил молчание именно так, как это показывают в фильмах, то есть сказал:
– Ничего не хочешь нам рассказать?
– А что? – совершенно по-идиотски и испуганно выдавил из себя Теодор, пожалев, что КГБ совершенно не проводил с ним тренировок, которые могли бы подготовить его к такой ситуации.
– Ну, раз тебе нечего нам сказать, посиди с этим господином, – указал Алекс на одного из мужчин, коротко стриженного молодого человека лет тридцати, восточного типа, – а мы ознакомимся с обстановкой в доме.
– Асаф, – представился сотрудник Алекса, когда двое других поднялись по лестнице на второй этаж. Заметив взгляд Теодора, скользнувший по его короткой прическе, он нашел нужным добавить: – Я сам стригусь, чтобы сразу после стрижки принять душ. Я совершенно не переношу, когда состриженные волосы попадают мне за шиворот.
Теодор радостно улыбнулся Асафу.
– Я тоже, – сказал он, хотя на самом деле переносил это легко и после парикмахерской мог еще запросто заглянуть в соседний магазин, чтобы эффективно использовать с трудом найденное место на бесплатной стоянке.
Теодор испытывал в нынешней сомнительной ситуации приятнейшее чувство от установившейся с первого мгновения между ним и Асафом симпатии. «С КГБ это было бы совершенно невозможно», – победно подумал он.
Обыск длился недолго. Через четверть часа Алекс уже спускался вниз по лестнице, держа в руках знакомую читателю папку.
– Так что, говоришь, в детстве вместе с папой слушал «Голос Израиля» по хриплому радиоприемнику? А это что? – спросил Алекс, раскрывая пустую папку и указывая на надписи на закладках: «ДЕТСТВО», «УЧЕБА», «РАБОТА В КБ № 1», «РАБОТА НА ЗАВОДЕ № 2», «ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ», «ОТЪЕЗД НА РАБОТУ ЗА ГРАНИЦЕЙ», «ПОРОЧАЩИЕ СВЯЗИ».
– Где бумаги-то, Диссидент Диссидентович?
Господи, ну почему юмор всех контрразведчиков мира так пропитан дидактической интонацией, подумал Теодор.
– Сжег, – он предельно честен с ШАБАКом, это у него где-то в подкорке мозга. С ШАБАКом ему хочется быть еще честнее, чем с женой. Ведь ШАБАК, как и армия, – это наше все, на этом стоит жизнь. Без ШАБАКа и армии Теодор, надо думать, давно уже был бы черной головешкой в автобусе с обгорелым томиком Пушкина в руках или чем-нибудь еще похуже на инвалидной коляске, без всякого томика, его кровь смыли бы из шланга в решетку уличного стока. Неужели они, эти люди из ШАБАКа, со своей дидактикой не чувствуют этой любви? Этой нежности?
Он протянул Алексу обе руки для наручников. Контрразведчик брезгливо поморщился, с высоты своего приличного роста глядя на полноватого, некрупного Теодора.
– Я за тобой немного походил и поездил, – сказал он, – если нужно будет – немного побегаю.
«Видно нашего человека», – сказал себе Теодор в утешение, испытав в очередной раз отвращение к отдающему педантичным фашизмом обычаю надевать наручники на инвалида и одышливого толстяка-гипертоника.
У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ
Вспомнив беседы с Теодором, его дифирамбы поэме «Москва – Петушки», шутки по поводу буквы «Е», с которой начинается фамилия Ерофеева, Серега пошел дальше. Опираясь на знание иврита и разбуженный в нем общением со своей шпионской сетью интерес к литературе (с вырождением вследствие Серегиной исходной профессии в некоторую увлеченность лингвистикой), он предположил, что поскольку «о» и «у» в иврите одна и та же буква, то вполне возможно, что правильное исходное написание этой фамилии – Еруфиев. То есть Руфиев «Е». А кто такая библейская Руфь? Прабабка царя Давида и праматерь Иисуса. Ничего себе открытие, подумал Серега. И после этого кто-нибудь посмеет утверждать, что лингвистика малополезная наука, талмудизм от литературы!
Убийство Венички теперь приобретало совсем иной смысл и явно попадало в сферу интересов Серегиного ведомства. И кому, как не ему, офицеру отдела русско-еврейской дружбы с опытом работы на Ближнем Востоке, произвести расследование этого преступления.
– Брось, – сказало ему начальство, – дело прошлое. Хоть и сказано в книге, что профили у этих четверых убийц были классические, но какие классические – не сказано. Зато сказано определенно, что глаза их были цвета говна в туалете на вокзале станции Петушки. Мало тебе? Еще одна еврейская разборка, как и в случаях с Иисусом и отцом Менем. И разве не свидетельствовал Веничка самолично перед своей гибелью, что даже ангелы над ним смеялись и Господь молчал? Тебе больше Господа и ангелов его нужно? Только и добьешься, что разбудишь, как декабристы Герцена, миллион антисемитов в России. Брось!
Серегу аргументация эта остудила. Но, поразмыслив, он решил, что хотя бы установит в точности то место у Кремлевской стены, где рухнул в изнеможении убегающий Веничка, где был избит, где хватили его головой о Кремлевскую стену, откуда вырвался в последний раз и бежал навстречу окончательной гибели в неизвестный подъезд.
Для приближения обстановки следствия к обстоятельствам расследуемого происшествия выпил Серега на Савеловском стакан зубровки, потом на Каляевской – другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой, проверил, укрепился ли его дух и не слишком ли ослабли члены. Решил, что состояние его не только не антигуманно, но даже стремление к истине в нем возросло многократно. И в таком состоянии тела и духа отправился Серега к Кремлю.
С чего начинается всякое изыскание или следствие? С изучения материальных улик и опроса свидетелей. Материальная улика была только одна – предпоследняя глава «Москвы – Петушков», а надежными свидетелями могли быть только парни из почетного караула у Мавзолея Ленина. Перечтя главу, двинулся Серега на Красную площадь. По мере того как он приближался к ней, крепла его уверенность, что тот, кто стоял однажды неподвижно караульным у Мавзолея, непременно всю жизнь будет приходить сюда снова и снова, а он, Серега, постарается распознать их среди других людей по стеклянному взгляду и некоторой скованности членов – следствию длительной неподвижности.
Красная площадь к моменту Серегиного появления на ней подернулась легким флером и, что было гораздо хуже, кренилась вместе с Мавзолеем, Лобным местом и памятником Минину и Пожарскому. За Лобное место Серега не переживал, Минин и Пожарский и не такое видали, а вот судьбой Мавзолея Серега обеспокоился. Что будет, если Мавзолей даст слишком большой крен и Ильич начнет сначала шевелиться, а потом, может быть, и… Нет, нет! Да и за Минина и Пожарского стало ему неспокойно: кто знает, куда может привести их излишний крен? В Варшаву или Прагу на танках? Будучи человеком решительным, Серега превозмог тревогу.
– В тысяча девятьсот шестьдесят девятом году, – обращался он к прохожим, – то есть через два года после Шестидневной войны, произошел здесь, на Красной площади, загадочный инцидент, а именно: четверо неизвестных с классическими профилями (Серега многозначительно сдвигал брови) настигли у Кремлевской стены высокого человека по имени Веничка и били его сапогами. Человек этот убежал, а за ним бежали и те четверо. Поскольку дело закончилось убийством, предупреждаю вас об ответственности за дачу ложных показаний!
Серега помахивал книжкой «Москва – Петушки», намекая, что закладкою в книге – ордер на арест, в том числе почетного караула, если понадобится, но книжка с ордером при этом иногда выпадала у него из рук на брусчатую мостовую, а улыбки прохожих свидетельствовали, что Серегу не принимают всерьез.
– Ну да, – говорил Серега, – я немного пьян. Не рассчитал. Я, знаете ли, долгое время провел в Африке и на Ближнем Востоке. От тамошней жары меняется состав крови – тяжелее переносишь холод, и ослабевает сопротивляемость алкоголю. Но вы же понимаете, – говорил он, стараясь быть как можно убедительнее, – вдоль всей Кремлевской стены (Серега производил в этом месте широкий жест обеими руками) это, может быть, самое святое место! Вы знаете, что это был за человек? – и слезы готовы были показаться из Серегиных глаз. – Его и Теодор уважает, и Борис, и Аркадий с Виктором, и я тоже.
Сереге становилось все хуже и хуже, прохожие все чаще, оглядываясь вокруг, советовали ему идти домой и проспаться. Минин и Пожарский, склонившись, читали вместе оброненные им «Москва – Петушки», периодически поглядывали неодобрительно на Серегу, и на губах у них, казалось, возникает то самое грубое слово, которое прислал ему полковник Громочастный в ответ на доклад о потреблении электроэнергии текстильной фабрикой в Димоне.
Плохо Сереге… И еще глядят на него круглым циферблатом часы на Спасской башне, вот-вот ударят…
– А я вас знаю, – сказал Серега пожилой женщине с очень добрым лицом, – вы учительница Теодора, он мне о вас рассказывал.
Серега попытался, но не сумел вспомнить, как ее зовут. Имя было странное (татарское, что ли?), а фамилия – белого генерала.
– Поди проспись, милый, – ответила ему женщина.
Серега согласно кивнул и двинулся в сторону Манежной
площади. В висках у него стучало, ему стало казаться, что каменные часовые идут за ним и с каждым шагом бьют прикладом о брусчатку и вылетают пули из их ружей прямо в открытый космос.
Мысли об открытом космосе Серега не вынес, он сначала пошел быстрее, а потом и вовсе побежал…
ТЮРЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
Уже в дороге по знакомому подъему Теодор догадался, что везут его в КПЗ Русского Подворья в Иерусалиме, а потому не удивился, когда с верхней полки нар сквозь ржавую решетку увидел угол Троицкого собора.
Он не готовился к допросу, на котором все равно не собирался ни молчать, ни врать, ни выкручиваться. Но то ли русский собор в Иерусалиме, то ли сверхъестественная связь, образовавшаяся между Теодором и Серегой, который в это время удалялся с Красной площади по совету мнимой учительницы Теодора, толкнула Теодора-узника на воспоминания о своей любимой учительнице. Первое, что вспомнил Теодор с улыбкой, – как с задней парты встал решительно крупный Мунтян и пошел на учительницу, а она побледнела, когда он приблизился к ней. Он дохнул на нее в доказательство того, что не курит. Этого намерения Мунтяна никто не понял сначала, хотя дурного от добряка, никогда не поднявшего руку ни на одного из своих однокашников, никто не ждал. Но почему же она побледнела? Она рассказала об этом потом, с улыбкой. Всему виной была «Учительская газета», которую она прочла накануне, рассказавшая, как взбесившийся ученик плеснул кислоту в лицо учительнице. Но Мунтян? Ей? Эта смешная подробность, выставив учительницу в свете несвойственной учителям беспомощности, не только никак не повредила ей в глазах учеников, но даже как будто дала пищу для роста незрелой совести юных школьников, вдруг узнавших нечто новое о границах людской уязвимости.
Потом вспомнил, как, рассердившись на Теодора (притворно, чувствовал он) за то, что он передавал свои стишки на соседнюю парту, пока разворачивалось ею на доске доказательство теоремы, она вызвала его повторить объяснение. Теорема была простенькая, даже краем глаза успел он ее понять и без труда, употребляя слова «следовательно» и «таким образом», воспроизвел и формулировку самой теоремы, и ее доказательство. Еще сурово были сдвинуты брови, но на губах учительницы плясала улыбка.
И последним вспомнил Теодор выпускной экзамен. Он выполнил задание быстро, без ошибок и без труда, но, видимо, это беспечное «без труда» сказалось на бесшабашном стиле его доказательств. Она выкрала листки Теодора из сейфа и отправила его переделать работу на дом к другой учительнице, чей строгий стиль, видимо, ценила выше своего. Действительно, теперь все «следовательно» и «таким образом» стояли, как солдаты в строю.
Теодор попытался вспомнить школу. Первыми вспомнились доски коридорного пола, потом парты в классах, затем гулкий, но не тяжелый удар откинутой крышки парты. Цвет парт – черный. В некоторых классах – темно-зеленый. На парте – чернильница-непроливайка. Непроливайка, если (страшась) переворачивать, но если смело тряхнуть!.. Тогда чернильная очередь по девичьему школьному фартуку и слезы (может быть, ярость). И не догадаться, что чернильницы и ярость необходимо запомнить. Школьные чернильницы – керамические, довольно тяжелые. Кто доливал в них чернила? Ученики? Учителя? Техничка? Техничка – замена слову «уборщица». Как придумалось это слово? Технический работник? Социальная политкорректность советских времен. Женщина в синем халате со шваброй и тряпкой из мешковины. А разве не сами мы убирали классы? Ведь были дежурные ученики. Точно. Вот и выплыл из памяти учительский вопрос: «Кто сегодня дежурный? Смочите тряпку, сотрите с доски». Мел, если исписывался, кажется, приносили сами учителя из чуждой, как отделение милиции, учительской.
Была еще чернильница домашняя, элегантная, легкая, пластмассовая, приятного коричневого цвета, похожая на лежащую на столе маленькую фетровую шляпу с полями. Был холщовый, в чернильных пятнах мешочек для чернильницы, о который можно вытереть перо, если забыты специально для этой цели предназначенные кружочки ткани, сшитые между собой в центре. Кто эти кружочки вырезал и сшивал вместе? Мать? Бабушка? Он сам на уроках труда? Не вспомнить. А откуда брались эти комки на кончике пера, которые нужно было вытирать о матерчатые кружочки? Точно! Вот для чего еще были эти кружочки. Стоп, стоп! А мешочек для чернильницы с завязкой – для чего он был вообще? Если в классе были керамические чернильницы, зачем было приносить в портфеле из дома свою? И этого не может вспомнить Теодор. А какой был пенал? Длинный, некрашеный, из светлого дерева. Был еще какой-то расписной с лаком, но этот почему-то раздражает Теодора, и он его мысленно выбрасывает. Крышка пенала была тонкая, из пазов выдвигалась пальцем, упершимся в выемку. Такие выемки сохранились кое-где на крышках батарейных отсеков небольших электроприборов. Что было в пенале? Ложбинки под какие школьные ценности? Под деревянную ручку с обгрызенным концом (сначала гадким на вкус из-за краски, потом – ничего). У ручки этой на другом конце в щель между двумя хвостиками и охватывающим древко цилиндром вставлялось перо. Если у пишущей части пера отломить половинку, а крепежную его часть расщепить крышкой парты и вставить в щель оперение из половинки тетрадного листа, то получившийся снаряд даже со средних парт можно швырнуть так, чтобы он воткнулся в доску, пока учительница стоит у окна и ищет что-то в своей потрепанной сумке. Не при каждой учительнице позволишь себе такое. Но интуиция подскажет, когда можно, когда – нельзя. Какие были еще ячейки в пенале? Под карандаш, под резинку. Подо что еще?
Не вспомнить. Туманится. Теодор впадает в дрему. Пускай так и движутся в памяти тени, словно серая кошка, что длинным забором – блеклым, унылым – идет. Свой цвет получила в наследство от матери серая кошка, забору навязан он сыростью многолетних осенних дождей. Тюремные нары, больничная койка нередко приводят человека к мыслям о потустороннем. А тут еще – вид на угол собора через решетку. И когда смотрящий на собор сквозь решетку, подобно Теодору, – обычная личность, правосудием остановленная внезапно посреди жизни, зарождаются в голове глядящего смещенные в иные сферы мысли. О хрупкости жизни, о вечном и неизменном. Но противится им Теодор. Что это за мысли нарушенные лезут мне в голову? – спрашивает он себя. Ну да, положим, обычные мои мысли похожи на движение звеньев велосипедной цепи: проходим зубцы, видим педаль и ботинок, убегающую землю, резиновые шины, промельк колесных спиц… Ну и что?
Ломает себя Теодор. В пику новым мыслям вспоминает он лекцию об иудаизме, которой развлекал Серегу по дороге в Димону. То есть нельзя объяснить человеку иудаизм по дороге в Димону, да и Теодор – знаток иудаизма не более чем полковник КГБ – ангел, несущий миру Благую Весть. Потому сосредоточился Теодор в лекции на частном вопросе, а именно: на соответствии манеры ношения ермолки характеру и убеждениям того, кто пришпилил ее к своей голове специально для этой цели предназначенной заколкой. Конечно, после года в стране Сереге нет нужды объяснять, что с помощью ермолки прячется еврей не от солнца, а от Бога, и богобоязненный еврей поверх ермолки надевает еще и широкополую шляпу. Но и под ней порою находит его Всевышний. Ермолка, объяснял Теодор, лежащая на голове так, что центр ее совпадает с осью, проведенной через тело прямо стоящего еврея, выдает его заурядность. Потому и не стоят евреи прямо, и даже раскачиваются в молитве, растолковывал Теодор, чтобы нельзя было через них провести мысленную ось и сделать заключение об их заурядности. Ермолка, сдвинутая набок, указывает на лихость характера. Сдвиг назад, в сторону темени, – свидетельство опасного вольнодумства. Сдвинутая на самый лоб ермолка не говорит об этом лбе ничего – такой человек. Одноцветность и особенно черная бархатистость ермолки конституируют традиционное, чисто теологическое наклонение мысли. Цветная вязаность однозначно декларирует территориальные притязания к соседним народам.
В этих речах Теодора почудился тогда Сереге неприличный привкус кощунства, о чем он Теодору и объявил. Теодор энергично отпирался. Непризнание божественного происхождения иронии, утверждал он, является ужасной и распространенной ошибкой многих. Это у рвения запах серы, утверждал Теодор, это чудовищное кощунство, говорил он, представлять Бога полковником КГБ, над которым уже нельзя и приколоться по дороге в Димону. Мне недавно попалось на глаза, рассказывал Теодор Сереге, интервью с младшей сестрой Набокова. Журналист спросил ее о брате и Боге. Пожилая женщина ответила: «Мы с ним на эту тему никогда не разговаривали». Мятущийся разум, добавил Теодор (проследить, чтобы не закралась опечатка и не написано было бы «мутящийся»), мятущийся разум у человека от Бога. Страх перед Богом, говорил Теодор, имеет в своем основании убежденность в жестокости и порочности Бога, о которых опасно не только упомянуть, но и подумать. Иначе зачем бы его бояться? Богобоязненный человек, убежденный в том, что создан по образу Его и подобию, предоставляет нам надежное свидетельство своей тайной порочности и жестокости.
В том месте, где находится сейчас Теодор, принято опираться на авторитеты, и томик Набокова, переданный ему по его просьбе Баронессой, достает Теодор из-под подушки. Это ранние стихи и рассказы. Он полистал знакомые страницы, улыбаясь, вспомнил впечатление от прочитанного: из очевидного горячего юного желания написать что-то сногсшибательное выступали черты того фирменного, невоспроизводимого стиля, который мог быть даром только человека, умеющего различать бесконечные разновидности бабочек. Продолжая размышлять, Теодор с присущим ему экстремизмом объявил самому себе, что старая русская литература, Тургенев, Толстой, в общей перспективе уже заняла место на одной полке с Гомером. Даже авторский гуманизм Чехова теперь вдруг показался ему архаичным. Современный человек гуманен, рассуждал Теодор, потому что гуманизм заложен в нем от рождения и с самого детства развит и поддержан его культурной средой. От литературы же ждешь безразличного чуда красоты, и холстом для красок может быть все, что угодно. С отвращением отзываясь о любых формах насилия, будь то нацизм или большевизм, Набоков никогда не соблазнялся отварным книжным гуманизмом, отделываясь в публицистических статьях коротким: «Ненавижу жестокость». Да в самом деле, нужно ли что-то сверх этого? Очень большой мысленной лупой вооружается намеренно Теодор, вглядываясь в либеральные течения мысли, подозревая найти в них бациллы насилия.
Вернувшись к размышлениям о религии, Теодор объявляет (кому? темно-серому тому Набокова?), что лично он рассчитывает на прощение Всевышнего, соблюдая его моральные заповеди. Как может рассчитывать на это и его более радикальный товарищ – Борис, который даже за его, Теодора, женой, приударяет исключительно в присутствии самого Теодора.
«Так ли это сейчас, когда я в тюрьме?» – мерзким угрем шевельнулась мысль.
Вообще надо заметить, что, сколько бы ни курили фимиам мужской дружбе, сколько бы ни писали о ней повестей, сколько бы ни напускали в этих повестях ауры высокого благородства и бескорыстия, в ней останется хоть в каком-нибудь виде дух бега наперегонки. Настоящим другом мужчине может быть только женщина.
И вздыхает автор. Ведь вот, посулил читателю веселую прогулку по Святой Земле с настроением игривым и легким, и что же? Заманил героя в тюрьму, внушает ему грустные мысли, повествование не летит уже, а плетется, словно «Субару-Джасти» с литровым двигателем на крутом подъеме. Хорошо иному легкокрылому автору писать быстрые диалоги.
Как в крепко сбитом фильме выглядывает на заброшенном заводе из-за цистерны положительный герой и производит выстрел, так вставит автор пулю-вопрос, и летит ему в другой строке от отрицательного героя в ответ граната. А сзади подкрадывается к герою коварным вопросом в третьей строке какая-то видимая нам лишь со спины, громадная, вся в черном, личность с толстенным ломом в руках. И летят неполные строки с восклицательными знаками в конце, словно выбегают на помост танцовщицы с напряженными ногами и взмывающими руками, в платьях, которые что-то прикроют на время только с тем, чтобы тут же взлететь и открыть. Не так это у автора, утомляющего читателя мировыми проблемами. Просыпается он среди ночи, прикидывает, который час, и вихрятся в его голове ночные мысли. Включит лампу над прикроватной тумбой. 4:30. Не время включать компьютер. И скрипит, и ползет перо по шершавой бумаге, пока не забрезжит сквозь жалюзи серый рассвет.
Ключ вошел в замок и повернулся в нем с тем грохотом, который он производит в дверях камер в пустых коридорах тюрьмы. Такими делают и ключи, и двери камер, и тюремные коридоры для того, чтобы в фильмах пугать зрителя. Вот и в нашей тюрьме дверь такая, что при толчке, ее открывающем, она резко пищит, будто клоун-обидчик хлопнул надувным молотком другого клоуна по носку длинной туфли.
– П-п-и-и-и-и-и-у-у-у-у-у… – ноет дверь, закрываясь под собственным весом за спиной вошедшего конвоира, словно этот другой, обиженный клоун, стоя на одной ноге, притворно плачет, демонстрируя детям в цирке причиненную ему понапрасну обиду.
Уводят на допрос Теодора.
Допрашивавший его офицер, довольно быстро почувствовав, что Теодор не врет и не пытается вводить в заблуждение следствие, объяснил ему причины ареста. Методика отвлечения офицеров ПВО эротическими беседами не была раскрыта противником, как ошибочно полагал Теодор, и до последнего времени оставалась в числе трех наиболее охраняемых секретов Еврейского Государства. Даже президент, прикреплявший к футболке Теодора шестиконечную золотую звезду, тот самый президент, который в свои молодые годы основал текстильную фабрику в Димоне (весьма рентабельную, кстати; изготавливаемые ею носки носит весь арабский мир, принимая их за египетские), так вот, даже он не знал, за что в точности награждает Теодора. Ведь стратегия блефа составляет первый военный секрет Еврейского Государства, а тактика блефа – второй. При этих словах ужас мелькнул в глазах у следователя, он прикрыл рот ладонью и посмотрел на Теодора совершенно затравленным взглядом. Теодор принялся успокаивать следователя, уверяя его, что услышанное останется между ними, что он никогда не наступает дважды на одни и те же грабли, главное, чтобы грабли действительно были одними и теми же. В общем, вскоре следователь и Теодор чувствовали себя словно друзья со школьной скамьи, и следователь заговорщицки подмигнул Теодору, а Теодор лихо подмигнул следователю, оба они рассмеялись, и ладони их с растопыренными пальцами встретились в звонком хлопке над столом, а затем сомкнулись в дружеском рукопожатии.
– Но как же осталась в секрете методика эротических бесед? – спросил Теодор в недоумении. – Ведь здравый смысл подсказывает, что нельзя было не догадаться, каким еще способом можно отвлечь офицеров ПВО от исполнения служебного долга.
– Упование на здравый смысл – наша извечная национальная проблема, – сказал следователь назидательным тоном, – то есть не сам здравый смысл – проблема, он-то необходим. Проблема начинается там, где есть убеждение, что здравый смысл – универсальный ключ-мастер, которым отпираются все двери. Тогда и результат – любительщина и халтура.
– Фашла, бывает, – сказал Теодор и покраснел.
– Офицеры ПВО противника оказались не такими олухами, – продолжил следователь, – они, услышав взрывы на охраняемом ими объекте, мгновенно сообразили, чем им это грозит, представили, как перед строем курсантов ПВО будут лишены мужского достоинства, и успели сговориться твердить одно: «искры на экране». О большей детализации сговориться они не успели, на их счастье, и поэтому один твердил: «искры плясали по экрану», другой говорил: «искры прыгали по экрану», третий, сноб и тайный гомосексуалист, заявил, что «искры перемещались по экрану в хаотическом беспорядке». Контрразведка противника на основе этих разночтений сочла, что сговора не было, и обратилась к русским с просьбой разведать, какие средства электронных помех применяет противник, то есть мы с тобой. Теодор уже готов был высказать новые предложения, но следователь выставил над столом упреждающую ладонь.
– Не хочу знать, – сказал он, и Теодор смутился. – А ведь тебе хотели поручить создание новой серии эротических бесед, – добавил следователь с сожалением, – теперь не поручат.
Теодор огорчился, но потом воспрянул духом и предложил:
– А давай подготовим, может быть, пригодится все же.







