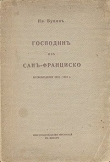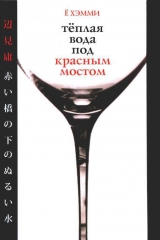
Текст книги "Теплая вода под красным мостом"
Автор книги: Ё. Хэмми
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Ливень
Однажды дождливым утром, в середине сентября, когда я ещё крепко спал, из деревни позвонила мать. Она сообщила, что, конечно, о настоящем выздоровлении речь не идёт, но её всё-таки подлечили и выписали из больницы. Когда я выразил радость по этому поводу, мать заметила: «Что-то голос у тебя такой кислый!» Она умолкла, словно ожидая моей реакции на её слова. Мне представилось её высохшее, слабое, болезненное ухо, прижатое к телефонной трубке далеко-далеко от меня.
Я робко прижал своё ухо к трубке. К тому времени у меня созрело решение уволиться из страховой компании, но я пока не стал говорить об этом матери.
Со скрытой досадой я жестко ответил:
– Да нет, у меня всё в порядке.
Мать с сомнением в голосе спросила:
– Это правда? У тебя просто ужасный голос! Что-то случилось?
Мы замолчали.
Некоторое время спустя до моего слуха донеслись странные звуки, похожие на завывания северного ветра. Может быть, это мать рыдает на другом конце телефонной линии? Может, ей так и не удалось подлечиться? Сердце учащённо забилось, я весь обратился в слух. И тогда к шуму ветра добавились звуки воды, словно пробившейся откуда-то из-под земли. Постепенно мягкий шум воды стал слышаться более чётко, жидкость просочилась через отверстия в телефонной трубке и намочила мне ухо. Это были дорогие звуки воды из тела Саэко. Решив, что мать не должна их слышать, я тут же положил трубку. Ухо горело. Я прижал его к подушке, но звуки воды всё не исчезали. Из подушки с рисовой шелухой доносился шелестящими звуками лёгкий шум воды Саэко.
Я лёг и продолжал слушать.
В этот день вода совсем перестала выливаться из тела Саэко.
Сколько я ни давил на тело женщины, сколько ни обсасывал его, тряс и переворачивал, не вылилось ни единой капельки. Когда я перевернул Саэко вверх ногами и стал шлепать по её телу в надежде извлечь из «бутылки» хоть ещё одну, последнюю, каплю, она раздражённо отрезала:
– Хватит! Ничего больше нет! А раз нет, то не нужно пытаться что-то извлечь.
Это был звук пустой бутылки.
В моей голове возник образ большой бутыли, оставленной на дне высохшего озера. Хотя эта бутыль до краёв наполнена замечательными воспоминаниями о воде, воды в ней больше нет, вся вытекла до капельки.
Саэко сияла:
– Как хорошо! Ну, признайся, честно… Ты тоже рад? Я так тебе благодарна. От всей души!
Я повторял: «Очень хорошо, просто замечательно».
По контрасту, как бы по иронии природы, за окном хлестал ливень.
Река Кигосигава несла свои воды с таким шумом и грохотом, что, казалось, сотрясался весь дом. Море вздымалось сине-чёрными волнами. Саэко и я стояли у окна, обращенного в сторону реки. Жёлто-чёрные потоки воды с ревом обрушивались на опоры красного горбатого моста и взлетали вверх. Паровой воды не было видно. Не было видно никаких странных луж. Казалось, потоки грязной воды унесли всяческие воспоминания и о карпах с их мальками, и о близнецах-неграх, и о зелёном зонтике, и о полосатой рыбешке из семейства окуневых, и об итальянском сыре с длинным названием, и о фейерверке – всё ушло. Разорвало и унесло, как грязь, всё-всё звенья цепи, соединяющие бесчисленное множество явлений, людей, животных и предметов.
Саэко проговорила:
– Как-то там Пепе и Пипи?
«Холодная роса»
Но я всё никак не мог поверить, что из такого объема тепловатой воды не осталось ни капельки. Когда затяжные сентябрьские дожди наконец прекратились, когда река и море вновь окрасились густым синим цветом и на обочинах дорог заблестели лужи, меня опять потянуло к воде. Видно, такой уж у меня характер. К тому же я был весь пропитан воспоминаниями о воде.
Не знаю, где прятались Пепе и Пипи, но однажды в лунную ночь они неожиданно появились и возобновили свои энергичные полёты вокруг красного горбатого моста. У меня возникло ощущение, что прервавшиеся связи стали восстанавливаться. И появилась надежда, что восстановятся и водные «артерии» в теле Саэко.
После того, как иссякла вода, я старался уклоняться от разговоров о возможном браке. Теперь мои мысли текли совсем в другом направлении. Хотя меня ни о чём таком не просили, я был намерен триумфально вернуться к Саэко в качестве единственного сакрального ключа к воде. Если разобраться, то, вообще говоря, и два литра вполне сойдет. А ведь раньше столько воды было растрачено бездумно, попусту! Ведь тогда я даже не думал о том, чтобы как-то её регулировать: пусть себе течёт и течёт; исторгнутую воду я бездумно выливал. Теперь же мне хватило бы и двухсот миллилитров. Как путешественник в пустыне Такла-Макан, я был готов беречь каждую порцию воды и выпивать её понемногу, капелька за капелькой. Сейчас я раскаивался в собственном легкомыслии – ведь я выпил всю воду в самом начале своего путешествия по пустыне.
С того самого ливня я и пальцем не коснулся Саэко. У меня появилась надежда, что постепенно в её теле всё-таки скопится хоть немного воды. И вот в день, когда на отрывном календаре в офисе нашего отделения появился листок с надписью «Холодная роса» [2]2
«Холодная роса» – название пятого сезона осени, с 8 октября.
[Закрыть], я перешёл через красный горбатый мост и, оказавшись в доме Саэко, предложил:
– Давай после такого перерыва вновь полежим на тёмно-синем плаще.
Я подспудно надеялся, что плащ, с которым было связано столько воспоминаний, вызовет воду. Саэко взглянула на меня так, будто узрела говорящий шкаф. А потом бесстрастно сказала:
– Ты шутишь?! Сейчас холодно. Да и воды уже давно нет!
– А вдруг? Может быть, что-то скопилось.
– Нет, уже нет!
– Но ведь и в пересохшем колодце может вновь появиться вода. Ведь бывает, что даже далёкий и слабый толчок землетрясения возвращает воду в пересохшие русла…
– Во мне уже нет воды!
– Раз нет, значит нет. Но ведь можно же попробовать. На всякий случай примем меры предосторожности…
Саэко не спеша достала тёмно-синий плащ и расстелила его на циновках. При этом она твердила, что воды нет, и всё это глупости.
Действительно, из её тела не вылилось ни капельки воды. Был лишь запах тепловатой воды, въевшийся в плащ ещё в летние дни. Под влиянием этого памятного запаха я надавил на тело Саэко, навалился на него как дорожный каток, всячески пытаясь извлечь хоть несколько капель.
Саэко расплакалась и взбунтовалась. Тут из-под циновок послышались неприятные звуки: в пол снизу, из комнаты на первом этаже чем-то стучали. Через окно, обращенное к морю, влетели Пепе и Пипи; повиснув на карнизе, они с беспокойством заглядывали в комнату.
Мы изменили позы и уселись на циновках. Получилось так, будто мы сидели на дне бассейна, из которого выпустили воду. Из-под циновок по-прежнему доносились звуки ударов о пол: ба-бах!
Саэко попыталась объяснить:
– Это бабуля сердится. Она стучит в потолок ручкой метлы. Требует, чтобы ты убрался! Она знает, что воды уже нет, а ты всё пытаешься извлечь её из меня.
Я опустил голову. Женщина продолжала:
– Ты не можешь любить пустую флягу! Ведь на самом деле ты любил флягу, наполненную водой. Ты любил воду!
Мне подумалось: она имеет в виду, что я любил только крем из вафель, только заварной крем из пирожного, только самую сердцевину ореха, только содержимое пирожка с мясом, только икру из сельди, только сок плодов кокоса… Потом я попытался рассуждать от обратного: вафли без кремовой начинки, оболочка пирожного без заварного крема, сердцевина без ореха, пустой кокосовый орех… Слова Саэко показались мне справедливыми.
Из-под циновок продолжал доноситься глухой стук:
– Ба-бах!
Саэко направила на меня палец:
– По сути вода была стыдом, а я – вместилищем стыда. Ты любил только стыд и не был способен любить вместилище. Ведь так! Признайся!!
В меня будто стреляли из пистолета. Голос Саэко разносился так, как если бы мы находились на дне пустого бассейна.
Я спрашивал себя: неужели ещё совсем недавно мне доводилось всякий раз омываться двумя литрами стыда при встрече с этой женщиной!? Тот стыд был тепловатым, и мне в самом деле было чертовски хорошо.
Саэко продолжала:
– Ты, этот самый, ну… как называется человек, у которого нет дефектов? Ну, ты же знаешь.
– Ты имеешь в виду «здоровый человек»? – тихо подсказал я.
– Да, именно! То, что ты говоришь, это удобная логика здорового человека, который получает удовольствие от страданий других.
Вот оно как? Я не мог ни возразить, ни согласиться. Внизу продолжала бушевать бабуля:
– Ба-бах, ба-бах!
Я осторожно перешёл в наступление. Задал Саэко вопрос, который уже давно сидел у меня в голове:
– Тебе было плохо? Тогда, когда мы изгоняли из тебя воду?
Саэко в раздумье наклонила голову. Потом подняла её:
– У меня было двойственное чувство. Одно накладывалось на другое. Стыд сочетался с удовольствием. Но я старалась разграничить их. Всё время думала, что это следует сделать.
Я вздохнул.
А разве бывает так, что человеку хорошо и при этом не стыдно?
Возьмём такой случай: октябрь, человек лежит на морском пляже, краем глаза посматривает на скопление облаков над головой и на море у ног, дремлет. У него хорошее-хорошее настроение, но не таится ли в глубине души чувства стыда? Очнувшись от полудрёмы, он видит, что из-за туч хлынул сноп солнечного света, он омыл море и его самого. Это вызывает восторг и радость. Но не сопровождается ли радость чувством смертного стыда? Орган. Фантазия для хорала. О, как приятно! О, как стыдно! Если переосмыслить и обобщить, то не окажется ли, что ощущение радости непременно сопровождается чувством стыда или постыдно само по себе? И нельзя познать подлинную радость, если она не сопряжена с острым чувством стыда? Остаться человеком, которому чувство стыда незнакомо? Нет, всё-таки, много любовного сока, этой тепловатой воды, воды стыда – это самое замечательное ощущение в мире!.. Всё это я хотел сказать Саэко. Хотеть-то хотел, но не мог как следует объяснить.
Летучие мыши с длинным научным названием, свесившись, как всегда, вниз головами, смотрят на меня. По их представлению, это я повернулся вверх тормашками и смотрю на них именно с этой позиции. Возможно, всё это представляет собой перевёрнутую с ног на голову картину в конце, нет, в самом начале цепи, связывающей Саэко, меня и летучих мышей.
Бабушка всё ещё стучала в потолок.
Вглядываясь мне в глаза, Саэко изрекла:
– Я решила провести чёткую грань между радостью взаимной плотской любви и стыдом. Потому что в мире нормальная половая любовь не сопровождается таким постыдным выделением воды; вообще, не сопряжена с выделением воды. Теперь и я стала такой, как всё.
Её слова содержали в себе утверждение и вопрос: воды нет! Что ты теперь будешь делать? Мой рот широко раскрылся, словно бы я стал свидетелем того, как земная твердь, до этого безмолвствовавшая, вдруг с грохотом разверзлась. Я ответил, словно подвел черту:
– Я люблю Саэко, из тела которой изливается много воды.
Я ещё не успел закончить фразу, как она резко ответила – словно сломалась ветка сухого дерева:
– Расстаёмся?!
Старуха бушевала внизу:
– Ба-бах, ба-бах!
Я поставил лишь одно условие нашего расставания.
Я сказал: ты обязана это сделать; я настоятельно прошу тебя совершить один ужасный поступок; для меня это последний шанс, если ты сделаешь это, я оставлю тебя в покое и молча уйду.
Выслушав меня, Саэко, раскрыв рот, уставилась на меня так, будто у меня из глаз выползли золотистые улитки.
(С вашего разрешения позволю себе сократить последовавшую затем долгую перепалку. Ведь для того чтобы она, хоть и с неприязнью, всё-таки согласилась на мою просьбу, потребовалось добрых три часа).
Вначале ответ Саэко был однозначным: нет, ни за что! Однако в конце концов я выжал из неё пассивно-положительный ответ. Я просто насел на неё, потребовав принять во внимание мои колоссальные физические и душевные усилия по изгнанию воды из её тела. Другими словами, как бы настоял на вручении мне «Премии за усилия по извлечению воды». Я действовал не по-мужски, но тогда я был вне себя. Мы договорились о дне, часе и месте нашей встречи, и я покинул дом Саэко. Её бабушка продолжала стучать метлой в потолок вплоть до самого моего ухода.
Сыр
Стояло «бабье лето», был воскресный день. У касс супермаркета стоял мужчина с лицом человека, только что побывавшего на заупокойной службе. Это был я, в сером костюме, белой рубашке и галстуке в чёрную крапинку на темно-коричневом фоне. Щёки у меня ввалились, ноги подкашивались от слабости. Скорее всего, она не придёт. Будет вполне естественно, если она не придет. Однако я терпеливо ждал. С каждой минутой ожидания мои щёки вваливались всё больше и больше.
Она появилась с девятиминутным опозданием. На ней были синее пальто и светло-голубой шарфик. Саэко. В ушах трепетали золотые серёжки в форме рыбок. Я не понимал, чего было больше в её наряде – безвкусного пижонства или желания напомнить о летних днях. Однако от золотистого сияния у меня стало жарко в груди. Она сняла пальто и подала его мне. Под пальто было модное платье от Foxey, как если бы женщина явилась на встречу после банкета. Светло-синее мини открывало колени.
Народу в магазине было не так уж много. Мы бок о бок направились в отдел импортных сыров. За одной из витрин появились лица двух тётушек из нашего отделения. Они стояли рядом друг с другом у прилавка с сушёными овощами и сушёной рыбой. И тут у прилавка с консервами появились, можно сказать, две чёрные бомбы. В ухе каждой из этих бомб красовались серебристые клипсы. Это были близнецы-негры, которых мы видели у моста Итинохаси. За их спинами со сверкающим взором маячила одетая в цивильное Сумирэ Кавасима, ответственная за предотвращение краж в супермаркете.
К нашей радости, в отделе импортных сыров не оказалось ни одного покупателя. От полок с сырами исходил ярко выраженный молочный запах.
На прилавке лежал лишь один овальный кусочек того самого итальянского сыра с длинным названием. На полках лежали и круглые, и квадратные куски, но самым красивым определённо был кусок нашего итальянского сыра с оранжевыми полосками, похожий на лепешку.
Мне показалось, что по закону круговорота всего и вся в магазин вернулся именно тот кусок, что в своё время был съеден мной и Саэко. Женщина прошептала:
– Ну, надо начинать… Да?
Я ответил также шёпотом:
– Да. Начнём.
Я отошёл от неё и направился в находящийся в том же проходе хлебный отдел, оглядываясь по пути на прилавок с импортными сырами.
Саэко глубоко вздохнула. Потом максимально выпрямила свою красивую шею, шею фламинго. Я внимательно вглядывался в её уши. Серьги в форме рыбок слегка подрагивали, распространяя золотистый блеск по всему торговому отделу. Правая рука женщины дрожала. Затем рука открыла застёжку дамской сумочки. Та же рука с лёгким подрагиванием протянулась к полке с сырами. Я затаил дыхание. Длинные пальцы охватили кусок. Плоский белый кусок, подрагивая, поплыл вверх. А затем, как бы полуигриво, кокетливо исчез в дамской сумочке. Картина из нынешнего лета воспарила в воздухе, полностью наложилась на картину у меня перед глазами, и они образовали единое целое.
Наши действия начались. Действия по восстановлению цепи событий, думал я. Глаза непроизвольно моргали. Это мой последний шанс. Колени дрожали не то от усталости, не то от возбуждения.
Саэко, будто замороженная, прекратила всяческие действия. Её карие глаза впились в табличку с надписью «Импортные сыры». Я опустил глаза к её ногам. Бежевый пол поблёскивал. Я поднял глаза. Губы Саэко слегка трепетали. Подрагивали, как плохо отрегулированный мотор машины. Я простонал:
– Саэко, давай!
– Сейчас! Лейся, ну лейся же!
Дрожь прекратилась. Женщина медленно оглянулась на меня. Её лицо сияло и смеялось. Длинная шея была наклонена набок. Изо рта доносились беззвучные слова: «Не вылилось. Ни капли. Прости меня!»
Я всё ещё смотрел под ноги Саэко. В ожидании появления желанной лужицы. Да, это было прекрасное, самое лучшее лето.
Саэко подошла ко мне. Взяла у меня пальто. Как бы взамен достала из сумочки кусок сыра и быстрым движением сунула его в карман моего пиджака.
Сказав плачущим голосом «до свидания», женщина исчезла, словно испарилась.
На этом рассказ о воде заканчивается. У меня нет ни раскаяния, ни объяснений
Что произошло потом? Перед возвращением в Токио я попробовал пройтись по красному горбатому мосту. Бросив через перила взгляд на реку, я увидел, что внизу знай себе течёт не имеющая ни цвета, ни запаха холодная вода, представляющая собой сочетание двух атомов водорода и одного атома кислорода. Саэко и её бабушки не было: они сменили место жительства. Не было также Пепе и Пипи. Дом был весь оплетён текомой, как чёрной колючей проволокой. Вот и всё. Я до сих пор обращаю внимание на лужи и лужицы, где бы они ни попадали мне на глаза.
Ни до, ни после этих событий вода не вызывала у меня желания задуматься или извлечь какой-то урок.
Ночной караван
Вокруг не было ни единого огонька. Не было, сколько мы ни продвигались вперёд, всё дальше и дальше. Казалось, что мы перемещаемся во чреве кита. Темень была просто жуткая, только теплый липкий ветерок обдувал наши лица. Пахло чем-то сладким и одновременно свежей рыбой. Над деревьями то появлялись, то исчезали какие-то светящиеся точки, однако то были не звезды. Казалось, источником этого неустойчивого свечения был скользкий жир, скопившийся во чреве кита. Наша восьмёрка двигалась вперед во мраке, не изменяя направления. Первое время мы помалкивали и лишь вдыхали и выдыхали тьму.
Всё двигались с одинаковой скоростью. Медленно-медленно. Не приближаясь и не отдаляясь друг от друга. Стояла такая темень, что нельзя было даже представить, что где-то впереди может быть свет. У меня было чувство, что всё мы превратились в неких безглазых паразитов, обитающих в желудке кита. Восемь лишённых зрения паразитов копошились на чёрных стенках желудка. И медленно ползли в одном направлении, полагаясь лишь на свой нюх.
Мы перемещались на четырёх «сикло». Это некий вьетнамский вариант велорикш; делают их следующим образом: с велосипеда снимают переднее колёсо и вместо него крепят двухколесную коляску; водитель-рикша жмет на педали – и коляска едет вперед. Нас было шесть мужчин и две женщины. Четверо пассажиров: двое мужчин, включая меня, и две женщины. Вторая четвёрка – водители-рикши.
Мы двигались вперёд единой колонной. Восемь человек, половину из которых составляли пассажиры, а вторую – крутившие педали рикши, тихо-тихо двигались во тьме по одной и той же дороге. Будто бы волей некоего фокусника меня вознесли вверх, в чёрную пустоту небес. Я сидел, выпрямив спину и чинно сложив на коленях руки, весь ужасно напряженный. В такое состояние приводит человека перемещение колонной. К тому же глубокой ночью. Мне казалось, что сидеть в расхлябанной позе, скажем, положив ногу на ногу, просто непозволительно. Женщина постарше ехала в голове колонны, за ней – молоденькая с длинными волосами, третьим был мужчина с заячьей губой по имени Ньем, а замыкал колонну я. Спиной я чувствовал тяжёлое, хриплое дыхание рикши.
Женщина, ехавшая впереди, обернулась и что-то сказала. Следовавшая за ней молоденькая засмеялась и, обернувшись назад, через плечо сидевшего за ней рикши передала «эстафету» Ньему. Он не засмеялся. Но, также через плечо своего велорикши, перевёл для меня на английский:
– Она сказала: «Мой покойный отец говорил мне, что у вшей нет глаз. Хотя отец сам был слепой».
Вши не знают границ… Услышав про вшей, я тут же припомнил эту поговорку. Вши живут, перемещаясь с волоска на волосок. Может быть, потому, что у них нет глаз? Лишённые зрения, вши постоянно пребывают во тьме, для них нет ни грязи, ни света. У меня засвербило в промежности, и я через карман брюк почесал в паху. Около месяца назад я подцепил лобковых вшей.
Навстречу нам двигалось нечто с одним светящимся глазом. Это «нечто» было похоже на одноглазую глубоководную рыбину. Послышались дребезжащие звуки. Всё наши рикши прижались к правой обочине и встали. Одноглазое «нечто» оказалось мотоциклом. Сразу за ним, с грохотом, от которого сотрясалась земля, неслось что-то, похожее на огромный чёрный ящик. Похоже, мотоцикл сопровождал этот «предмет». В темноте я бросил взгляд на встречный сгусток мрака. «Предмет» оказался автобусом. И передние, и задние фары были разбиты, так что света не излучали. Всё боковые окна были открыты, и через них в салон беспрепятственно лился ночной мрак. Можно было разглядеть лишь металлические оконные рамы, а стёкол, возможно, не было изначально. В автобусе сидел один водитель; но только мне в голову пришла эта мысль, как я заметил ещё одного человека, сидевшего у окна. Его чёрное лицо было повёрнуто в сторону. Вид у него был очень важный, возможно он путешественник.
Запах бензина и пыли рассеялся, и в воздухе снова потянуло чем-то сладким, смешанным с запахом свежей рыбы. Мы продолжили путь.
Первая женщина опять что-то громко выкрикнула. В ответ вторая женщина снова засмеялась, на сей раз как-то заискивающе. Она передала сказанное по эстафете Ньему, а тот перевёл для меня на английский.
– Она говорит: «Отец рассказывал мне, если вши заведутся у чернокожего, то и сами становятся чёрными, а если у белого, то становятся белыми. Хотя отец был незрячим».
Мне подумалось, что в окружавшей нас темноте вши, по всей вероятности, абсолютно чёрного цвета. Почёсывая в паху, я попытался припомнить имя ехавшей впереди женщины. Я виделся с ней в борделе с месяц назад. У женщины было крупное лицо. На левой щеке красовался свежий синяк. Синяк был огромный, величиной с ладонь. Когда Ньем появился из глубины комнаты, я невольно обратил внимание на его не очень чистую правую руку. Тогда я помнил её имя, а тут вдруг забыл.
Ах да, её зовут Дзуон, Дзуон. Думаю, что это она наградила меня лобковыми вшами. Она подарила мне вшей, которые не имеют органов зрения и меняют свой цвет в зависимости от цвета кожи хозяина. Дзуон, прячущая в темноте огромный, величиной в пол-лица, синяк и пестующая в волосах на лобке множество чёрных вшей, сейчас бесстрашно едет во главе нашей колонны. Она вроде как наш командир и ведет караван за собой.
Мы уже проехали, пожалуй, километра два… Мой нос ощущает резкий, тяжелый запах пота, исходящий от сидящего сзади рикши. Он похож на запах влажной грязи. Дыхание у рикши более хриплое, чем в начале пути. Сколько можно ехать без отдыха? Не разорвётся ли у него сердце? Меня охватило беспокойство. Но оно тотчас же растворилось во мраке.
Деревья, тянувшиеся по обе стороны дороги, кончились, справа в темноте возвышалась дамба. Я сказал «деревья», «дамба», однако всё это условно. Очертания были настолько нечёткие, что я не мог утверждать это с определённостью. Я просто имел в виду, что чёрный цвет «аллеи» и «дамбы» был иным – глянцевито-блестящим по сравнению с окружавшим нас мраком, они словно проникали сквозь него – или скорее отталкивали окружающую тьму. Такое складывалось впечатление. Вот что я имел в виду. Ведь впечатление – это главное. Трудно поверить, но, поддавшись впечатлению, я потянул за ниточку воображения и на холсте мрака нарисовал целую картину. Я чувствовал, что слева простирались заливные рисовые поля. Прежде я думал, что дорога, по которой мы ехали, совершенно прямая, а она, скорее всего, понемногу уходила вбок. Возможно даже, где-то мы свернули совершенно на другую дорогу. Если бы это было не так, то смог бы я, когда пропали деревья, столь остро почувствовать близость дамбы и заливного рисового поля? С другой стороны, вполне возможно, что это только иллюзии. Ниточка воображения, за которую я потянул, и то, что скрыто во мраке, могут не совмещаться друг с другом. И тут мне страшно захотелось услышать плеск воды и кваканье лягушек в подтверждение своих догадок относительно дамбы и полей. Но ни плеска воды, ни кваканья пока не было слышно. Если я прав, то хотя бы должен быть запах воды. Так и есть: из-за горы справа, которую я в темноте принял за дамбу, в самом деле доносился запах воды. А за дамбой во тьме, возможно, медленно-медленно струит черноту большая река.
Мы продолжаем продвигаться колонной. Возможно, вдоль чёрной реки.
Неожиданно молоденькая женщина низким голосом затянула песню:
Мэтой дай эндзак бьен сяу…
Ботой дай эндзак бьен сяу…
Я расслышал только это. Хоть женщина была совсем юной, голос её временами звучал как-то надтреснуто, сипловато. Заключительные музыкальные фразы, монотонно повторяющиеся, звучали на тон выше. Последние такты всегда были ударные. Мелодия напомнила мне песню маленькой нищенки, которую я встретил на пути из Ханоя в Ланг Сон. Она отбивала такт, аккомпанируя себе двумя зажатыми в пальцах алюминиевыми ложками. Поскольку до повышения тона в конце фразы практически не было никаких модуляций, пение было скорее похоже на мелодекламацию. Мне подумалось, что для нашего каравана, едущего куда-то кромешной ночью, подобная мелодия, возможно, именно то, что нужно. Мы двигались колонной в такт песне, которую пела молоденькая женщина.
Иногда я смотрел на всех нас как бы издалека, со стороны рисового поля. Четверо велорикш, сохраняя равную дистанцию, словно скользят в пахнущей рыбой тьме. И пейзаж представлялся мне выхваченной ножницами из общего мрака четырехугольной картинкой. Дзуон, молоденькая женщина, Ньем, я… Всё сидят в чопорных позах, выпрямив спины. Мы замерли, почти не шевелясь, только пристально вглядываемся в подступающую вплотную тьму. Ветер треплет длинные волосы молоденькой женщины, лежащие свободными прядями, и они касаются носа сидящего сзади рикши. Всё рикши нагнулись вперед и натужно крутят педали. Процессия большеголовых чёрных ворон. Глядя со стороны на эту картинку, я невольно задавался вопросом – а куда, собственно, эти люди едут в такую тёмную ночь?
Мэтой дай эндзак бьен сяу…
Ботой дай эндзак бьен сяу…
Я спросил Ньема, о чём поёт молодая женщина. Он как-то сердито сказал, что не знает. Я попытался вспомнить имя поющей. Перед отправлением я поинтересовался в заведении, как её зовут. Она была новенькой и сидела в глубине комнаты. Кассетник китайского производства крутил песни дуэта «The Carpenters» [3]3
Популярный американский поп-дуэт из Коннектикута, 1970-е гг.
[Закрыть]. Рядом в какой-то фатоватой позе стоял Ньем. Я всё пытался рассмотреть его правую руку. Так, чтобы он не заметил. Мне отнюдь не улыбалось, чтобы меня двинула по физиономии та же рука, которая, возможно, ударила Дзуон. Как-то не хотелось красоваться с синяком на щеке. Кривя свои темно-красные губы, Ньем спросил на английском, готов ли я отдать пятьдесят долларов. Когда я сказал, что это слишком дорого, он скостил цену до тридцати:
– Её зовут Ха. В переводе это означает «река», точно так же пишется слово «Ханой». Распространённое имя. Она приехала из До Сона. Очень тихая и покладистая девушка.
Ха. Река. У неё маленькое личико, внешние уголки глаз чуть опущены, что, вероятно, и свидетельствует о покладистости. Примерно треть своих длинных волос она свесила тогда на лицо, и, глядя на меня через рассыпавшиеся волосы, засмеялась. Смех у неё был мягкий.
Наша колонна теряла скорость. Водители уже слишком устали. Но мы всё-таки продвигались вперед, правда гораздо медленнее.
Ха умолкла. Зато теперь послышался голос Дзуон. Ха коротко рассмеялась и передала «эстафету» Ньему. Ньем с выражением лёгкой досады лениво перевёл для меня на английский:
– Дзуон говорит: «Есть особая разновидность вшей, они очень белые и блестящие. Когда их много, то кажется, что они испускают сияние. Такая разновидность вшей похожа на головных и платяных вшей, тельце у них длинненькое. Это всё рассказывал мне отец. Хотя сам был слепым. А мне ещё не доводилось видеть сияющих вшей».
Закончив переводить, Ньем глубоко вздохнул. Словно выпустил из себя в тёмную ночь чёрный воздух подобно тому, как каракатица исторгает чёрную жидкость. Поскольку кожа человека, что ни говори, своего рода полупрозрачная оболочка, то сейчас, когда на нас давит окружающая тьма, всё мы пропитались ею, вплоть до сердцевины легких – и стали чёрные-пречёрные. Тьма проникает в нас, пронизывая тела. И только вши светятся белым блеском. Головные вши, платяные вши, лобковые вши, вши животных, вши-пухоеды… Какие-то особи из этих многочисленных вшей, скопившись вместе, даже в такую беспроглядную ночь испускают белое свечение. В их белом свечении высосанная кровь всплывает клубком тонких дождевых червей. Многочисленные вши, угнездившиеся в длинных волосах Ха и на лобках Дзуон и меня самого, путешествуют вместе с нами, испуская тусклый белый свет. Лобок едущей во главе колонны Дзуон светится белым светом. Волосы Ха сияют, как рождественская ёлка. У меня, замыкающего колонну, тоже сияет лобок, как и у Дзуон. Всё мы по очереди испускаем свет. Так вот и движется наш караван в кромешном мраке.
Я невольно бросил взгляд на свою промежность. Мне и впрямь показалось, что я разглядел несколько лучиков, тонких, как острие иголки. Ещё раз почесался через брючный карман. Белые лучики заколебались.
Тут Дзуон громко взвизгнула. Явно от страха. Ха, как по эстафете, передала этот крик Ньему, а он – мне. Ньем тоже был перепуган:
– К нам приближается что-то огромное и сверкающее. Может, это полиция.
Рикши прижали «сикло» к обочине, ближе к дамбе. И Дзуон, и Ха, и Ньем, и я – всё выпрыгнули из колясок и присели на корточки в придорожных высоких густых зарослях. Рикши легли ничком, вероятно, от усталости. Затаив дыхание, мы пережидали, пока нас минует это огромное и сверкающее нечто. Вновь пахнуло водой, на запах воды наложился аромат свежей травы. Слегка приподнявшись, я следил за надвигающимся на нас предметом.
Появились четыре ярких, сверкающих круга. Два – впереди, два – сзади. Всё в вертикальном положении. Машины двигались гораздо медленнее, чем мне показалось вначале. Огни постепенно увеличивались в размерах и совсем ослепили меня. Мои глазные яблоки словно взорвались, свет брызнул во всё стороны.
Это были огромные, мощные тягачи. Два тягача. Земля задрожала. Заросли травы заволновались и полегли, как от сильного порыва ветра.
На платформах тягачей лежало что-то, формами похожее на подъемные краны. «Краны» нависали над крышами водительских кабин, словно указывая направление движения. Я ещё сильнее вытянул шею и уставился на то, что лежало на платформе. Ого, да это же ракеты! С острыми, как хорошо заточенные карандаши, боеголовками. К тонким «шеям» ракет, примерно в метре от боеголовок, крепилось по четыре треугольных крыла. В свете фар заднего тягача они отливали жестким серым блеском. То, что поначалу я принял за краны, оказалось пусковыми установками! На хвостовые части ракет с ускорителями наброшены брезентовые полотнища, но крылья первой и второй ступени открыты для обзора. Длина ракет метров шесть-семь, они лежат на платформах под углом в тридцать градусов. Казалось, вот сейчас полыхнет сине-белое пламя, и ракеты стремительно взмоют в ночное небо. Мы взирали на это зрелище с открытыми ртами, сидя на корточках в высокой густой траве.