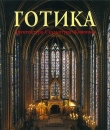Текст книги "Форма времени. Заметки об истории вещей"
Автор книги: Джордж Кублер
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Поэтому многие общества не желали признавать новаторское поведение, считая правильным скорее ритуальное повторение, чем изобретательные отклонения от нормы. В то же время никакое общество не может быть устроено так, чтобы каждый человек обладал в нем свободой менять свои действия как угодно. Любое общество функционирует подобно гироскопу: оно стремится удерживать принятый курс вопреки отклоняющим от него случайным и разрозненным силам. В отсутствие общества и инстинкта жизнь плыла бы, словно не скованная гравитацией, в мире, свободном от сопротивления прецедента, притяжения примера и колеи традиции. Любое действие было бы свободным изобретением.
Но человеческая ситуация приемлет изобретение лишь как весьма затруднительный tour de force [1*]. Даже в индустриальных обществах, которые зависят от постоянного появления новшеств, сам акт изобретения большинству претит. Редкость изобретения в современной жизни пропорциональна страху перед изменениями. Широко распространившаяся грамотность проявляется сегодня не в благосклонном внимании к новым действиям и мыслям, а в верности штампам, почерпнутым из политической пропаганды или коммерческой рекламы.
Как в науке, так и в искусстве новаторское поведение, отвергаемое массами, всё больше становится прерогативой горстки людей, живущих на осыпающемся краю конвенции. Лишь в исключительных случаях любой из них может оказаться перед входом, позволяющим пойти достаточно далеко. Лишь единицы в каждом поколении выходят на новые позиции, требующие постепенного пересмотра старых мнений. Преобладают в их числе великие математики и художники, дальше всех отступающие от привычных представлений. Группы других изобретателей измеряются куда меньшими величинами. Да и изобретения их в большинстве своем сродни перестановке мебели, так как рождены новыми сопоставлениями, а не новыми вопросами, направленными в самую сердцевину бытия.
Эти варианты новаторского поведения намечают его типологию. Доминирующая категория изобретений охватывает все открытия, появляющиеся в результате пересечения или сопряжения ранее не связанных между собой корпусов знания. Пересечение может связать тот или иной принцип с традиционными практиками. Сопряжение нескольких разрозненных ранее позиций может породить новую интерпретацию, уточняющую их вместе и по отдельности. Будь в основе этих операций расширение существующего принципа или введение новых объяснительных принципов, они всегда опираются на сопоставление элементов, уже данных наблюдателю.
Категория «радикальных» изобретений, значительно более узкая, отбрасывает эти готовые элементы. Исследователь выстраивает собственную систему постулатов и стремится обнаружить Вселенную, описать которую могут только они. Новые, непроверенные координаты сопоставляются на сей раз со всей совокупностью опыта, вновь пролагаемые колеи – с фактами чувств; неизвестное – с привычным; догадка – с данностью. Этот метод радикального изобретения отличается от метода открытия через сопоставление так же, как новая область математики отличается от ее приложений.
Если разница между полезными и художественными изобретениями аналогична разнице между изменением среды и изменением нашего восприятия этой среды, то нам следует объяснять художественные изобретения в терминах восприятия. Особенностью крупных художественных изобретений является их очевидная дальность от предшествующего положения вещей. Полезные изобретения, рассматриваемые в исторической последовательности, не обнаруживают столь значительных скачков или разрывов. Каждый этап следует за предыдущим в понятном порядке. Художественные же изобретения, судя по всему, согласуются между собой на разных уровнях, и связи между ними проследить настолько трудно, что можно усомниться в самом их наличии.
Важный компонент в исторической последовательности художественных событий – периоды резкого изменения содержания и выражения, когда весь действующий язык форм выходит из употребления и вытесняется новым языком со своими элементами и непривычной грамматикой. Пример – внезапная трансформация западного искусства и архитектуры в 1910-х годах. Никаких признаков разрыва социальной ткани не было, полезные изобретения шли своим чередом в размеренном темпе, и вдруг система художественных изобретений претерпела резкое преобразование, как будто многие люди сразу осознали, что традиционный репертуар форм больше не отвечает актуальному смыслу существования. Новое внешнее выражение, привычное сегодня для всех нас во всех изобразительных и строительных искусствах, стало ответом на новые представления о психике, новое отношению к обществу и новые концепции природы.
Все эти отдельные новшества в мысли появлялись медленно, а трансформация в искусстве состоялась будто бы мгновенно: вся конфигурация того, что теперь мы знаем как искусство модернизма, возникла сразу, почти не имея прочных связей с предыдущими системами выражения. Кумулятивное преобразование всего бытия полезными изобретениями шло постепенно, однако его признание в восприятии через соответствующий способ художественного выражения было внезапным, резким и шокирующим.
Выходит, художественное изобретение по природе своей ближе к изобретению через введение новых принципов, чем к изобретению через простое сопоставление, типичному для полезных наук. Здесь мы вновь сталкиваемся с фундаментальными различиями между первичными объектами и репликами. Первичный объект коррелятивен радикальному изобретению, а реплики отличаются от своих архетипов маленькими открытиями, основанными на простом сопоставлении уже существующих элементов. Поэтому радикальное изобретение с большой долей вероятности появляется в начале ряда; его отличает большое число первичных объектов; оно более сродни художественному произведению, чем научному доказательству. По мере того как ряд набирает «возраст», доля первичных объектов в нем уменьшается.
Текущее мгновение мы можем представить себе как плавный переход между «до» и «после», но только не в тех случаях, когда дают знать о себе радикальные изобретения и первичные объекты, подобные бесконечно малым количествам новой материи, создаваемым время от времени при помощи огромной энергии физической науки. И их появление в ткани актуального влечет за собой пересмотр всех человеческих решений – не моментальный, а постепенный, пока новая частица знания не встроится в каждую индивидуальную жизнь. РЕПЛИКАЦИЯ
Наш век, преданный переменам ради перемен, открыл, среди прочего, простую иерархию реплик, наполняющих мир. Взять хотя бы ошеломляющую репликацию энергии, которую составляют лишь около тридцати видов частиц [2*]; или репликацию материи, в которой есть всего-то сто с небольшим элементов [3*]; или генетическое размножение, охватывающее с возникновения жизни и по сей день лишь около двух миллионов описанных видов живых организмов [4*].
Репликация, пронизывающая всю историю, действенно продлевает устойчивость множества прошедших моментов, открывая нам смысл и структуру всюду, куда бы мы ни посмотрели. Однако эта устойчивость несовершенна. Каждая сотворенная человеком реплика имеет мельчайшие незапланированные расхождения со своей моделью, и кумулятивный эффект этих расхождений подобен медленному дрейфу в сторону от архетипа.
«Репликация» – респектабельный старомодный термин, давно и надолго вышедший из употребления. Мы возвращаем его к жизни не только для того, чтобы избежать негативного оттенка, сопровождающего идею «копирования», но и для того, чтобы отдать должное тому неотъемлемому атрибуту повторения событий, каким является тривиальная вариация. Поскольку устойчивое повторение любого вида невозможно без дрейфа, вызванного мельчайшими незапланированными изменениями, это медленное историческое движение становится для нас предметом особого интереса. ПОСТОЯНСТВО И ИЗМЕНЕНИЕ
Представим себе длительность без всякого регулярного паттерна. В ней невозможно было бы ничего распознать, поскольку ничего не повторялось бы. Это была бы длительность без каких бы то ни было мер, явлений, свойств, событий – пустая длительность, безвременный хаос.
Наше актуальное восприятие времени зависит от регулярно повторяющихся событий, а наше осознание истории, напротив, опирается на непредвиденное изменение и разнообразие. Без перемен нет истории; без регулярности нет времени. Время и история соотносятся друг с другом как правило и вариация: время – это регулярная настройка превратностей истории. Таково же и отношение между репликой и изобретением: ряд подлинных изобретений, исключающий какие бы то ни было реплики, был бы близок к хаосу, а всеобъемлющая бесконечность реплик без вариации – к полной бесформенности. Реплика связана с регулярностью и временем; изобретение – с вариацией и историей.
В каждый момент настоящего человеческие желания разрываются между репликой и изобретением, между желанием вернуться к известному паттерну и желанием отступить от него путем очередной вариации. Обычно желание повторить прошлое преобладает над стремлением с ним порвать. Ни одно действие не является полностью новым, но и ни одно действие не может быть совершено без вариации. В каждом действии верность модели и отступление от нее нерасторжимо смешаны в пропорциях, обеспечивающих узнаваемое повторение с небольшими вариациями, допускаемыми моментом и обстоятельствами. В самом деле, когда вариации по отношению к модели переходят порог правдоподобного копирования, имеет место изобретение. Должно быть, абсолютный уровень репликации во Вселенной превосходит уровень вариаций, ведь в противном случае Вселенная выглядела бы куда более изменчивой. АНАТОМИЯ РУТИНЫ
Репликация подобна сцеплению. Каждая копия обладает связывающими свойствами: она скрепляет настоящее и прошлое. Вселенная сохраняет свой облик, продолжаясь в формах, похожих на себя прежних. Неограниченная вариация равнозначна хаосу. Ритуальные действия в жизни обычного человека значительно превышают в числе вариативные или отклоняющиеся от рутинного порядка действия, допустимые в его привычном кругу. Действительно, кокон рутины настолько тесен, что оступиться и совершить нечто новаторское почти невозможно: человек подобен канатоходцу, так крепко привязанному страховочным тросом, что он не сможет упасть в неизведанное, даже если этого захочет.
Невидимая многослойная структура рутины опутывает и защищает человека в любом обществе. Уже как отдельный живой организм он окружен целым церемониалом физического существования. Другой, менее плотный кокон рутины ограждает и защищает его как участника жизни семьи. Группа семей образует район; районы – город; города составляют область; области – государство; государства складываются в цивилизацию. Всем им соответствуют слои рутины, которые накрывают друг друга, становясь всё менее плотными, и оберегают человека от разрушительного своеобразия. Таким образом, рутина в целом обладает множеством центров и в то же время защищает многослойной оболочкой каждого человека. У одних людей защита имеет больше слоев, у других меньше, но никто не свободен от нее полностью. Конечно, система этих сопряженных, поддерживающих одна другую рутин смещается и колеблется, разбухает и сжимается в зависимости от множества условий – не в последнюю очередь от самой длительности, в чем мы убеждаемся всякий раз, когда в ткани повторяющегося действия появляется вариация ради вариации: так скучающий писец вводит тайные вариации во множество копий приглашения, которые ему приходится писать.
Выше мы описывали только один из срезов привычных действий, удерживающих любое общество от распада. Существует и другое их измерение – последовательность повторений. Каждое повторение одного и того же действия отличается от предыдущего. В последовательности эти версии – с постепенными изменениями, в том числе не зависящими от внешних причин, а вызванными лишь потребностью того, кто совершает действия, в переменах на протяжении долгих периодов повторения, – обнаруживают ясно выраженные во времени паттерны, краткую попытку описания и классификации которых мы предпримем ниже (с. 133 и далее). Проследить эти волокнистые длительности поведения не так-то просто: их начала, концы и границы едва уловимы, а их описание, вероятно, требует особой геометрии, правила которой пока недоступны историкам.
Поведение опознается по его повторяемости, однако любое исследование поведения сразу ставит перед нами неразрешимый вопрос: каковы фундаментальные единицы поведения и насколько они многочисленны. Наше поле исследования в этой книге ограничено вещами и поэтому сильно упрощено: оно сводится к материальным продуктам поведения и позволяет нам заменить действия вещами. Это поле остается слишком сложным, чтобы с ним совладать, но мы хотя бы можем считать моду, историзм в архитектуре и Ренессанс аналогичными феноменами длительности. Каждый из них требует большого числа ритуальных жестов, обеспечивающих желаемое участие в том или ином обществе, и каждый обладает своей типичной длительностью (с. 135–136).
Теперь наша концепция копии включает в себя и действия, и вещи. Говоря о действиях, мы рассматривали повторение вообще, в том числе привычки, обычаи и ритуалы. Когда дело касается вещей (которые делятся на приблизительные и точные дубликаты), наше внимание переходит на копии и реплики. Но и к вещам, и к действиям присоединяются символические ассоциации. Символ существует за счет повторений. Он опознается теми, кто его использует, благодаря разделяемой ими способности придавать некоей форме одно и то же значение. Человек, который использует символ, ожидает, что другие совершат ту же ассоциацию, что и он, и что сходство в интерпретации символа перевесит различия. И едва ли какая бы то ни было копия обходится без значительной поддержки со стороны символических ассоциаций. Так, в 1949 году в районе горы Викос я сфотографировал местного пастуха-перуанца и показал ему, никогда не видевшему фотографий, его портрет – он не смог понять, что значит этот листок бумаги в пятнах, то есть узнать на нем собственное изображение, так как не обладал сложными навыками перевода, которыми большинство из нас пользуется без особых усилий как в двух, так и в трех измерениях.
В этом смысле все вещи, действия и символы – или весь человеческий опыт в целом – представляют собой реплики, постепенно меняющиеся не столько в результате внезапных изобретений-скачков, сколько в процессе мелких изменений. Люди издавна полагают, что значение имеют лишь крупные изменения вроде великих открытий – земного притяжения или кровообращения. Мелкие, малозаметные изменения, подобные тем, что возникают в копиях одного документа, сделанных разными писцами, игнорируются как несущественные. Согласно предлагаемой здесь интерпретации, изменения большого интервала и малого интервала подобны друг другу. Более того, множество изменений, считаемых крупными, оказываются совсем не такими крупными при рассмотрении в полном контексте. Так, историк, собирающий информацию, накопленную другими, имеет возможность по-новому истолковать весь ее массив, и заслуга новых выводов достается ему, хотя его личный вклад в свою теорию не превышает по величине вклад любой из отдельных единиц информации, на которых она базируется. Таким образом, различие, которое принято считать родовым, может быть лишь различием в степени.
Физические пределы, в которых мы существуем, довольно узки. Слишком холодно или жарко, воздух слишком беден кислородом или загрязнен – и мы умираем. Наша толерантность к множеству других вариаций, по всей вероятности, тоже мала, коль скоро момент настоящего служит крошечным клапаном, регулирующим объем допустимых в реальности изменений.
Поскольку Вселенная сохраняет узнаваемые черты от момента к моменту, каждый момент является почти точной копией предшествующего. Случающиеся перемены невелики относительно целого и пропорциональны величине, полагаемой нами в качестве длительности момента. Эта идея подтверждается нашим опытом: от текущего момента до следующего движение Вселенной едва ли сильно изменится, но за предстоящий год ход событий совершит не один поворот. Большие исторические перемены требуют больших длительностей. При добротном исследовании ни одно великое событие не может быть уложено в краткий период, хотя обычный порядок разговора о прошлом требует, чтобы мы думали и действовали так, будто история состоит лишь из великих мгновений, разделенных долгими бессмысленными отрезками пустой длительности. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ
Когда мы смотрим на время как на множество почти идентичных последовательных моментов, дрейфующих путем мелких изменений в сторону бóльших различий, которые накапливаются на протяжении длительных периодов, в нем обнаруживаются движения определенных типов. Возможно, впрочем, «движениями» ошибочно именуются в данном случае изменения, происходящие от объекта к объекту в ряду реплик. Ряд, в котором каждый объект изготовлен в свое время и все объекты связаны между собой как реплики одной модели, создает во времени видимость движения подобно кинопленке, чьи кадры фиксируют последовательные моменты действия и порождают иллюзию движения, вспыхивая один за другим в световом луче.
Репликация следует двум противоположным типам движения. Их можно описать как движение вперед по шкале качества и движение назад по той же шкале. Качество растет, если создатель реплики обогащает свою модель, повышая ее достоинства, как это бывает, когда талантливый ученик улучшает приемы своего посредственного учителя или, скажем, когда Бетховен обогащает шотландские песни. Качество падает, когда создатель реплики ухудшает модель из-за своей неспособности оценить ее масштаб и значение или из-за экономического давления. Крестьянские реплики дворцовой мебели и одежды; копии, написанные с картин мастера его бездарными учениками; провинциальные ряды реплик, копирующих другие реплики чем дальше, тем грубее, – всё это примеры снижения качества. Еще больше таких примеров в промышленности. Когда хорошо спроектированное серийное изделие выходит на более широкий рынок и встречает более жесткую конкуренцию, производители упрощают его, чтобы снизить цену, пока оно не сводится к необходимым элементам конструкции, обеспечивающим ее минимальную долговечность. Поэтому потеря качества может иметь как минимум две разные скорости: провинциальную, ведущую к огрублению, и коммерческую, ведущую к безвкусице. Таким образом, провинциальность и коммерциализация связаны друг с другом как две разновидности падения качества.
Около пяти тысяч лет назад не было ни больших городов, ни удаленной торговли; существовали лишь крестьянские или рыбацкие деревни. Человеческое общество пришло к провинциальным и коммерческим различиям намного позже. Данные об этих ранних периодах обнаруживают гораздо меньший разброс качества изделий по сравнению с нашим временем. На протяжении одного поколения керамические изделия одной деревни мало отличаются друг от друга, и только на более длинных отрезках времени мы можем проследить в них взаимодействие региональных традиций и положения на шкале раннего – позднего в пределах одной серии. Идея решающих событий, происходящих в столице или центре, так же как и идея мастерства, основанного на старых и устойчивых ремесленных традициях, вошла в человеческое сознание, вероятно, лишь с появлением городов и экономического неравенства, создавшего условия для производства предметов роскоши особым классом мастеров. Провинциальная деградация, несомненно, старше коммерческой вульгаризации. А старейшей из качественных градаций цивилизованной жизни остается деревенское однообразие. ВЫБРАКОВКА И СОХРАНЕНИЕ
Изменения могут быть обусловлены множеством способов, какими явления соединяются друг с другом и отделяются друг от друга. Актуальность описывает их распределение в моменте, а история изучает их позиции и отношения в последовательности. Различные позиции, занимаемые явлениями в мире людей, наводят на мысль о категории сил, которые мы не можем назвать никак иначе, нежели потребностями. В поле этих сил, размеченном полюсами влечения и пресыщенности, удовольствия и отвращения, действуют, наряду с другими, процессы выбраковки и сохранения.
Решение о выбраковке чего-либо не назовешь легким. Как всякий фундаментальный тип действия, оно заявляет о себе и в повседневном опыте. Это ценностный переворот. Необходимая в прошлом вещь выбрасывается и превращается в мусор или лом. То, что было ценным, отныне бесполезно; то, что было желанным, – оскорбляет; то, что считалось прекрасным, кажется уродством. За тем, когда и что нужно забраковать, стоит множество соображений. УСТАРЕВАНИЕ И РИТУАЛ
Принято считать, что устаревание – сугубо экономический феномен, обусловленный технологическим развитием и ценообразованием. Затраты на сохранение старого предметного оснащения превышают затраты на его замену новым и более эффективным. Однако неполнота этого взгляда становится очевидной, если присмотреться к решению что-либо сохранить.
Один из важных случаев сохранения предметов прошлого обнаруживается в обильном наполнении гробниц у некоторых народов – египтян, этрусков, китайцев или перуанцев. Главной причиной появления в их культурах значительных погребальных кладов была, разумеется, твердая вера в существование загробной жизни. Но также мы вправе предположить, что число ремесленников в этих обществах превосходило потребности их владык и в результате изготовление драгоценных вещей намного опережало их выбраковку по мере износа и поломки.
Продуманное оснащение гробниц могло преследовать в таком случае сразу несколько целей: благодаря ему останки прошлого сохранялись с должным пиететом, не создавая угрозы заражения от контакта с ними, а старомодные предметы выводились из повседневного употребления, что давало толчок производству новых вещей для потребностей живущих. Погребальные клады достигали, казалось бы, несовместимых результатов: они избавляли от старых вещей и одновременно сохраняли их, как это происходит сегодня на складах длительного хранения или в хранилищах музеев и антикваров. Находящиеся там гигантские накопления ждут возвращения в оборот, которое обещают их возрастающая редкость и будущие изменения вкусов.
Здесь кроется вероятная причина того, почему еще каких-нибудь сто лет назад темп технологических изменений был таким медленным. Когда изготовление вещей требовало больших усилий, как в доиндустриальную эпоху, починить их было легче, чем выбросить. Соответственно, возможностей для изменений было меньше, чем в промышленной экономике, где массовое производство позволяет потребителям регулярно избавляться от старых предметов. Поскольку любое изменение, предложенное изобретением, требовало принесения в жертву слишком большого количества уже имеющихся вещей, оно могло реализоваться лишь тогда, когда противостоящие ему конвенции, привычки и инструменты выпадали из регулярного использования незамеченными. Другими словами, необходимость сохранения вещей влияла на скорость изменений человеческих изделий сильнее, чем желание новизны.
В концепции систематического изменения каждое действие входит в ряд подобных ему действий. Гипотетически все эти действия связаны между собой как модель и копия. Копии варьируются, вводя мелкие различия. В каждом ряду все составляющие его действия отличаются друг от друга. Распознаванию рядов часто мешают всевозможные внешние помехи, а также морфологическая неопределенность в расстановке действий по шкале ранних – поздних. Еще одна неопределенность связана с разложением любого действия на компоненты ряда, одни из которых относятся к старому поведению, а другие – к новому. Но если наша гипотеза верна, то мы должны добавить к любому внешнему объяснению любой части поведения его хотя бы частичное описание с точки зрения ряда.
Установить хронологический порядок недостаточно, ведь абсолютная хронология лишь выстраивает моменты времени в их собственной астрономической последовательности. Вечная проблема историка заключается в том, чтобы найти начала и концы нитей исторического процесса. Традиционно он отсекал нить везде, где того требовали меры исторического нарратива, и никогда критериями этих отсечек не становились различия между дистанциями в рамках отдельной длительности. Открытие таких длительностей затруднено, потому что сейчас можно измерить лишь абсолютную хронологию: все прошлые события дальше от наших чувств, чем звезды самых отдаленных галактик, чей свет по крайней мере доходит до телескопов. А только что прошедший момент исчез навсегда, оставшись разве что в вещах, созданных, пока он длился.
В субъективном порядке акт изобретения соответствует началу длительностей, а акт выбраковки – их концу. Выбраковка отличается от других видов разрыва (см. с. 147–148), так же как свободное решение отличается от навязанного или медленно вынашиваемое решение – от неподготовленного действия в чрезвычайной ситуации. Акт выбраковки обозначает финальный момент постепенного формирования некоторого образа мысли. Решение отказаться от чего-либо складывается из знания и неудовлетворенности: пользователь вещи знает о ее ограничениях и о ее неполноте. Вещь удовлетворяет только прошлые потребности и не отвечает новым. Пользователь замечает это несоответствие вещи потребностям и тем самым осознает ее возможные улучшения.
Выбраковка полезных вещей отличается от выбраковки вещей, доставляющих удовольствие, большей окончательностью. Отказ от старых орудий зачастую бывает настолько полным, что от многих эпох не остается практически никаких предметов – только немногочисленные изображения и церемониальные версии металлических орудий, пущенных на переплавку, когда потребовались новые формы. Основная причина такой безжалостной утилизации орудий прошлого заключена в том, что орудие, как правило, имеет лишь одну ценность – функциональную.
Объект, созданный для эмоционального опыта (таков один из способов идентификации произведения искусства), отличается от орудия этим смысловым расширением, выходящим за пределы пользы. Поскольку символическая рамка существования меняется куда медленнее, чем его утилитарные требования, орудия эпохи менее долговечны, чем ее художественные произведения. Гораздо легче воссоздать символический характер средневековой жизни при помощи небольшого музея рукописей, предметов из слоновой кости, тканей и ювелирных изделий, чем описать технику феодальных времен. О ней мы можем говорить лишь на основании предположений и реконструкций, тогда как от средневекового искусства до нас дошли и сами вещи, сохраненные как символы, которые по-прежнему действенны в актуальном опыте, в отличие от вышедших из употребления орудий труда.
Сохранение старых вещей было важнейшим ритуалом во всех человеческих обществах. Обретенное им ныне выражение в публичных музеях по всему миру восходит к незапамятным корням, хотя сами музеи – молодые учреждения, которым предшествовали королевские коллекции и сокровищницы соборов. А если смотреть шире, то и культ предков у первобытных племен преследовал схожую цель сохранения части силы и знания умерших. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ
Итак, существенное различие в том, что простые утилитарные вещи исчезают полнее, чем вещи, обладающие смысловой нагрузкой и доставляющие удовольствие: последние, судя по всему, следуют более мягкому правилу выбраковки. Это правило сродни состоянию умственной усталости, означающему скорее пресыщенность знанием, чем мышечное или нервное истощение. «Déjà vu» и «trop vu» [5*] – вот эквивалентные выражения из французской критики, для которых сегодня не существует подходящего английского слова, разве что – «скука». Природа и условия этого состояния впервые привлекли к себе внимание в 1887 году, когда Адольф Гёллер написал об усталости (Ermüdung) и ее влиянии на заметные изменения архитектурного стиля во времена господства эклектического вкуса [2]. Они были заметны не потому, что архитектурные изменения тогда происходили быстрее, чем сегодня, а потому, что существовало всего лишь несколько исторических стилей на выбор, и людям того времени казалось, что они стремительно истощают эти запасы прошлого.
Архитектор и профессор Политехникума в Штутгарте, Гёллер был ранним представителем психологии художественной формы, продолжавшим основанную Гербартом традицию абстрактного формализма в эстетике. Введенное Гёллером понятие Formermüdung [6*] примерно с 1930 года распространилось достаточно широко, хотя остальные его идеи дальнейшего развития не получили. Архитектура была для Гёллера искусством чистой видимой формы. Ее символическое содержание он считал ничтожно малым, а ее красоту выводил из приятной, но лишенной значения игры линии, света и тени. Основная проблема, волновавшая Гёллера, состояла в том, как объяснить, почему ощущения оптического удовольствия постоянно меняются, находя свое проявление в череде стилей. Его ответ по существу сводится к тому, что наслаждение приятными формами идет от умственного усилия припомнить что-либо им подобное. Так как всё наше рациональное знание состоит из таких воспоминаний, наслаждение прекрасными формами требует богатой и упорядоченной памяти. Вкус есть функция осведомленности. Если мы находим в памяти полный и отчетливый эквивалент восхитившей было нас чистой формы, удовольствие уменьшается. Всеобъемлющая память предполагает, как следует ожидать, разочарование и неудовлетворенность при встрече с любым повторяющимся опытом: «осведомленность порождает пресыщение». Воспоминания на любой случай вызывают усталость, и они же ведут к поиску новых форм. Но когда ум цепляется за содержание, правило Formermüdung ослабевает, и объект удерживает наше внимание пропорционально сложности его смысла.
Художник сам больше всего подвержен скуке, которую он преодолевает, изобретая новые формальные комбинации и совершая смелые шаги вперед в открытых до него направлениях. Эти шаги подчиняются правилу постепенной дифференциации, поскольку должны оставаться узнаваемыми вариациями образа, удерживаемого в памяти. У молодых творцов дифференциация идет активнее, и ее темп ускоряется по мере развития стиля. Если по какой-либо причине стиль прерывается досрочно, его неиспользованные ресурсы становятся доступными для адаптации в рамках других стилей.
Работа человеческого ума не может быть объяснена каким-либо изолированным процессом. Гёллер недооценивал роль других сил в сложном взаимодействии настоящего и прошлого, ему не хватало ясного представления о формирующей традицию силе репликации или о потребности человека в разнообразии, удовлетворяемой новаторством. Но хотя он преувеличивал значение скуки или усталости как единственной силы, толкающей художников от уже нанесенных на карту позиций к тем позициям, которые лишь намечены, у него было ясное понимание того, что искусство состоит из связанных между собой рядов форм, постепенно накапливающих отличия друг от друга, пока потенциальные возможности класса не будут исчерпаны.