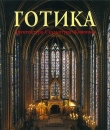Текст книги "Форма времени. Заметки об истории вещей"
Автор книги: Джордж Кублер
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Этот системный возраст, свойственный всем без исключения изделиям той или иной цивилизации, долгое время скрывали разного рода шоры. Непреодолимое искушение воссоздать социальные процессы по глиняным черепкам и каменным осколкам привело к тому, что нам были представлены циклы политических революций, основанные на свидетельствах, которые куда лучше говорят о совсем другом. Черепки и осколки – это классы усилий, которые отражают политическую жизнь на огромной временнóй дистанции от нас ничуть не яснее отголосков династических конфликтов средневековой Франции, слышимых нами в провансальской поэзии.
Каждое стихотворение в объединенной чем-либо антологии имеет свой системный возраст, как и каждый керамический горшок или обломок статуи в ряду музейной коллекции. По системному возрасту могут быть, вероятно, ранжированы политические устройства и цивилизации. Несомненно, есть и системный, независимый от абсолютного, возраст всей человеческой цивилизации, которая существует в открытой последовательности, обнимающей всю историю вещей, куда меньше времени, чем человечество. МЕКСИКАНСКАЯ ПАРАДИГМА
Поучительным примером здесь может служить испанская колонизация индейских народов Мексики в XVI веке. Первые церкви в течение двух поколений после завоевания были построены в основном индейскими мастерами под руководством европейских монахов из нищенствующих орденов [19]. В рамках этой эпохи монашеского правления (до 1570 года) эти церкви можно разделить на раннюю и позднюю группы. Ранние церкви имеют нервюрные своды, подчас относящиеся к типу, вышедшему из употребления в Европе еще в XII веке, и декор, близкий к позднесредневековому. Поздние церкви более совершенны технически: они имеют купольные своды, подобные тем, что строились тогда же в Испании, и классицизирующий декор. Нам известны как начальная точка и исходные условия этого процесса, так и его конечная точка, когда светское духовенство оттеснило монахов от руководства индейскими городами.
Все европейские колонисты понимали, что для духовного покорения мексиканских индейцев нужны большие церкви и монастырские школы. В связке с этой потребностью возникла насущная задача: обучить индейцев европейским трудовым обычаям и согласно тем же обычаям ими управлять. Направленный на решение этой задачи ряд образовали церкви нищенствующих орденов вкупе с множеством подчиненных классов. Для индейцев всё началось как будто с нуля: каменотесы учились использованию железных орудий; каменщики осваивали принципы и технологии строительства арок и куполов; скульпторы изучали христианскую иконографию; живописцы – перспективу с единой точкой схода и лепку форм полутонами, позволяющую создать иллюзию светотени. Все представления индейцев о собственных потребностях или проблемах, выжившие со времен до завоевания, подавлялись или уничтожались. В то же время, судя по всем свидетельствам, индейские мастера с энтузиазмом взялись за освоение сложных техник и изобразительных приемов их европейских учителей.
Таким образом, христианская трансформация мексиканской архитектуры следовала по меньшей мере трем основным паттернам изменения. Два из них касались жизни индейцев: это резкий отказ от обычаев и традиций, унаследованных от предков, и постепенная замена их новыми, европейскими, способами производства. Эти отказ и замена шли на разных скоростях. Третий же паттерн касался самих колонизаторов. Конкистадоры принадлежали к поколению, уже привыкшего к эклектичному культурному разнообразию в Испании, где архитектура в тот период следовала преимущественно позднесредневековым моделям, ренессансные новшества из Италии всё еще оставались редкими, а главной модой в 1500–1520-х годах был дробный экспрессивный декор, позже названный платереско, а в тогдашней Испании именовавшийся «a lo romano» [2*]. С 1550-х годов орнаменты платереско начала вытеснять новая архитектура, отмеченная влиянием Виньолы. Ее главным выражением стал Эскориал, но рядом с ним, в Сеговии, и почти одновременно шло начатое лишь в 1525 году строительство позднесредневекового собора с нервюрными сводами. Некоторые мастера и рабочие участвовали в обеих стройках, следуя то готическим принципам, то манере Виньолы.
С учетом всего этого ситуация в Мексике XVI века кажется невероятно сложной; однако с другой точки зрения не было исторического кризиса, который охватывал бы миллионы людей и обнаруживал бы свой характер проще и нагляднее, чем этот. Между поведением индейцев и их испанских завоевателей в 1520-х годах пролегала огромная культурная дистанция, подобная той, что разделяет египетское Древнее царство или Месопотамию шумеров и Европу времен Карла V. Такие головокружительные столкновения абсолютно разных стадий культурного развития на межконтинентальном уровне характеризуют каждую колониальную фазу европейской истории Нового времени, сильно различаясь по результатам, но всякий раз повторяя один и тот же механизм изменения.
В грамматике исторических перемен завоевание Мексики представляет собой своего рода парадигму, которая с исключительной ясностью выявляет все основные свойства этого фундаментального механизма. Традиционное поведение человека или группы людей объявляется негодным и подавляется вплоть до полного уничтожения. Завоеватели насаждают новое поведение, которое усваивается завоеванными, но в процессе усвоения меняется и само. Этот паттерн воспроизводится в ходе каждого экзистенциального кризиса. Элементарным примером здесь может послужить повседневная речь, в которой мы подчас сталкиваемся с новым поведением, выражаемым словами сомнительной уместности или авторитета, и нам приходится решать, использовать или отвергнуть эти слова и поведение, чьим выражением они являются. На других шкалах величин подобный кризис каждый год повторяется в женской моде, каждое поколение – в искусстве, когда авангард успешно внедряет новые или не опробованные ранее решения текущих проблем, да и в любом обыденном столкновении отсталых и прогрессивных решений одной и той же проблемы. Эпитеты «отсталый» и «прогрессивный» имеют здесь сугубо описательный характер, не вынося никакого качественного суждения: они всего лишь обозначают антитетические фазы любого момента изменения, описывая их тяготение к прошлому или будущему моменту времени. ЯЗЫКОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Серьезное влияние на наши оценки изменений в истории вещей оказывают недавние открытия в языкознании [20]. Родственные языки, не находящиеся в близком контакте, например португальский и французский или языки уастеков и майя, постепенно менялись или «дрейфовали» с тех пор, как народы – их носители оказались разделены. Изменения слов из перечней избранных базовых значений могут быть измерены простыми статистическими средствами. Удивительный результат состоит в том, что языковое изменение имеет константный темп и его степень может быть использована как прямой показатель давности разделения народов. Тезис регулярности языкового изменения подтверждается сотнями текстовых и археологических свидетельств.
Историки привыкли считать культурное изменение нерегулярным и непредсказуемым набором происшествий. Поскольку язык – неотъемлемая часть культуры, он должен разделять эту нерегулярность и непредсказуемость истории. Но как тогда объяснить неожиданную регулярность языкового изменения и как она может повлиять на нашу концепцию изменения исторического?
Прежде всего, историческая идея изменения пересекается с лингвистической идеей «дрейфа», примером которого служит постепенное отдаление друг от друга родственных языков. Этот «дрейф», вызываемый накапливающимися изменениями в артикуляции звуков, может быть, в свою очередь, соотнесен с помехами, искажающими любую звуковую коммуникацию. Инженеры-телефонисты называют подобные помехи «шумом». «Дрейф», «шум» и изменение роднит между собой наличие помех, не позволяющих предыдущему набору условий повториться целиком.
Историческое изменение происходит тогда, когда ожидаемое обновление условий и обстоятельств от одного момента к другому не совершается, как ему положено, а нарушается. Паттерн обновления узнаваем, но искажен: он изменился. В истории помехи, не позволяющие тому или иному паттерну повториться в точности, по большей части находятся за пределами человеческого контроля, тогда как языковые помехи должны быть подвержены регулировке – иначе коммуникация провалится. «Шум» – это нерегулярное и неожиданное изменение. Действенность языка требует, чтобы шум был сведен к минимуму. Это достигается преобразованием нерегулярности в равномерную пульсацию, которая сопровождает коммуникацию как устойчивый по тону и громкости гул. Темп языкового изменения регулярен, так как коммуникация не работает, если само ее орудие хаотично колеблется. В языке «шум» истории преобразуется в ненавязчивый гул равномерного изменения.
Эти новейшие достижения в исторической теории языка требуют пересмотра статуса произведений искусства как исторических свидетельств. Исторический процесс в большинстве своих разновидностей подвержен непредсказуемым помехам, которые не позволяют истории претендовать на роль прогностической науки. Языковые же структуры приемлют лишь такие помехи, собственная регулярность которых не вступает в конфликт с коммуникацией. Наконец, история вещей допускает больше помех, чем язык, но меньше, чем институциональная история, так как вещи, которые должны выполнять функции и передавать сообщения, не могут быть оторваны от этих целей без потери своей идентичности.
Внутри истории вещей мы находим историю искусства. Произведения искусства подобны не столько орудиям, сколько системе символической коммуникации, которая, чтобы обеспечивать некоторую надежность, должна быть свободна от чрезмерного «шума» во множестве копий, делающих коммуникацию возможной. И в конечном счете может статься, что история искусства – в силу ее промежуточного положения между историей и языкознанием – обладает неожиданным для нее потенциалом прогностической науки, продуктивной, конечно, не в такой мере, как языкознание, но куда более, чем на то может рассчитывать история.
[1*] В современной терминологии какой-либо из наук эти термины, насколько мы можем судить, не слишком употребительны. Автор, по-видимому, имеет в виду их биологическое значение, фиксируемое, в частности, английским толковым словарем Вебстера за 1913 год: «неоморф, сущ. – структура, часть или орган, сформировавшийся независимо, то есть не являющийся производным подобной структуры, части или органа формы, существовавшей ранее» (позднее, в 1930-х годах, генетик Герман Джозеф Мюллер обозначил как «неоморфный» один из видов генетических мутаций, характеризующийся появлением у гена новой функции или нового свойства). В том же словаре термин «проморфология» толкуется как «кристаллография органических форм – раздел морфологии, введенный Геккелем и относящийся преимущественно к стереометрии в рамках математической концепции органических форм» (Геккель в Сообщении о радиоляриях [1881] говорит о «проморфе» как «фундаментальной геометрической форме» организма, а именно астрилонхиды). Так или иначе, значение терминов, используемых Д. Кублером, интуитивно понятно из их греческой этимологии: проморф (греч. к-форме) – имеющий отношение к образованию формы; неоморф (греч. новая форма) – имеющий отношение к обновлению формы.
[2*] A lo romano (исп.) – в римском духе. Plateresco (исп.) – чеканный, узорчатый; термин «платереско» поначалу применялся к формам архитектурной орнаментики, возникшим под влиянием мавританской архитектуры и ремесел, а для обозначения испанского стиля XVI века стал использоваться в следующем столетии.
[1] Riegl A. Die Spätrömische Kunstindustrie. 2 Bd. Wien, 1901–1923.
[2] Согласно Кроче, этот термин возник в беседе между Хансом фон Маре, Конрадом Фидлером и Адольфом фон Гильдебрандом в Мюнхене, приблизительно в 1875 году (см.: Croce B. La teoria dell’arte come pura visibilità // Nuovi saggi di estetica. [Bari, 1926]. P. 233–258). Самая известная работа Вёльфлина – Основные понятия истории искусств – вышла в Мюнхене в 1915 году (рус. пер.: Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / пер. А. Франковского. М.; Л.: Academia, 1930).
[3] Mathematics Dictionary / ed. G. James and R.C. James. Princeton, 1959. P. 349–350. Профессор Йельского университета Ойстин Оре, которому я показал эту главу после того, как он поведал мне о своей работе над теорией графов, написал следующий отзыв:
«При попытке дать систематическое изложение столь сложного предмета может возникнуть искушение, как и в естественных науках, обратиться к математикам за образцом, который послужит в качестве дескриптивного принципа. На ум приходят математические понятия рядов и последовательностей, но по некотором размышлении они представляются слишком специфическими для данной проблемы. Куда более подходящей здесь кажется не столь известная область сетей, или ориентированных графов.
Нас интересует разнообразие стадий в истории творчества людей. В процессе развития происходит переход с одной стадии на другую. На выбор предлагается множество направлений. Некоторые из них отражают реальные события. Другие являются единственно возможными шагами из множества доступных. Аналогичным образом и каждая стадия может состоять из нескольких возможных шагов, ведущих к одному и тому же результату.
Это можно представить в общем виде с помощью математической концепции ориентированного графа, или сети. Такой граф состоит из нескольких точек, вершин или стадий. Некоторые из них соединены направленной линией, ребром или шагом. Таким образом, на каждой стадии существует ряд альтернативных ребер, по которым можно следовать, а также несколько входящих ребер, которые могут вывести на эту стадию. Фактическое развитие соответствует одной (ориентированной) цепи в графе и является единственным из множества возможных.
Можно задаться вопросом, составляют ли графы, подходящие для нашей цели, особый тип во множестве графов, которые могут быть построены. Кажется, у них есть одно существенное ограничение: нужные нам графы должны быть ацикличными. Это значит, что не существует циклически ориентированной цепи, возвращающейся к своей исходной стадии, что, по сути, соответствует замечанию, согласно которому прогресс человечества никогда не возвращается в прежнее состояние».
[4] Eliot T.S. Tradition and the Individual Talent // Eliot T.S. Selected Essays. 1917–1932. New York, 1932. P. 5 (рус. пер.: Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант / пер. Н. Зинкевич // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века. М.: Прогресс, 1986. С. 476–483). Также см. его же книгу Точки зрения (Eliot T.S. Points of View. London, 1941. P. 25–26).
[5] Андре Мальро применил «эффект Элиота» в некоторых фрагментах Голосов безмолвия, где речь идет о том, как великие художники задним числом меняют традиции новыми достижениями (Malraux A. The Voices of Silence [1951]. New York, 1954. P. 67, 317, 367; рус пер.: Мальро А. Голоса безмолвия / пер. В. Быстрова. СПб.: Наука, 2012).
[6] Kunze H. Das Fassadenproblem der französischen Früh– und Hochgotik. Leipzig, 1912 (диссертация, защищенная в Страсбургском университете).
[7] Cuntz O. Itineraria romana. Leipzig, 1929. Vol. 1.
[8] Pach W. The Gemmaux of Jean Crotti: A Pioneer Art Form // Magazine of Art. 40 (1947). P. 68–69. Новизна этой техники [разработанной живописцем Жаном Кротти (1870–1958) в сотрудничестве с мастером художественного стекла Роже Малерб-Наварром (1908–2006). – Пер.] заключается в сплавлении стекол разных цветов без использования свинцовых оправ с добавлением колотого стекла, позволяющего добиться нужной степени мерцания.
[9] См.: West R. The Strange Necessity. New York, I928 (особенно глава Длинная цепь критики).
[10] Wimsatt, Jr. W.K., Beardsley M.C. The Intentional Fallacy // The Sewanee Review. 54 (I946). P. 468–488.
[11] Richter G.M.A. Attic Red-Figured Vases. New Haven, 1946. P. 46–50.
[12] Drachmann A.G. Ktesibios, Philon and Heron. A Study in Ancient Pneumatics. Copenhagen, 1948.
[13] Focillon H. Art d’Occident. Paris, 1938. P. 188. О церкви Св. Кириака в Провене: «один из прорывов без будущего».
[14] Friend, Jr. A. M. The Portraits of the Evangelists in Greek and Latin Manuscripts // Art Studies. 5 (1927). P. 115–150; 7 (1929). P. 3–29.
[15] Klein D. St. Lukas als Maler der Maria. Berlin, 1933.
[16] Hahnloser H.R. Villard de Honnecourt. Wien, 1935. Pl. 19, p. 49–50: «J’ai este en m[u]lt de tieres, si co[m] v[os] pores trover en cest liv[r]e; en aucun liu, onq[ue]s tel tor ne vi co[m] est cell de Loo[n]» (старофранц. «Я побывал во многих странах, как вы могли заметить по этой книге, и нигде не видел такой башни, как в Лане»).
[17] Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 т. Т. 2 / пер. А. Венедиктова и А. Габричевского. М.: Искусство, 1963. С. 69–78. С. 78: [Он] «заперся у себя дома, занимаясь перспективой, что и продержало его в бедности и в затемнении рассудка до самой смерти».
[18] Berthold G. Cézanne und die alte Meister. Stuttgart, 1958.
[19] Ricard R. La «Conqête spirituelle» du Mexique. Paris, 1933; Kubler G. Mexican Architecture of the Sixteenth Century. New Haven, 1948.
[20] Hymes D.H. Lexicostatistics So Far // Current Anthropology. 1 (1960). P. 3–44; More on Lexicostatistics // Ibid. P. 338–345.
III
РАЗМНОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ
Будет трюизмом утверждать, что объекты вокруг нас соответствуют старым и новым потребностям. Но этот трюизм, как и все прочие, описывает лишь фрагмент ситуации. Помимо соответствий между потребностями и вещами, существуют и соответствия между самими вещами. Можно решить, что вещи порождают другие вещи через свои образы, созданные посредниками-людьми, которых привлекают описанные нами только что возможности последовательности и прогрессии. Эту иллюзию таящейся в вещах способности к воспроизводству отразила Жизнь форм Анри Фосийона, и куда более впечатляющий размах придал ей позднее Андре Мальро на страницах Голосов безмолвия. С этой точки зрения размножение вещей может подчиняться правилам, которые нам теперь следует рассмотреть.
Возникновение вещей управляется нашим меняющимся отношением к процессам изобретения, повторения и выбраковки. Без изобретения существовала бы одна лишь скучная рутина. Без копирования нам всегда не хватало бы сотворенных человеком вещей, а без мусора или брака слишком многие вещи становились бы морально устаревшими. Наше отношение к этим процессам само постоянно меняется, поэтому мы сталкиваемся с двойной трудностью прослеживания перемен в вещах и в наших представлениях об их изменении.
Знаковым отличием нашего времени является двусмысленность во всем, что касается изменений. Наша культурная традиция благоволит ценностям постоянства, однако условия нынешней жизни требуют считаться с непрерывными изменениями. Мы культивируем авангардизм вместе с консервативными реакциями, которые порождают радикальные новшества. Подобным же образом идея копирования как части обучения искусству и как художественной практики находится в немилости, и тем не менее мы приветствуем любое механическое производство в индустриальную эпоху, когда идея запланированных отходов оценивается позитивно с нравственной точки зрения, а не подвергается порицанию, как это было на протяжении тысячелетий аграрной цивилизации. ИЗОБРЕТЕНИЕ И ВАРИАЦИЯ
Антиподами человеческого переживания времени являются точное повторение, которое нас тяготит, и безудержная вариация, которая сбивает нас с толку хаотичностью. Вырванные из привычного поведения, как после бомбардировки городов, люди входят в состояние шока и не могут совладать с появлением новой среды. Другой крайностью становится ненависть к актуальному положению вещей, когда мы лишаемся способности отступить от прошлого обычая. В том же самом состоит наказание заключенного: его жестко ограничивают рутиной, лишая свободы внешних перемещений.
Изобретения, которые, как принято считать, знаменуют собой выдающиеся рывки в развитии и происходят крайне редко, на самом деле растворены в скромной субстанции ежедневного поведения, в котором мы пользуемся свободой немного варьировать наши действия. Мы только начинаем постепенно приходить в себя после великой романтической деформации опыта, нарядившей все разнообразные умения и призвания в сказочный реквизит вроде сапог-скороходов, позволяющих некоторым прыгать быстрее и дальше своих простаков-современников.
Новатор, в каком бы классе ни шла его деятельность, наслаждается преодолением особого рода трудностей; изобретая что-то, он пользуется тем, что мы назвали удачным входом (см. с. 16–17), и становится первым, кому открывается связь между элементами – связь, ключевое звено которой еще только ждет выхода из мрака безвестности. И кто-то другой может добиться того же самого – это случается нередко: широко известно совпадение Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса в теории происхождения видов. Причиной могли быть схожее образование, одинаковое чутье к проблеме и параллельные усилия в ее решении.
Согласно нашей терминологии, каждое изобретение – это новая позиция в ряду. Когда многие люди признают изобретение, возможность и дальше признавать предшествующую позицию для низ блокируется. Подобные блокировки действуют лишь среди близко связанных решений в последовательности, они не возникают за границами поля их релевантности, о чем нам известно по сосуществованию в любой момент огромного числа активных одновременных рядов (см. с. 152 и далее). Продукты предыдущих позиций устаревают или выходят из моды, но сами эти позиции являются частью изобретения, поскольку, чтобы занять новую позицию, изобретателю нужно пересобрать его компоненты согласно интуиции, не вписывающейся в рамки существующего ряда. От тех, кто пользуется новой позицией и извлекает из нее выгоду, она тоже требует определенного знакомства с предыдущими – иначе они не смогут оценить рабочий диапазон изобретения. Таким образом, техника изобретения включает в себя две фазы: открытие новых позиций и, затем, их смешение с существующим корпусом знания.
В любом поле знания привычен разрыв между изобретением и его применением: масляная живопись была изобретена несколько раз в разных местах, прежде чем живописцы XV века оказались готовы использовать ее в своих картинах на дереве. Изготовление металлических орудий в доколумбовой Америке началось в нескольких независимых центрах: в Центральных Андах около 1000 года до нашей эры, в Южной Мексике после 1000 года нашей эры, а также в районе Великих озер на севере до 1000 года нашей эры. Южная Мексика, возможно, узнала о металле от народов Анд, но североамериканские индейцы, несомненно, открыли их независимо [1].
Воображая перемещение людей одной эпохи в материальную среду другой, мы невольно обнаруживаем природу наших представлений об историческом изменении. В XIX веке коннектикутский янки Марка Твена казался высшим существом, успешно несущим просвещение в Средние века, а сегодня мы увидели бы в нем лишь не замеченную почти никем и быстро погасшую случайную искру. Поучительно и представить себе историческое многообразие измерений, в котором могут сосуществовать все времена. Если бы мы могли обмениваться информацией с людьми, жившими за четыреста столетий до нас, это, скорее всего, обогатило бы только наши знания о жизни в палеолите. Нынешние навыки охоты на диких животных оказались бы никчемными для человека палеолита, а от наших умений, не связанных с его повседневными нуждами, он и вовсе не получил бы никакой пользы. Ну а если нас когда-либо постигнет несчастье столкновения с будущим, как это случилось с индейцами в Америке XVI века, то нам придется распрощаться с нашим собственным положением и принять то, которое принесут завоеватели.
Иными словами, наша способность к мгновенному усвоению нового знания имеет узкие границы, определенные состоянием знания существующего. Эти два вида знания можно связать фиксированным отношением: чем больше мы знаем, тем больше нового знания мы можем принять. Изобретения пребывают в полутени между настоящим и будущим, где просматриваются смутные формы возможных событий. Эти узкие пределы ограничивают оригинальность в любой момент так, что никакое изобретение не может превзойти потенциал своей эпохи. Оно может приблизиться к границам возможного, однако в случае выхода из полутени останется курьезной игрушкой или исчезнет, как фантазия. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Открытия и изобретения последних трех веков превосходят в числе всё, что было сделано за предыдущую историю человечества. Их темп и количество продолжают нарастать, словно по асимптоте, стремясь к пределу, встроенному, вероятно, в человеческое восприятие космоса. Чем художественное изобретение отличается от полезного изобретения? Его отличие таково же, как и отличие человеческого чувствования от остальной Вселенной. Художественные изобретения меняют чувствование человечества. Все они возникают из человеческого восприятия и в него же возвращаются, в отличие от полезных изобретений, обращенных к физической и биологической среде. Полезные изобретения меняют человечество лишь косвенно, через изменение окружающей среды; эстетические же изобретения непосредственно расширяют человеческое сознание —не столько новыми объективными интерпретациями, сколько новыми формами опыта Вселенной.
Психологическая наука больше озабочена человеческими способностями как отдельными объектами изучения, нежели как единым исторически изменяющимся инструментом осознания. Эстетические изобретения фокусируются на индивидуальном осознании: у них нет никакой терапевтической или объяснительной цели; они лишь увеличивают диапазон человеческого восприятия путем расширения каналов эмоционального дискурса.
Если изобретение живописи масляными красками было техническим, то позднесредневековое изобретение в Северной Европе (Поль де Лимбург) и в Италии нового изобразительного языка, способного представить в двух измерениях всё пространство, было эстетическим. Схожая попытка изобрести выразительный язык, который был бы независим от образов (абстрактный экспрессионизм) и от фиксированных интервалов (атональная музыка), была предпринята в ХХ веке и длится по сей день.
Нельзя сказать, что эстетическое изобретение менее важно, потому что касается лишь крошечного участка Вселенной, которую полезное изобретение меняет целиком. Человеческое чувствование – наш единственный канал связи со Вселенной. По мере увеличения пропускной способности этого канала знание о Вселенной тоже увеличивается. Разумеется, канал может быть расширен множеством полезных изобретений; однако в конечном счете никакая рациональная структура не устоит под натиском противоречащего ей чувства. Главным проводником нашего обмена со Вселенной служат эмоции. Их можно искусственно регулировать при помощи химии и психиатрии, но ни та, ни другая наука не способна расширить инструменты эстетического опыта. Подобное расширение – прерогатива художественного изобретения.
Грубо говоря, художественное изобретение – это один из множества способов изменить склад ума, тогда как полезное изобретение очерчивает новый диапазон знания, для охвата которого предназначен изобретенный им инструмент.
Термины «искусство» и «эстетика» использовались нами практически как синонимы, так как четкое разделение, подобное тому, что существует между чистой и прикладной наукой, в эстетике провести невозможно. Выдающиеся художественные достижения описываются скорее как искусство, чем как эстетика, и различение созерцательного и практического труда, требуемое наукой, имеет мало смысла, когда дело касается искусства. Художники порой черпают из эстетики теоретические разграничения, эстетики же не многому учатся у искусства, будучи озабочены скорее философскими, чем художественными вопросами.
Между тем произведения многих художников куда ближе к философской мысли, чем большинство эстетических трудов, чьи авторы вновь и вновь описывают одну и ту же территорию: иногда систематически, иногда исторически, но редко – с оригинальностью. Кажется, что после Кроче и Бергсона эстетика перестала быть активным направлением философии. Крупные художественные изобретения, напротив, напоминают современные математические системы той решительностью, с какой их создатели отбрасывают одни конвенциональные допущения и заменяют их другими. Не было и не может быть разрыва между теорией и ее приложениями или между изобретателем и пользователем, всегда есть возможность их совпадения в одном лице: на первом этапе изобретения художник или музыкант, разыскивая новое знание, в одиночку выполняют все функции, обычно распределенные между несколькими людьми.
Возвращаясь теперь к месту изобретения в истории вещей, мы снова сталкиваемся с парадоксом, уже заявлявшим о себе в этой дискуссии. Это парадокс обобщения, касающегося уникальных событий. Поскольку никакие две вещи и никаких два события не могут иметь одни и те же координаты в пространстве и времени, каждое действие отличается от предыдущих и последующих действий. Никакие две вещи и никаких два действия не могут быть приняты как тождественные. Каждое действие – изобретение. Однако вся организация мысли и языка отвергает это простое утверждение нетождественности. Мы постигаем Вселенную не иначе, как упрощая ее идеями тождества внутри классов, типов и категорий, преобразуя бесконечный континуум нетождественных событий в конечную систему подобий. Природа бытия такова, что ни одно событие не повторяется, но природа мысли такова, что мы понимаем события лишь при помощи тождеств, устанавливаемых между ними силой воображения. КОНВЕНЦИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЕ
Этот парадокс находит свое постоянное выражение в повседневной жизни обычного человека. Поскольку каждое действие отчасти является изобретением, совершая следующий шаг по отношению к действию, которое предшествовало ему в своем классе, изобретение доступно всякому и всегда. Отсюда – два превратных понимания изобретения: как опасного отклонения от рутины и как необдуманного рывка в неизведанное. Для большинства людей новаторское поведение – это нарушение приличий, окруженное пугающей аурой осквернения рутины. Люди столь вышколены в верности конвенции, что сама возможность оказаться в неизведанном, пусть даже случайно, для них почти немыслима.