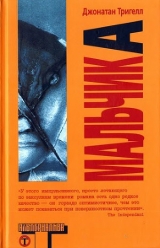
Текст книги "Мальчик А"
Автор книги: Джонатан Тригелл
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Можно-можно. Он видал и похуже. В Фукетс, на юге. Немолодые уже мужики: американцы, голландцы, англичане, шведы, южноафрикапцы – люди, объединенные, скажем так, общими интересами и пристрастиями. Они, не таясь, обнимали восьмилетних мальчишек. Не своих сыновей. Хотя кого-то и усыновляли, уже потом. И жилось им, наверное, не хуже, чем у иных настоящих родителей. Здесь, в Бангкоке, предприимчивые дельцы покупают детей у обнищавших родителей из отдаленных деревень. Этих мальчиков и девочек поселяют в крошечных комнатушках наподобие тюремной камеры, где есть только матрас, чтобы спать, и раковина, чтобы умываться, и водят к ним взрослых дяденек. Десятками, каждый день. Дяденьки платят денежки сутенеру, который потратился на «товар» и теперь окупает затраты. Дороже всего стоят дети младше двенадцати, которые чистые и здоровые. Он – не наивный турист. Он знает, что здесь творится. Он понимает, что этим девочкам в баре еще повезло. Но все равно он – скотина. И он это знает. Он давно не питает иллюзий. И на свой счет – в том числе.
Теперь она ходит по краю сцены, демонстрируя посетителям пустую бутылку. Она похожа на Дебби МакГи с остекленевшим, застывшим взглядом и кожей песочного цвета. Она опять приседает на корточки и выливает в бутылку все, что раньше всосала. На дощатую сцену не проливается пи единой капли. Держа бутылку над головой, она идет к дальнему краю сцены. Идет, словно прогуливаясь по пирсу.
Пирс в Хартлпуле. Они вдвоем под дождем. Стоят, тесно прижавшись друг к другу. Он набросил ей на плечи свою куртку. У обоих песок в волосах. Он спросил ее кое о чем. И она поцеловала его в ответ, что означало: Да.
Зрители хлопают. Три толстяка-азиата кричат «браво». Он отпивает еще виски. Надо бы разбавлять его колой, но колы как-то не хочется. Кто-то из официантов подает женщине руку, помогая спуститься со сцены. Как будто она настоящая леди (пусть и без трусов) и не может самостоятельно спрыгнуть с высоты в два фута. Хотя, может быть, если она спрыгнет сама на таких высоченных шпильках, больше похожих на пыточный инструмент, она сломает лодыжку и не сможет выступать. В стародавние времена беглым и пойманным рабам ломали лодыжки – то есть, специально увечили, чтобы они не могли убежать снова. Эти девушки никуда не сбегут. И не только из-за неудобной обуви. Просто им некуда бежать.
Его мальчик всегда убегал. Лишь на суде он узнал, что его сын месяцами прогуливал школу. Почему он не мог попросить помощи у отца? Да потому что отец должен был сам все понять. Отец должен был догадаться, что что-то не так. А он даже не был уверен, что это его сын. И мучался все эти годы, носил в себе эту горечь, словно какого-нибудь паразита, который сидит в кишках и питается дерьмом.
Он хорошо помнит тот день, когда это случилось. Когда он понял. Он заглянул в глаза сына и на мгновение увидел в них своего собственного отца. И все стало ясно. Да, это его сын. Бесспорно. Лихорадочно подбирая слова, которые совершенно не подходили, шаркая ногами, обутыми в лучшие туфли, по мокрой траве, он понял, что да, это его ребенок, его плоть и кровь, но было уже слишком поздно. Слишком поздно, чтобы сказать ей, что он ошибался, чтобы извиниться за свои подозрения, о которых она даже не знала. Слишком поздно, чтобы обнять сына и сказать, что он его любит. Сказать так, как надо. Чтобы сын понял, что это не просто слова. Расстояние между ними – всего один шаг. Но шаг длиной в долгие годы. Потому что до этого столько всего случилось. Было и прошло. Ему хотелось обратить время вспять, вернуть безвозвратно потерянные минуты, часы и годы, чтобы начать все сначала, уже вместе с сыном, со своим сыном. Но он не знал, как это сделать. Вместо этого он пожал сыну руку А потом просто смотрел, как тот садится в машину, сопровождавшую катафалк, с кем-то другим. И уезжает. Опять убегает.
На сцене готовится новое представление. Официант раздает посетителям воздушные шары. Он тоже берет один, красный, и надувает его, как и все остальные, сидящие в баре. Его самого удивляет, как легко он завязал «хвостик»; раньше это давалось ему с трудом и всегда раздражало. Надутый шарик он ставит в чистую пепельницу на стойке. Девушка на сцене достает пригоршню дротиков и короткую трубку, чтобы плеваться. По залу пробегает тихий шепоток. Он уже видел этот номер и знает, куда она поместит трубку. Впрочем, никто вроде бы не удивляется. Она полностью голая, только в теннисных туфлях. Ее маленькие острые грудки торчат вертикально вверх, когда она приседает на корточки и отклоняется назад, опершись об пол одной рукой. Другая рука будет нужна для того, чтобы направлять трубку. Теперь понятно, почему она в теннисных туфлях. Стреляет она мастерски. Дротик летит в первый шарик, шарик лопается, зрители аплодируют. Девушка поворачивается, вертясь на опорной руке, и одновременно перезаряжает трубку. Иногда она промахивается, но в большинстве случаев попадает с первого раза. И вот уже все шары лопнуты, остался последний: его шар, самый дальний от сцены.
Она поворачивается к нему. В другой ситуации ее поза была бы возбуждающей, но абсурдность того, что она сейчас делает, как-то не вяжется с возбуждением. Он берет шарик в руки. Если играешь, играй по правилам. Он держит шарик на вытянутой руке. Она стреляет. Ее лицо остается таким же пустым и бесстрастным, как у красивой куклы. Теперь он держит в руке лишь кусочек резины, который когда-то был шариком. Так всегда и бывает: вот у тебя что-то есть, а потом – бабах! – и остается лишь порванная оболочка.
В тот день он сделал ей предложение. Но сначала они целый день строили замки из песка. У них получился целый песчаный город, песчаная страна. Она рассказывала ему о людях, которые живут в этом городе, показывала, где чей дом. Где там пекарня, а где – дом мэра. Она построила из песка казармы для песчаных солдат, которые стояли у рвов и на городских стенах, храбро сражаясь с приливом. А на самом высоком холме стоял дом, в котором жили они. Это был не самый красивый и не самый большой дом в городе, потому что она сказала, что ей это не нужно. Это был дом, самый дальний от моря. Он стоял в самом безопасном месте. Но, в конце концов, волны смыли и его тоже.
Т как в Time
Учитель жизни и кроссовки
Со временем выяснилось, что у А и Асендадо было немало общего: отцы у обоих работали за границей, матери – умерли.
Отец Асендадо был испанцем, отсюда – и странное имя. И еще у него были три старших сестры, которые часто приходили его навещать.
– Мне не хватает девчонок, – говорил Асендадо. – И дело не только в сексе. Мне не хватает их смеха, их мягкости. Картинки этого не дают.
Стены их камеры были сплошь покрыты картинками: вырезками из журналов, которые Асендадо приклеивал зубной пастой. В их отделении Асендадо был порно-бароном; у него было шесть порножурналов, которые он за определенную плату сдавал желающим на ночь, взимая солидные штрафы за испачканные или порванные страницы. Картинки из этих журналов он на стены не клеил, и не только из практических соображений, чтобы не портить товар. Фотки на стенах были не столь откровенны: они только дразнили, но не травили.
«Не усложняй себе жизнь, когда все и так сложно» – это был его девиз, его главное правило, которым он руководствовался буквально в каждом аспекте тюремной жизни. Он научил А получать сознательное удовольствие от каждого принятого решения. Какую радиостанцию послушать, в какую сыграть карточную игру. Он говорил: чтобы сохранить рассудок, старайся держать под контролем все, что можно держать под контролем.
Не пытайся бороться с тем, что от тебя не зависит, чтобы лишний раз не обломаться. Сосредоточься на мелочах, которыми ты в состоянии распорядиться по собственному усмотрению.
В отделении Асендадо уважали и не потому, что боялись, хотя он с самого начала поставил себя так, что все сразу же уяснили: на чужое он не посягает, но за свое будет драться, и драться жестоко. Его уважали за то, что он знал, как улаживать разногласия, и всегда помогал другим, если по делу, и снабжал все отделение всякими необходимыми штуками. У него было то, в чем нуждались другие. Он принципиально не связывался с наркотой, не хотел заморачиваться на делах, связанных с конкуренцией, разборками и спекуляцией. Порножурналы, закуски, средства гигиены – вот это было как раз по нему. А тоже вносил свою скромную лепту из скудного еженедельного денежного довольствия в общую с Асендадо кассу, чтобы закупиться товаром для последующей перепродажи страждущим. И не только ради доли в прибыли, а чтобы поучаствовать в рискованном, в общем-то, предприятии. Чтобы хоть чем-то заняться. И закрепить дружеские отношения с сокамерником.
Асендадо не проявлял любопытства и не расспрашивал А о его жизни до тюрьмы. Это было еще одно правило из тех, которые он установил для себя: не приставай к человеку с расспросами, не лезь в душу. И А был очень ему благодарен за это, потому что при таком положении дел ему не приходилось говорить неправду. То есть, конечно же, приходилось. Так или иначе. Но вся неправда, которую он говорил, была мелкой и ровной – как его новые зубы.
Кстати, о зубах. Стоматолог приехал прямо в тюрьму. Ему отвели один из кабинетов в административном крыле. Это был спокойный мужчина, мягкий, интеллигентный и добродушный. В Фелтхеме он был явно не к месту: выделялся среди мрачного персонала, не говоря уже о заключенных, как кусок мела в банке с червями. Когда он приехал, раны на лице А уже зажили, синяки сошли. О том, что его избили до полусмерти, напоминала лишь дырка шириной в целый дюйм на месте выбитых передних зубов. Врач сделал гипсовый снимок, а через месяц привез протезы. Они подошли идеально, встали в десну, как влитые. А даже подумал, что, наверное, они бы держались и так: без штифтов и цементирующего раствора.
Стоматолог дал ему зеркальце, чтобы посмотреться, и А не поверил своим глазам. Он еле дождался вечера, когда стемнеет, чтобы как следует рассмотреть свои новые зубы в оконном стекле. И вот тогда, под звуки ночных голосов, выкрикивающих угрозы и оскорбления, он понял, что изменился. Хотя бы уже потому, что голоса его больше не задевали.
А ведь буквально недавно ему было страшно. В свою первую ночь в этом крыле с идиотским названием «Пустельга» он чуть не умер от страха, когда кто-то пригрозил выебать его в задницу. Асендадо сказал, что здесь так принято: каждый кому-нибудь угрожает, но чаще всего это просто пустые слова. Но А не был в этом уверен, тем более, после того, как его только что измордовали до полусмерти. Причем парень, который его избил, предупреждал надзирателей, что так все и будет. Но ему не поверили, не приняли его всерьез. А потом, по дороге на полдник, кто-то вмазал ему кулаком в поясницу.
– И не закрывай, бля, окно, пока тебе не разрешат, – сказал голос у него за спиной. Знакомый голос. – Вчера мне просто хотелось послушать, как ты поешь. А сегодня мне хочется покурить, так что с тебя осьмушка табаку. И смотри у меня, у тебя рожа и так как залупа, а если к вечеру табака не будет, я тебя так изукрашу, что мало точно не покажется. – Парень обогнал А и прошел вперед, вниз по лестнице. Он был ненамного крупнее А, но при нем были два прихлебателя. Так сказать, группа поддержки.
– И что мне делать? – спросил А у своего сокамерника.
– Можно попробовать откупиться, – сказал Асендадо. – Табак я тебе дам. Взаймы, понятное дело. Потом отдашь. – Он повернулся к А и посмотрел ему прямо в глаза, чтобы тот сразу проникся серьезностью сказанного. – Но не отдавай его сразу. Пусть этот придурок поймет, что ты просто так не сдаешься. И тогда в следующий раз он к тебе не полезет, выберет кого послабее. Здесь не обязательно побеждать. Но драться надо. – Он рассмеялся. – А у тебя сейчас самое что ни на есть подходящее время. Ну, чтобы подраться. Все равно рожа разбитая, так что сильно с тебя не убудет.
А не смеялся. Ему было совсем не до смеха. А чуть позже Асендадо ему показал, как надо правильно драться. Драться надо вблизи, вплотную – чтобы противник не смог размахнуться и ударить тебя по лицу. Они отработали удары по голени, по коленям и по локтям. Отработали, как бить в глаз и крутить уши. А сцеплял руки в замок на воображаемой шее и долбил головой в лицо воображаемого же противника, пока его кровь не забурлила адреналином. Ему почти не терпелось скорее начать драку. Но только почти. Потому что он хорошо помнил слова куратора: не ищи приключений на задницу, держись тише воды, ниже травы. Избегай неприятностей. Но здесь, в тюрьме, бежать некуда. Можно, конечно, тихонько отойти в сторонку, но рано или поздно придется вернуться на место.
Парень явился за табаком в так называемый «час свободного времени», или «час для общения», когда Асендадо не было в камере. Он куда-то ушел по своим коммерческим делам. А сказал парню, что табака у него нет, хотя табак был: лежал в носке, упакованный в плотный сверток. Парень сказал, что табак ему нужен к ужину. В противном случае он приведет своих друзей, и А будет хреново, обидно и больно.
Дрожа, как осиновый лист, А потянулся было к носку. А потом на него снизошло холодное спокойствие: окружило плотным кольцом, как когда-то – ребята из класса, его мучители. Он встал и сказал:
– Отьебись от меня, понял?
Когда Асендадо вернулся в камеру, было еще непонятно, кто из них берет верх. Оба были в крови с головы до ног. Асендадо кое-как вырвал парня из захвата А и вытолкал его за дверь. Тот ударился спиной о перила. Презрительно усмехнулся, вытер кровь под носом разодранным рукавом и ушел, не оглядываясь.
– Так, – задумчиво проговорил Асендадо. – Кажется, получилось.
Больше тот парень к А не домогался. Иногда он кивал ему и улыбался при встрече. И А улыбался в ответ, сверкая новыми зубами.
Терри пришел к нему через полгода. Полгода понадобилось на то, чтобы оформить все необходимые документы. А сообщили о предстоящем визите за три дня, и все эти три дня он ходил взвинченный и возбужденный. Он ни минуты не мог усидеть на месте, не мог сыграть даже – партию в очко. Целыми днями ходил по камере взад-вперед или подолгу смотрел в окно, словно пытаясь увидеть там что-то от внешнего мира, который уже очень скоро придет к нему в лице Терри.
Терри сказал, что А выглядит очень даже неплохо, и, наверное, так оно и было. Сам Терри выглядел просто отлично: здоровый румянец, хороший загар. Хотя он сказал, что в этом году еще не был в отпуске. Должно быть, он просто смотрелся таким загорелым по сравнению с бледными лицами заключенных, которые почти не бывают на улице. Они говорили о прошлом; вспоминали все, что было хорошего, как это обычно бывает, когда люди стараются забыть о плохом. Ну или хотя бы не думать об этом плохом. Гул разговоров медленно растекался по помещению, сливаясь с клубами дыма от двадцати разных марок сигарет. Народу в комнате для свиданий было немало: матери, жены, подруги и дети. Отцов было мало. Терри тоже, наверное, приняли за отца А. Вернее, приняли бы, если бы это было кому-нибудь интересно. Если бы кто-то заметил, как они обнялись, когда время свидания подошло к концу и как глаза Терри заблестели от слез, когда он сделал знак А, мол, держи хвост морковкой; как, уже стоя в дверях, они обернулись, одновременно, и помахали друг другу, и улыбнулись, как улыбаются только родные люди, отец и сын. Люди, которые по-настоящему любят и ценят друг друга. Люди, которые всегда были вместе. Всегда сообща. Или которые пережили большое горе, одно на двоих.
Когда А вернулся в камеру, Асендадо опять любовался своими запасами мыла. Его радио было настроено на пиратскую станцию хип-хопа. Надзиратель, который привел А, рявкнул на Асендадо, чтобы тот сделал музон потише. Когда надзиратель ушел, заперев их в камере, Асендадо опять выкрутил звук на предельную громкость, достал специальную тряпочку и принялся чистить свои кроссовки, белые «Рибоки», хотя, насколько А мог заметить, они и так были чистые, без единого пятнышка грязи.
– Теперь к тебе ходят, и ты им скажи, чтобы тебе принесли кроссовки, – сказал Асендадо, не отрываясь от своего занятия. – Здесь только лохи так ходят, в казенных ботинках. А у нормальных людей есть кроссовки.
А кивнул, хотя совершенно не представлял себе, как завести разговор о кроссовках с Терри. Как-то это не очень удобно. И вообще, наверное, не стоит злоупотреблять хорошим к себе отношением. Ведь он не какой-нибудь отморозок.
Кстати, об отморозках. В Фелтхеме всем заправляла банда ООМК, организованных отморозков из Мильтон Кейнса. Конечно, не так, как надзиратели – но круче, чем коменданты, которые сменялись по два раза в год. Лидеры конкурирующей группировки КУСА, команды ублюдков из Сент-Альбанса, решили было возбухнуть, в результате чего команда надолго лишилась двоих активистов. Их люто порезали бритвенными лезвиями, вплавленными в зубные щетки. А самый главный вожак огреб РР-9. Когда А впервые услышал это выражение, он подумал, что РР-9 это номер какого-нибудь формуляра, обозначающий определенное наказание или перевод в другое отделение, в общем, какой-то невнятный номер из набора случайных чисел, которыми надзиратели стращали провинившихся зеков. Но оказалось, что РР-9 – это размер батареек. Самых больших батареек, которые разрешены в тюрьме для заключенных. Кстати, страшная вещь. В приложении к чьей-нибудь голове. Если вложить эту дуру в носок и прицельно ударить с размаху, человек вырубается на раз.
Предводитель КУСА словил свою «девятку» в душе. Его ударили сзади, без предупреждения. Он упал на колени и повалился вперед, лицом в пол кабинки, где было на два дюйма воды – душ работал на полную мощность, и вода просто не успевала стекать через сливное отверстие. Вода сразу окрасилась красным. Нападавший ударил еще раз, голое тело на мокром полу дернулось и затихло. Нападавший спокойно вышел из душевой.
А все видел из кабинки напротив. Потом, когда пришли надзиратели, чтобы забрать оглушенного парня в лазарет, он сказал, что тот сам поскользнулся, упал и разбил себе голову. А иначе откуда бы здесь столько крови, если никто ничего не видел?
С тех пор А всегда мылся в душе, стоя спиной к стене. Не потому, что боялся выронить мыло и получить «палку в задницу» (как нервно шутили ребята в колонии), когда будет за ним наклоняться. А для того, чтобы видеть, есть там кто-то еще или нет; чтобы знать, чего ждать. Они с Асендадо обретались вдвоем в «одиночке», в камере, предназначенной для одного, а сидеть на толчке – просираться, когда рядом есть кто-то еще, все же не очень удобно, и чтобы не сильно стрематься, они ходили в душ поодиночке: пока один мылся, второй оставался в камере и пытался сделать свои дела. Но это значило, что в душевой А всегда был один. А ведь известно, что всякое может случиться, когда ты стоишь в тесной кабинке голый и беззащитный: вода смоет все доказательства. Но А потихоньку осваивался. Не сказать, чтобы он стал совсем уж крутым. Он, конечно, боялся. Но уже меньше, гораздо меньше.
Они с Асендадо почти каждый день ходили в спортивный зал тягать штангу. По закону все заключенные имели право на один час физических упражнений в день. И пользовались этим правом, когда было можно. Сперва по сравнению с другими ребятами А себя чувствовал слабаком, бледной немощью. Если бы не Асендадо, он бы, наверное, вообще перестал ходить в зал. Но Асендадо не давал ему расслабляться, и уже очень скоро А обнаружил, что стал гораздо сильнее. Реально.
Когда они с Асендадо ходили в зал, А считал, что день прожит не зря. Потому что с каждым таким днем он становился сильнее, крепче и жестче. Он как будто готовил себя к тому, чтобы достойно встретить очередную подлянку, которую подложит ему большой мир. Потому что подложит, наверняка.
А большой мир был не так далеко от Фелтхема. Почти в пределах досягаемости. Всего в нескольких милях от Хитроу. Гул больших самолетов был слышен и в камере, если открыто окно. Самолеты летали туда-сюда. Увозили одних людей, привозили других.
В следующий раз, когда Терри приехал его навестить, он привез пару кроссовок. Как будто прочел мысли А. «Рита Sunrise». В общем-то, ничего выдающегося по «великой градации» спортивных туфель, но в миллион раз круче казенных тюремных туфель, в которых, как говорил Асендадо, ходят только лохи.
– С днем рождения, – сказал Терри. – Да, я знаю, что он у тебя не сегодня, а в среду. Но в среду мы не увидимся, так что подарок – сегодня.
А и забыл, что у него скоро вроде как день рождения. Ничего не значащая дата, такая же бессмысленная, как и его вымышленное имя.
– Они классные. Спасибо, – сказал он Терри. – А как вы узнали?
Кроссовки действительно были классные. Белые, как яичный белок, с ярко-желтыми полосками. Терри лишь улыбнулся.
Когда ходишь в кроссовках, тюремные полы кажутся не такими жесткими. Кроссовки – это не просто обувь. Это предмет гордости. Р1х берегут, их содержат в идеальной чистоте. А носил их, что называется, не снимая. И когда «Пумы» вконец убились, Терри принес ему новые. Это стало традицией. «Рита Sunrise» превратились в «Reebok Classic» с синими полосами. Потом были «Converse One Stars». Точно такие же, какие были на Курте Кобейне, когда он выстрелил себе в голову из помпового ружья. Но А они сослужили хорошую службу. А когда отслужили свое, их заменили серые «New Balance» с номером вместо названия. Смотрелись они очень круто и стильно, но А испытал странное облегчение, когда они порвались на носках. Потом у него появилась первая пара «Nike»: «Yukon И». Не самая лучшая модель из «Найков», но «Найк» все равно чемпион! Однозначно. Терри заметил, как А обрадовался подарку, и с тех пор приносил ему только «Найки». За «Юконом» последовали «Air Stab» и «Air Vengeance». «Воздушный удар» и «Воздушная месть». Названия, конечно, не самые лучшие. Но сами кроссовки – супер.
Кроссовки стали отметками времени. По ним А восстанавливал в памяти события тюремной жизни, так же надежно и безошибочно, как по сокамерникам.
Асендадо исчез где-то на середине «Рибоков»: за ним пришли посреди ночи и сообщили, что его переводят в другую тюрьму. Без каких-либо объяснений. Впрочем, это было обычное дело. Ему разрешили забрать с собой только самое необходимое, так что А унаследовал его «богатство». Какое-то время к нему никого не подселяли. Пока А был один, он часто вытаскивал мыло из шкафчика и стирал с него пыль, слушая радио. Он не продавал вещи, оставшиеся от Асендадо. И не давал никому «на время». Почему-то это казалось неправильным. Вот так получилось, что когда его переводили во взрослую тюрьму, он потерял все, что было. Из личных вещей ему разрешили взять только кроссовки, которые были на нем.
Во взрослой тюрьме было легче. А особо не трогали. Собственно, там вообще никого не трогали. Разве что только по делу. Это место считалось более спокойным и мирным, чем Фелтхем. По статистике, случаи нападения на других заключенных случились тут вчетверо реже по сравнению с тем же Фелтхемом. Здесь было меньше людей, сидящих за преступления, связанные с насилием. Никто не выделывался, никто не пытался самоутвердиться за чужой счет. То есть кто-то пытался а как же без этого? Но таких было мало. Сидели здесь в основном профессионалы, для которых тюремный срок – часть работы, наподобие обязательного просмотра «Антикваров на выезде» [35]35
«Antiques Roadshow» – документальная передача на ВВС, в которой рассказывается о поездках по стране оценщиков антикварных вещей, о самих этих вещах и о различных местных достопримечательностях.
[Закрыть].
Они не мучались сознанием вины, они вообще ничем не заморачивались – просто считали дни до освобождения.
Ближе к концу, с приближением СРДО (самой ранней даты освобождения), его перевели в открытую тюрьму Форд, такое же «место не столь отдаленное», как и любое другое, но с менее строгим режимом, куда помещают тех, кто уже скоро выйдет из тюрьмы, – чтобы помочь им адаптироваться к жизни на воле. Матрасы там были такие же тонкие, как и везде, не толще туалетной бумаги, они так же сбивались и мялись, и каждое утро А просыпался с ощущением, что он всю ночь провалялся на голых досках. На окнах были решетки, камеры запирались, но сущность свободы – не в открытом пространстве. Сущность свободы в том, чтобы делать, что хочется. Дни по-прежнему были похожи на единственную кассету, которую ты слушаешь снова и снова за неимением других; только в открытой тюрьме музыка была лучше. Гораздо лучше.
Среди тамошних заключенных было несколько человек, которые весь срок отсидели в Форде. Грабителю банка и работнику того же банка, который растратил казенные деньги, положено разное наказание. Там сидел один бывший член кабинета министров, злоупотребивший своим положением, и один оскандалившийся бывший мэр. Оба – тори, оба в криминале по самые уши. Оба такие же знаменитые, как и сам А, или тот мальчик, кем он был когда-то. Как правило, эти привилегированные заключенные вели себя тихо и скромно: глазки – в пол, рот на замке. А их по-своему жалел, ведь для всех остальных, «простых смертных», Форд был финишной прямой. Все остальные рано или поздно выходили отсюда на волю, а «джентльменам в опале» оставалось только смотреть и завидовать. Как-то раз А случайно подслушал, как кто-то из них говорил, что содержание в тюрьме одного человека обходится очень недешево: примерно столько же, в год, сколько он тратил на обучение дочерей в престижном женском колледже в Челтенхеме. А как-то раньше об этом не думал, а теперь вдруг задумался, сколько же денег было потрачено на его содержание в колониях и тюрьмах за все эти годы. И что можно было бы сделать с такими деньгами.
В Форде их обучали всяким полезным умениям и навыкам. Ну, чтобы люди, которые выходят из тюрьмы, умели не только плести веревки из разодранных простыней на предмет передачи вещей из камеры в камеру. А научился готовить, и у него получалось вполне пристойно. Он очень гордился своими успехами. Один раз ему разрешили приготовить угощение для Терри.
Терри приезжал достаточно часто. Свидания в Форде проходили в более свободной, расслабленной обстановке. Здесь вообще напрягались значительно меньше, даже надзиратели выглядели если не добродушными, то хотя бы не такими угрюмыми и недовольными. В общем, оно и понятно. Надзиратели – тоже люди. И когда А об этом задумался, он пришел к выводу, что назначение на работу в тюрьму строгого режима вполне можно расценивать как наказание.
А как-то не верилось, что его выпустят на свободу, пока Терри не подтвердил, что да: выпустят, уже скоро. А никак не мог свыкнуться с этой мыслью. На самом деле, это была даже не мысль, а что-то настолько радостное и большое, что оно не укладывалась в голове. Просто не помещалось. Ему разрешили выбрать для себя имя. Правда, его это насторожило. Он подумал, что эта такая психологическая хитрость, очередной ловкий прием, чтобы залезть к нему в душу И поэтому он выбрал простое и самое обыкновенное имя. Нормальное имя, которое не раскрывает характер владельца. Собственно, он к этому и стремился: стать нормальным, обыкновенным.
В тот день, когда А стал Джеком, Терри подарил ему последнюю пару кроссовок. Ослепительно белые «Найки». «Air Escape». «Воздушный побег». Замечательное название. На пять баллов. И сами кроссовки – отличные. Самые лучшие из «Найков». Самые лучшие в мире. А на коробке написана фраза. Вроде как добрый совет. Не от Терри, а от самой Ники, богини победы, по имени которой, собственно, «Nike» и назвали «Найком». «Просто возьми и сделай». Да, именно так и надо. Возьми и сделай.
И уже в машине, которая с тем же успехом могла быть и самолетом, потому что она уносила его в другой мир, и мчалась так, что, казалось, сейчас взлетит, ему объяснили, что теперь у него вновь есть семья. Потому что теперь Терри стал его дядей.








