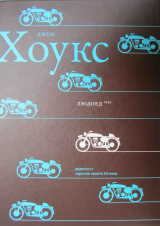
Текст книги "Людоед"
Автор книги: Джон Твелв Хоукс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– Еще гренков, – сказала Стелла.
– А, гренки, – сказала женщина и исчезла.
Стелла подумала, что отец ее очень страдает. В некоторые часы дня она прогуливалась с ним туда и сюда по прекрасным тихим коридорам, рука его лишь слегка покоилась на ее предплечье, на ссохшихся устах улыбка. Иногда страдала она сама, хотя обычно – вечером, в синих тенях своей комнаты, никогда не поутру, ибо знала, что в сумерках увидит его полускрытым в полном пышном облаченье за высокими зажженными свечами. Стены столовой с приходом ночи темнели, столовое серебро вспыхивало от язычков пламени, на отца падали громадные тени от белых цветов, а не папоротников, покрывая его мнимой переменой, которая ее пугала. Теми вечерами Стелла вспоминала, как с нею, еще маленькой девочкой, он разговаривал, покуда голос у него не пропал, и она слышала, как голос его рассказывает об осадах и ухаживаниях, об изумрудных землях, и она желала, чтоб он по-прежнему оставался отцом. Вечерами же различать ей не удавалось.
Из нескольких долгих бесед с матерью она знала, что в пяти поколениях мужчины были высоки, пригожи, благоразумные и благородные солдаты, все в точности походили друг на друга, словно братья-орлы, и все трое мужчин умерли молодыми. Ее отец так пережил черты тех других мужчин и свою семью, что более не существовал и не мог даже говорить. Мужчина, сокрытый за свечами, сбивал ее с толку всеми своими прожитыми годами.
– Незачем мне докладывать, куда ему нужно сходить, – пробормотала она, и знакомая Герты, вернувшаяся с гренками, смешалась от ее слов.
Волосы прямо у шеи были у нее гнедыми, остальные – лимонными и, когда она шла, порывисто скользили, словно она уже там – там, в мавзолее, где лежал он в гипсе, где под ее молитву заметали розовые лепестки. Ибо в жарчайшую часть полудня дом усыхал, и его белое лицо оказывалось в длительном покое, идиот за завтраком, маршал за ужином, становился стариком в маске в жаре солнца, куда б ни шла она. Она бы с радостью вырезала эпитафию сама ради одного лишь беглого взгляда, прежде чем дверь замкнули на щеколду, – от полуденной жары мраморную пыль она ощущала как свежую. Никогда на свете не могла б она его постичь – лишь обрезки из материной тщательно оберегаемой грудной клети. Иногда, если Стелла выглядела особенно прекрасной, чувствовала она, будто рухнет вместе с домом вокруг нее, когда он наконец уйдет.
Ее комната прямо у шиферной кровли была тепла, морские пейзажи, размеренно развешанные по стенам, заполняли ее синевой, птицы под окном смолкли. Ютта, нескладное одиннадцатилетнее дитя, дремала в конце коридора в загончике маленьком и низеньком, что мог бы принадлежать школе-интернату или женской обители, белой и голой. Рот у нее открылся, и она тяжко сопела, худые ноги разведены, как будто она скакала на лошади. Стелла закрепила шляпку розовыми и желтыми лентами, натянула белые перчатки, пошла было вниз по лестнице – и остановилась прислушаться к тихим мерзким шумам спящего дитя. Снаружи ее перед домом застало молчанье толпы, и все глаза смотрели вверх. Там, на узком балконе, притиснувшись к Герте, стоял ее отец, по-прежнему опираясь на нее, а она улыбалась, и подле мундира его трепетали ее кружева. Тут же заговорил он, и единственное слово пало на них, притихших и возбужденных.
– Победа. – Миг ждали они большего, наблюдали, слушали, а затем разразились воплями признания, пока старика вводили обратно в дом. Они не сознавали, что он считал войну, которая только началась, уже завершившейся, и подхватили это слово, и отправили его в полет вдоль по улице от одного потрясенного гражданина к другому. Стелла пошла, ее парасолька ловила сень громадной шеренги деревьев.
Мужчины приподымали шляпы, мимо катили подводы, и тяжкие крупы величественно кивали меж оглобель, лязгали цепи, жалили кнуты; в лавках вяло висели флажки, как будто праздник. Ей ухмылялось неимоверно громадное фаршированное чучело рыбы, солнечный свет скакал меж голубых плавников, вокруг кучами громоздились мелкие мидии, серые и мокрые, словно ее же икра на колотом льду. Часть улицы оранжевым покрывала маркиза, прохожие разделялись на равномерные болтливые дорожки, а детвора, шедшая в парк, щерилась, буксируя их вперед. На промышленном заводе Круппа цепями и стрелами раскачивали громадные стальные бочки, покрытые светло-зеленым тавотом и нацеленные сквозь зарешеченные световые люки к летнему небу. В тюрьме заключенные выглядывали на белый известняковый двор, на хрупких резиновых колесах мимо неслись коляски, и обок миновали Стеллу лацкан за лацканом, испятнанные белыми цветками. В восторге этого первого теплого волнующего дня – афиши, расклеиваемые по всему городу, матери, гордо оглаживающие сыновей по головам, – тетушки и дядюшки Стеллы, менее удачливые кузены и знакомые, обмахивающиеся веерами в безжизненных гостиных или записывающие дату в дневники, недоумевали, как начало военных действий повлияет на положение ее отца, и, вырядившись в яркие цвета, готовились нанести визит.
Вдруг в середину уличной сутолоки нырнула ласточка и вновь взмыла, преуспев. Тогда-то и началась мигрень. Настала она тупым жженьем, что может явиться в полуденные часы на пляже, мягким ощущением в глазах; сплиссировавшись под желтыми волосами, мигрень медленно пробралась вниз по загривку, и от нее замерцали полные слюны рты над белодамскими перчатками полицейского. Стелла поднесла руку к груди, потому что головная боль была настолько крохотной и чуть не застряла у нее в горле.
– О, да, – произнесла она себе, – я видела столько художников. – И впрямь некогда прошла она мимо мужчины, обмякшего на стол, вычесывавшего блох. Морские пейзажи по стенам ее комнаты напоминали ей о теплом юге, об островах, где от белого солнца болят глаза, о гальке, что словно кончики ее пальчиков и жемчужно-серая. Она нипочем не смогла б ни над кем смеяться, бархатное плечо быстро прошмыгнуло мимо, резкое синее и красное спешили вдоль по улице.
– Твой отец был чудесным, храбрым, любящим человеком, – говорила, бывало, ей мать. Гавкали и выли собаки, она поглядывала с желтых стен на белые, создавая по ходу мелкие впечатления, что оставались драгоценными и источником нескончаемого вдохновения, перехватывая проворный смуглый взор вероятных европейских богатств, жалея ботинок с каблуком вдвое выше нормального. Здания, низкие, позлащенные, со своими шпилями, вперенными до смехотворной нелепости коротко в небо, все пытались пасть на улицу, защищенные железными пиками, отбрасывали к облакам желтый туман. Когда лицо у нее было серьезно, когда смотрела на подводы она или на минующие размытые номера, врезанные в камень, наблюдала за улицей, пока та двигалась, когда лицо ее оставалось пустым, было оно цветочком, как будто девочка покрупнее отошла найти Отца. Но когда она улыбалась, рот был туг, желанье терялось по мановенью рук ее. Герта, если луна уже принималась тонуть, бывало, уносила ее прочь от материна ложа; и, не спя, меж тем как нянька караулила у двери, ей удавалось расслышать, как где-то в коридоре прерывисто храпит старик-отец. От солнца у нее болели глаза; теперь слышать давалось определенно труднее, раз от головы так больно. – Твой отец был высоким мужчиной, и мы ездили в горы, пока не появились железные дороги. – Когда – нечасто – беседовала со своею матерью, говорила она сквозь нее, как через черную нестойкую слуховую трубку, с очень старым человеком, который сидел и слушал, мертвенно-бледный в кресле-качалке, лет тридцать или сорок назад. Теперь же в беззубом глазу его она для него была неким заряжающим мальчишкой с мешочком пороха на бедре.
– Победа, – заорал кто-то, и мальчишка помчался по задымленной улице без фуражки.
Хвостовой конец парка был узким отрезком чахлой зелени, туго уловленной меж высоких стен в центре города, тем акром, куда редко падало солнце, а мелкие конторские писцы курили в любой час. Как ни странно, сегодня на солнце было ярко, и ярыжек толпилось там больше обычного, черных и прозрачных. Стелла походила взад-вперед меж двух скамей, что оставляли на блестящих штанах отпечатки реек. Вывернутые черные носки ботинок, высунутые бездельниками на узкую тропу, касались подола ее платья, голова у нее трепетала под лентами, болела пуще, а рядом трусила громадная собака с черными и белыми пятнами. Небо на миг потемнело было кляксою кремового, что вновь откатилась к чистейшей белизне, превращая клочья травы в солому. Некогда Стелла пряталась от Герты под материными юбками, ощущала всеохватный уют ее рюшей, и то было странное переживание. Мать совала тяжелые руки под складки, ловила юлу и вручала дочь няньке, которая вечно давала дурные советы, чтобы ребенка взяли в ежовые рукавицы.
– Твой отец не хотел бы, чтоб ты так себя вела. – Стелла отсекала от себя весь город, кроме одной этой пажити, выставляла наружу весь свет, кроме того, каким ломило у нее в голове, и в вышине над перешептывавшимися писцами осознавала, что очень любит Эрнста. Город, и крепости, и мостовые он – чащобой юных волос – защищал от того, что умирает. Ждала она терпеливо. – Боже мой, дурашка, отчего же ты не спишь? – Мать говорила горлом, раздувшимся над краем простыни, туго натянутой на бюст обеими руками. Отец, вернувшись в комнату, заложенную ставнями, в расстегнутом мундире, согбенный и осунувшийся, скитался вокруг трех сторон одра, его тонкий римский нос подергивался от воодушевленья, верхушка черепа угрюмо побагровела. Комната была надежно укрыта, тепла, золотисто-каштановый пушок рдел сквозь ставни и тьму. Старуха была бела и все еще в постели, а вокруг нее черное дерево инкрустировано кусочками – сломанными крылышками – серебра. Отец пребывал в одной из своих грез наяву – очень медленно отсчитывал некое нелепое либо важное число на желтых пальцах, и оно никогда не сходилось. Пусть одно тело было тяжким, а другое хрупким, пусть один голос стращал, а другой еле бормотал, пусть мужчина колыхался от смятения, а женщина покоилась для прощанья, оба они были скорее одним и тем же, поскольку оба полысели и побледнели, а лбы их, глаза и рты остались невыразительными от старости. Гадалка, глядя на их ладони, не увидела бы жизни за всеми путаницами тонко прочерченных желтых линий, мягких подушечек внахлест и не пройденных толпящихся дорог. «Если б только ускользнул он к свету Небесному», – подумала она. – Сядь, – сказала, однако он не обратил внимания, и до нее донесся лишь длинноногий шорох его мундира, а невыносимое солнце давило над ними на крышу.
Ютта проснулась, а комната полнилась черными очертаньями.
Жара, казалось, набирала решимости, даже писцы пыхтели, тесно перешептываясь друг с другом на ушко, и Стелла верила, что солнце никогда уже не падет, пылая, сквозь оцепеневшее ясное небо. Было ей непонятно, как странные дикие людоеды с тропических островов или на темном континенте, бегающие с белыми костями в волосах, – темные ноги их отвердели в мерцающем песке – могли выносить, лишь в перышках своих, это жуткое солнце. Ибо от мигрени ее клонило в сон. Она видела тех людей, тащивших жертв своих высоко над головами, как высоких, мстительных существ, какие безумно распевали на своей тайной скале, даже по ночам спали на искристом розовом камне в огне, вытягивали высокие свои тела и на отдыхе, и в погоне, кто жен своих держал обнаженными от пояса и выше. Уши у них были проколоты, над их детворою низко жужжали насекомые, из моря все подымались и подымались острова. Хоть она устала и было ей отчаянно тепло, и даже в таком трепетном состоянии – она его любила. Висок у нее бился, писцы наблюдали. Ее сердце в окне и изнемогающая от зноя вера начинали опадать, сметенные нетерпеньем. Устала она от этого парка, набитого шумом, так близко от проходящих лошадей, на которых надели ермолки с дырами для ушей. Она боялась, что ее оставят одну. Затем, не успел ей выпасть случай столкнуться с образом, явившимся пред нею слишком уж внезапно, не успела она защититься против этого отражения, какое выискивала во всех магазинных витринах, и оградиться от ужаса самой себя, увидела она, как он бежит через дорогу и по тропе, полуобернувшись вбок, худой, взвинченный, с неукротимой улыбкой сквозь свежие бинты на голове.
– Стелла!
– Эрнст!
Двадцать минут они гуляли под желтой и зеленой листвой, и миновали прохладный пруд, ясный, как небо, нюхали ягоды, возделываемые парковыми властями, несколько красивых сочившихся цветков, и проходили мимо младенцев, что визжали карликами в коляске. Затем он проводил ее домой, оставил ее, ощущая наконец приближенье сумерек, чувствуя, что сердце у него полно и смутно, как вода.
Под конец следующей недели первые тысячи уже глубоко проникли на неприятельскую землю, поезда с боеприпасами ревели всю ночь напролет, город допоздна горел буйной, однако великолепной организацией, и в доме полно было визитеров, пытавшихся выразить соболезнования ее родителям в спальне. Все тщились на своих мягких лапах взять штурмом их, ее стены, перевалить через них в дом, что был не более ее, нежели их, выискать мать – мухи на белой простыне – выпытать знание о почтенном муже – ползали они так же, как ползала она. Стелла ловила, невольно, обрывки слов, часть любви в продолженье семи дней – и забыла о людоедах. «Мы встретились в прекрасной рощице в самый канун лета, нюхая росу». Но теми часами, пока Герта топала по дому, подавая им чай в приемной, где они все еще не снимали своих чудовищных шляп, Стелла по некой причине чувствовала, будто эти краткокрылые существа, чужаки всего-навсего, явились скорбеть, и весь этот траур, посещение мертвых, был последней отчаянной попыткой, последней возможностью посплетничать. Ощущала она, что они отнимают радость солнечного света, марают пятном, словно окружают непростительным забором-времянкой, само тщание и домашний сумеречный покой, которого она не понимала. Морские пейзажи утратили свой цвет, ей посреди этой примечательной мобилизации начало казаться, будто её обманули. Эрнст на ту неделю уехал, и старый дом туго запечатали, хотя они просачивались сквозь окна и двери. Ютта вела себя грубее обычного.
Седьмое утро было жуть какое прохладное. Пропал весь свет, плоды сплющились, лязг челяди стал навязчив и резок, оркестры играли в парке громко и мимо нот. Они угомонились. Старик метался по пустым коридорам быстрее обычного, братья шептались, все кольцо темных покоев собралось, не тоскуя, но напряженно, несчастливо в тугое настоящее. Мужчин толкали сперва в одно плечо, затем в другое, прочь в серую шеренгу, и задрожал весь дом от тиковых стропил до винных сундуков. Тем утром мать сделала шаг с кровати, словно бы живая, миг один пялилась вокруг себя в неприятные тени, точными стоическими движениями принялась одеваться и стала, постепенно, чудовищно крупна. Оделась она в длинное черное платье, плотные серые перчатки, тугой воротник с рюшами и шляпу с громадными вислыми полями, от каких темные клочья вокруг ее глаз и на щеках выделялись еще сильнее, больше казались увечьями, какие нужно сокрыть. Было время, много лет назад, когда мать покинула отца и вернулась лишь три месяца спустя, худая как щепка, прелестная. Теперь возраст ее лип к ней непривлекательными мазками, хотя сегодня она вышла наружу так, словно чтобы приложить одно последнее усилие и от них избавиться. Черные клочья ее были яростны, и, когда стало известно, что она встала, дом впал в безмолвие, хотя отец все еще прерывисто двигался, путаясь под ногами, как будто что-то шло не так. Мать где-то некогда забыла о нравственности, самообладании и грядущем царстве. Ее слишком уж пригнуло бременем книзу, настала ее пора, ибо недостающие зазоры наполнял возраст.
Стелла несла глубокую корзинку, улицы пустовали, несколько сияющих облаков торопливо сдувало поперек горизонта под дымно-черным ненастьем в тысячах футов выше. Мать под руку она взяла жестом – тепло – уверенности.
– Мне вот эти лимоны, пожалуйста. – Лысоголовый человек выронил их внутрь, хлопнул фартуком розовоносой собаке. Над синим мясом нависали мухи.
– Картошки. – Они покатились среди лимонов в пыли. Глупая девчонка просыпала деньги на прилавок, потемнело.
– Яблок. – С деревьев, ветвей, спрыснутых водой, зелеными листьями. Корзинка стала наполняться, зеленщик прихрамывал.
Живая птица помалкивала в грязной клети, когти цапали прутья, облепленные пометом, глаза моргали при каждом движенье.
– Дыни, твоему отцу нравятся дыни. – Были они исшрамлены и зелены, и корзинка от них потяжелела. Из-за хогсхеда сыра выглянул мальчишка бакалейщика, красный язык болтался, босые ноги загребали опилки.
Мать и барышня принялись переходить через дорогу.
Эрнст
За ними разоралась курица, и в небе показалась соринка.
– Думаю, мне надо остановиться и купить цветов. – У них с пути убралось несколько праздношатающихся, старуха обдумала свой список.
– Тебе не стоит переутомляться, Мама.
День был примечательно неинтересен – намеренно холодный день, когда все летние жучки попрятались, несколько кустиков запахнулись и гнетуще заляпались необратимой синевой, все открытые окна затенены, спящим неудобно, взад и вперед покачиваются несколько омнибусов, пустые, неспешные.
– Думаю, я возьму… – произнесла мать, но больше ничего не сказала, глядя с крайним отвращением на опустошенный родной проспект, фасады удушены неровной рукой, редкие веточки замело в стоки, ни единого смертного. То было всё.
Зов полицейского вылинял до белиберды, свелся к непроизносимому смятенью, когда соринка быстро пала с неба, две головки, обтянутые кожей, в ловушке дымящихся дыр, мотор, не крупнее тулова мужчины, дует ревмя, свистит, глупо кашляет. Он пронесся над матерью и барышней, махнул разок плавниками и разбился, типично по-английски, на другом краю Плаца. Бумага и дерево сгорели быстро, пожрали летунов, оставив слюду над их глазами все еще нетронутой. Падая так со своею механической неисправностью, аэроплан выпустил в грудь матери щепку, что сбила ее наземь.
Полицейский все толкал и толкал Стеллу в плечо, а полуодетая толпа вновь и вновь вопрошала:
– Что сталось со старушенцией? – А сталось то, что они вывалили на улицу и наткнулись на мертвую старуху, которую попинало, согбенную, черную. – Чего вы толкаетесь? – Сладкая травка почернела в проходе улицы, старый медиум так густо обернулся дымом, что второй голос отца, эта мать, поперхнулся, онемев, с угольками в ямочке ее подбородка и над раскрытыми устами.
– Гаврило, – пробормотала Стелла, – что же ты наделал?
Птички чирикали ангелическим подозреньем, кружили высоко и низко, кормились, гнездились, звали за шторами мягкой насмешкой, и дни миновали в умеренном климате летних камней. Мраморная пыль пала в покое; освинцованные шторы, в последнее время задернутые, висели подбитые и полные поперек солнечного света, хранители комнаты. Морские пейзажи исчезли, на стенах не осталось никаких теней, серебряные хвостовые плавники, что казались поднявшимися из прошлого, шелестели мягкими ракушечьими голосами, и каждую намертво глухую полночь или полдень ей недоставало колокольного перезвона. Траур ее был холодной волной, сухим мерцаньем пальцев при кончине, жестом, кротко покоящимся у нее в горле, что едва тревожило бережный сдвиг света, проходящего своим путем. Всегда стояли сумерки, подымаясь, просыпаясь, падая в праздности, прилежно отзываясь у нее во сне, сообщая об одиночестве каждого дня прошлого. Стелла считала, что и ее дроги неподалеку. Тот нескончаемый исход дня царапал ей колени, что ни день тускнел все больше дух, нашедший себе убежище за тяжкой утраченной маской падающего воздуха, отступающего густого юга.
Те суда, что некогда вкатывались на бурунах, холодны были и худосочны и странствовали далеко за пределы ее печали. Материны руки были скрещены, морщинки странно углубились, покуда лицо не пропало вовсе, цветы обращались в холодную земную бурь. Черный воротник сбился на шее вбок, кольцо ее собственной матери пред нею запихнули в торопливую атласную расселину обок ее, завернувши в бумагу. Вокруг набрызгали водой, стараясь сохранить воздух свежим, а отделка взялась тускнеть. Вечером лицо меняло цвет. От подушек-думок подымалась сладость; ни чулок, ни туфель мать не носила, и с волосками, ломкими и тонкими, состриженными вместе, справиться было трудно. Веки распухли, и никто не навещал.
Стелла ждала, не спя в креслах, прислушиваясь к приглушенным шагам, лицо ее в постоянной позе циркового мальчишки, изломанное, холодное, отчужденность его не тронута памятью, онемело от лета. Траур девственницы, как если б ее впервые маханули теперь поближе к обвисшей материной груди на ее первый танец, обострился в улыбке, когда оркестр поднялся, и они заскользили по пустому проспекту, старуха в крахмальном воротничке вела, спотыкаясь. Те сухие неподатливые пальцы задели ее, замерли наготове, смущенные лицом, что никогда не двигалось. Стелла не прекратила, завидя множество других безглазых танцоров, ее выманило дальше первого впечатления о той поре, ясной и редкой, но, сидя, ждала она за часом час. Те пальцы шелестели во тьме. Она слышала, как неумолчно царапают ножки насекомых, ходивших по крышке гроба – синие крылышки, крапчатые глазки, – а старый епископ мямлил, пробегая пальцами по прямоугольнику кромок, запечатанных воском. Они пытались завить волосы, но плойка оказалась очень горяча и жгла. Ноздри ее, отнюдь не раздувшись от горя, тесно, бесстрастно сомкнулись воедино, отчего на вершине носа возникли два маленьких мазка.
Порой она думала, что помахала тогда. Она видела, как полуют судна продвигается медленно все дальше по плоской воде, несколько неузнанных лиц пристально смотрят на нее, и на миг почуяла запах рыбы. Море бесшумно откатывало прочь, и, возвращаясь, все тропинки давились мраморной пылью, в воздухе пахло полотном, мертвым деревом. И все предки Стеллы наконец свершили это путешествие – в океане полно судов, что никогда не встречались. Сколько б пудры ни просыпали на материно лицо, на следующее утро под кожей жестко лежать будет железный серый цвет. По ночам рядом с ее креслом ставили лампу, а с первым светом уносили вновь, пламя в ней задевало негнущиеся складки, слабо сиявшие, словно гладкие потревоженные гребни волн, ее платья, чуть ли не вымершего. Всякое утро сидела она точно так же прямо, как будто бы не знала, что они рыскали вокруг нее во все полночные часы, за шаром лампы. Никогда не увидит она, как они приплывают назад, и сей самый дальний гость, выложенный поблизости для прощанья, спящий и днем и ночью, столь изменившийся вступлением в черную роль, казалось, дожидается, чтобы доставить ее в землю желанья, где плач ее покроет всю горку над равниной. Лицо Стеллы постепенно стало неумытым, руки исхудали, пальцы перестали гнуться, во рту у нее пересохло, пока она старалась припомнить имя этой личности. Служители и внезапные последние посетители потели. Старуха отсыревала, как будто хлопотала.
Наконец гроб из дому вынесли.
В тот день Эрни сидел у ее ног, и вновь стояла такая жара, что птицы закапывались головами под сень своих крыл, фонтаны покрывались мелом, комната сперта. Из коридора и с лестницы до них донеслось шорканье, пока гроб выбирался из дома и челядь топталась в нижних сенях, болтая, рыдая, придерживая двери. Эрни хотел раздвинуть шторы, но не осмеливался.
– У тебя даже креста нету, – сказал он. Его возлюбленная немотствовала. – У тебя нет даже свечей, никакого лика Христова, никаких слез. Что я могу сказать?
Затем она забормотала, и он изумился.
– Прости. Я поверю в вечность душ, у меня утрата. Я увижу те места, где смерть торжественно беседует с годами, где буруны катят через их грехи и сожаленья их, где дол Небес лежит пред утесом бессмертия, и я поверю, что мать моя обрела покой. Я утратила ее. Пережил ли кто-либо такую жуткую скорбь, знал ли, что все земное время глаза никогда больше не увидят ничего, а сердце никогда и ничем не забьется – лишь ее тенью? Что за несчастная потеря, свечи оплыли, и лицо увядает в это бессмертие. Я потеряла свою мать.
Небеса приоткрылись ей тогда единственный раз, и рыдала она так, что он испугался. Наконец она взяла его за руку. На похоронах два брата выстрелили из пушки.
Той ночью Стелла отправилась жить в отцову комнату, поскольку одного его оставить было нельзя, и он наблюдал за нею с озабоченным подозреньем, пока она спала, заполняя лишь половину громоздкого пространства инвалида. Она ходила меж груд измаранных ночных сорочек, рядов эмалированных горшков для старика, в затхлом запахе костей и мух, опустошала глубокие выдвижные ящики пищи, какую он припрятывал, просыпалась в сумраке и смятенье вчерашнего воздуха. Она пела ему колыбельные глубоко за полночь, кормила с ложечки, драила бледные лицо и шею, ссорилась с Гертой из-за его безумных словечек – и все же он не мог оставаться в живых. Аромат сладкой травы отяжелел вновь, и однажды утром она его обнаружила, язык закатился, макушка блистательно распухла пунцовым, он прижимал к груди оперенный шлем. Она даже не проснулась.
Где вокзал?
Листва отяжелела на ветвях, птицы откочевали прочь, забытые, и холодный озноб нового времени года опустился на город дождем и поздней лихорадкой.
Огромное кольцо колотого льда рокотало в тысячах футов под ними, не двигаясь. Драные и стройные, словно безглавые цветы, словно яркие полупрозрачные стебли, подрагивающие просветленные черенки льда выстреливали лучами солнца взад и вперед по всему беззвучному полю. Как будто фундамент гостиницы наконец погребли так глубоко внизу в сем воображаемом блистательном ложе, что внезапное ощущенье праздника скользило туда и сюда по надраенным полам к середине прозрачного полноцветного льда, что вино текло сперва розовое, а потом золотое в отвесных пропастях, где человечки в шляпах с плюмажами заполняли его песнею. При кайле, веревке, костыле и красных рубахах влезали они в предвечерья, свисали от пояса к поясу над самыми вероломными могилами в Европе, а по ночам шел снег, или же луна вставала в темноте, окаймленная слабым свеченьем. Утра карабкались вверх из долины неистовыми изгибами и поворотами, перепрыгивая с одной полки льда на следующую, превращая плоские серые клинки в блистательные сокрушительные оружья света, пока наконец не подымались над ахающим ртом гостиницы холодными прозрачными крыльями цвета, держа их без движенья, подвешенными в поле тяготения посреди незаякоренного спектра.
Стелла и Эрнст оказались посреди здоровых гостей, мужчины – исполины, женщины загорелые от снега, даже старичье почтенно и крепко, ибо не так уж и старо. По сеням гонялось друг за дружкой несколько детей – и они кланялись, когда к ним приближались взрослые. Их краткие скрипучие голоса были мелки и беззаботны под открытым небом, и не оставлял страх, что они упадут в наметы льда.
– Большая ошибка, – произнесла Стелла, – думать, будто самые юные детишки – самые прелестные; отнюдь. – И все ж она считала эту детвору, сынов и дочек беспримесных спортсменов, красивой. Она следила за тем, как они враждебно возятся, и все-таки они пред нею цвели, они танцевали и играли. – Чем они младше, тем больше требуют, тем более они беспомощны. Они способны на большее, чем мы от них ждем, особенно когда еще не умеют разговаривать. – Они с Эрнстом закуривали сигареты и отходили от детей подальше, чтоб те их не слышали. Эрнст был закутан по самое горло в куртку из яркого меха, и улыбался, и кивал в ответ на все, что она говорила, пучки длинных волос терлись о его шею. Теперь, раз оказался на высотах, а все под ним исчезло, ходил он всегда с шипами на подошвах, чтоб не оскользнуться. Зажав сердца в кулаки, он закидывал на плечо веревку, но никогда не спускался, ибо они хотели быть одни, высоко, в этом единственном месте. Вспыхивала белизна, расчищая последние следы лета, и Стелла, взирая сверху на столь глубинно ступенчатый пейзаж, цеплялась за руку Эрнста, как будто он мог упасть. Он же был ближе к Богу.
Что ни день, у сквозного проезда, сипя, стоял старый конь – он слегка дрожал, опустив голову, после жутких усилий долгого подъема. Сани бывали пусты, полость тащилась по утоптанному снегу. Конь казался слепым, столь вяло висела голова у него, столь пусты прикрытые веки, и капельки изморози собирались у него в ноздрях и на мундштуке, льнули, инкрустированные, в редкую гриву. Ему было холодно, он был черен и худ, и увешан красною сбруей, что была ему велика и болталась на влажной шкуре с каждым мучительным клубом воздуха. Стелла вечно пыталась скормить его дряблым губам и обслюнявленной стали кусочек сахару, но тупой щупающий нос всегда выбивал его у нее из ладони.
– Ах, бедная зверюга, – говорил, бывало, Эрнст, оглядывая втянутый хвост и хрупкие суставы. – По всем этим ребрам ему можно года счесть. – Затем выходил возница, зловещие глаза вращались над шарфом, а за ним шли со своими лыжами отъезжавшие семейства. Черный конь спотыкался с горки, а пара продолжала свой медовый месяц – две золотистые фигурки в заходящем солнце.
За теми плоскими поникшими веками глаза коня были бесцветны и странно искажены, но были они глубоки, робки, нечеловечески проницательны. Колени у него дрожали и назад, и вперед.
То был верхний мир. Кое-какие гости поутру юркали в нижний, и по ходу с каждым резким спуском уровень их наслажденья падал, пока не становился до того низок, что уже не вынести. И как можно скорее трудоемко начинали они всползанье обратно наверх к чистому воздуху, ожидая посмеяться, покуда не достигнут того рубежа, где они б могли обернуться и пустить взоры свои скользить в бесстрастном восстановленье сил по тем опадающим полям. Верхний мир был верховнеє. В нижнем клочья травы опасно торчали из-под снега; под ногами бегали рычащие собаки; снег обращался дождем на самых нижних полях, и отдельно стоящие хижины серы были и вогки. Смех был выше, легкость, напряженная от наслажденья, новизна выливалась на крылатых гостей внезапным, нежданным восторгом на несколько дней или недель. Стряпня была превосходна. Черный конь больше благоденствовал в нижнем мире. Он был тот же, на ком ездили студенты, – дрожал от холода, привязанный один, претерпевая ночь. И все же он их перевозил, их хлыстики плескали на ветру.
Здесь, в этом прелестном лесу жженой мебели, средь бледной прохлады широко раскинувшихся окон, в потрескивании очагов в салонах, в песнях снаружи толстых деревенских стен и в любви внутри них, не имело значения, что Херман сказал, будто ему жаль с нею расставаться, что «Шпортсвелъту» будет ее недоставать. Чем-то далеким стало воспоминание о старом доме и старых родителях, о сестре Ютте.



