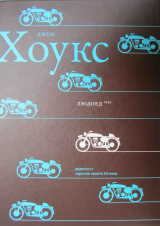
Текст книги "Людоед"
Автор книги: Джон Твелв Хоукс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Джон Хоукс
Людоед
Алберт Ож. Герард
Вступление
Многие вступления существуют для того, чтобы убедить сопротивляющегося читателя, что рассматриваемый классический текст заслуженно считается классикой со скрытыми смыслами и красотами. Но перед романом в высшей мере экспериментальным – да еще и такого значительного нового таланта, какой явил Джон Хоукс, – вступлению, быть может, надлежит всего лишь попытаться устранить некоторые частные трудности и преграды чужести, которые способны помешать начальному пониманию и удовольствию. Несомненно, в первые годы жизни романа у читателя есть право обнаруживать сокрытые красоты самостоятельно. Но не такова ли еще и собственная задача романиста, резонно заметят некоторые, – «устранить частные трудности и преграды чужести»? Мой личный ответ – в том, что вопрос этот может оказаться чересчур затратным. Просто частные трудности и препятствия, сопутствовавшие первому появлению какого-нибудь Франца Кафки, или Уильяма Фолкнера, или Джуны Барнз, несопоставимы с теми, какие сопровождают возникновение привычного реалиста… и, вероятно, хорошо будет, если мы сумеем добираться по крайней мере до неугомонных и оригинальных Кафок, если не до Джун Барнз, преодолевая более короткий период насмешек и без необходимости так долго ждать. Я употребляю здесь имена Кафки, Фолкнера и Джуны Барнз обдуманно – имена царственные, а писатели холодно напряженные… ибо считаю, что некоторым сочленением этих трех несопоставимых имен предполагаются талант, намерение, достигнутые успехи и безусловная перспективность Джона Хоукса[1]1
Я понимаю, что м-р Хоукс почти завершил «Людоеда», прежде чем прочел Кафку, Фолкнера и Джуну Барнз. Его предшествующее чтение современной экспериментальной литературы в общем и целом ограничивалось поэзией.
[Закрыть]. Отдаю себе отчет, что это громкое заявление – и к тому же весьма скоропалительное пророчество будущего курса, в каком двинется оригинальный талант. Сейчас Джон Хоукс, в самом начале своей карьеры и в двадцать три года, – писатель несколько более «трудный», нежели Кафка или Фолкнер, и уж совершенно такой же трудный, как Джуна Барнз. «Людоед», написанный в 1948 году, не так сюрреалистичен, как «Кавардак» [Charivari], – повесть, написанная в 1947-м[2]2
И опубликованная в антологии «Новые направления 11».
[Закрыть]; и я подозреваю, Хоукс еще дальше сдвинется к реализму. Но талант его, что бы с ним ни случилось, – уже талант крупный.
Частные трудности, значит, и преграды чужести… Сюжет прост, но не просто постижим. Перво-наперво в нем интересная сцепленная история Германии во время Первой мировой войны и Германии в «1945-м» – в мистический год оккупации союзниками, когда надзирать за третью всей страны оставлен единственный американский солдат на мотоцикле. В 1914 году Стелла, впоследствии Мадам Снеж, певица в ночном клубе и дочь генерала, знакомится с английским предателем Кромуэллом и выходит замуж за немощного Эрнста. В 1945 году пансион Стеллы Снеж в разгромленной деревушке укрывает ее сестру Ютту, любовницу Цицендорфа… нового политического Вождя и «рассказчика» истории. Цицендорф успешно замышляет смерть одинокого американского надсмотрщика и захват его мотоцикла; и книга заканчивается возрождением независимой Германии. Ибо крохотный выпотрошенный Шпицен-на-Дайне — с его лихорадочными П. Л.[3]3
Перемещенные лица. – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть], его недужными обессиленными взрослыми и увечными детьми, с его мерзкими засоренными протоками, с голодом, военщиной, примитивными воспоминаниями и неисправимой ненавистью к завоевателю – выесть сама Германия в микрокосме. (Как изображение реальной, а не действительной Германии и американского оккупанта этой Германии, «Людоед» так же откровенно искажен, как изображение Кафкой Соединенных Штатов в «Америке»; а еще, быть может, так же правдив – благодаря самому этому искажению.) Впрочем, эта интересная история остается весьма впотьмах: ее затеняют блистательными подробностями, погружением во множество различных умов и их одержимости, всеобъемлющим видением ужаса… и очень внятным нежеланием (сродни нежеланию какого-нибудь Конрада или Фолкнера) рассказывать историю непосредственно. Как и у Фолкнера и Конрада, мы получаем воздействие одинокого фонарика, что играет своим лучом взад и вперед по темной и загроможденной комнате: пусть образы и получаются четкими, отсылка мимоходом к какому-либо крупному происшествию может разъясниться лишь пятьдесят или сто страниц спустя. Невнимательному читателю придется туго при составлении даже такого конспекта сюжета, как у меня, хотя он, вероятно, легко зайдет далеко за его пределы – увидит в Стелле Снеж, к примеру, как саму Германию, так и тевтонские принципы женственности и плодородия, традиционную земную мать германского пива и метафизики, уцелевшую в бойне защитницу бесплодных, – «ибо выжила она и охотилась теперь в стае».
Частные трудности достаточно очевидны… тому читателю, кто смутно узнает в «Людоеде» собственный взрослый мир, а также и свои детские страхи. История радикально расфокусирована, что, разумеется, намеренно; однако последовательно искаженной точки зрения нет. Рассказчик Цицендорф, вероятно, предназначен для того, чтобы предоставлять ровный источник искажающего света. Но Цицендорф, относительный неудачник, задач ставит больше, чем решает. Опять же, ни один персонаж – за исключением Ютты в единственной сцене в женской обители – не получает того последовательного сочувствия, какое превыше всего прочего удерживает внимание среднего читателя. Джон Хоукс ясно принадлежит – быть может, к его чести – к числу холодных имморалистов и чистых творцов, которые сочувственно проникают во всех своих персонажей, равно спасенных и проклятых. Даже спасенные нелепы, когда к ним относятся с настолько демонической симпатией: понять все есть высмеять все. А также – признать, что даже у самых оскверненных имеются собственные мечты о чистоте, которые потрясающе напоминают наши собственные… Третьи трудность и отвлечение заданы, как у Джуны Барнз, энергией, напряжением и блистательностью фразировки, зачастую израсходованными на относительно незначимое: отвратительное и затянутое описание, к примеру, того, как Мадам Снеж душит курицу, – описание, вдруг прерванное явлением в окне худого и унылого лица Кайзера.
Последняя преграда чужести – предполагаемая лицом Кайзера – состоит в том, что сюрреализм Джона Хоукса – сюрреализм независимый, а не вторичный… Я употребляю «сюрреализм» за неимением лучшего слова. В «Людоеде» присутствует некоторый традиционный символизм; даже, быть может, чуток старомодной аллегории. Мертвая замерзшая мартышка, которая кричит: «Темна жизнь, темна, темна смерть», – хвост оплел шею, «сидит торчком на телах зверюшек помельче», – подлинная сюрреалистическая мартышка. Но призраки, что возвращаются каждую ночь к одинокому обугленному и брошенному танку союзников, принадлежат иной литературе… Основная условность романа такова: это Германия и весь мир съежились до Шпицена-на-Дайне, а не деревушка раздулась. Персонажи – бездеятельные сомнамбулы, жертвы божественного или дьявольского процесса (истории), однако до некоторой степени осознают свое историческое положение. Так Эрни, который бежит за коляской Стеллы и Кромуэлла в германском городке и останавливается в мучительном нетерпении облегчиться за кустом, – это не просто параллель или намек, но на этот миг и есть Гаврило Принцип, сараевский убийца; а Кромуэлл и Стелла в преследуемой коляске предрекают войну и предлагают себя в исторические символы: «Я стану, как пожелаете, вашей Эрцгерцогиней для народа». Можно было б даже предположить своеобразно германское представление о рассказчике, одержимом божественным или дьявольским всезнанием… куда персонажи входят – или каковое всезнание разделяют в случайные мгновения интуиции. История слепа, непоследовательна, нелепа… и все же какая-нибудь Стелла Снеж способна ее предвидеть: предугадывать «нагую трусость фехтовальщика, грядущие трепещущие крылья одинокого британского самолета, оставляющего свой символический катышек на рыночной площади, тело ее матери, катающееся вокруг нее, как камень, запятнанный навеки, а пятно высыхает и чернеет, как оникс».
Истинных крепких составляющих сюрреализма – нелогичности, ужаса, зловещего юмора – в «Людоеде» довольно. Ужас, например, может творить собственную географию. Герта чуть не спотыкается о труп Купца по возвращении от выгребной ямы, «горохово-зеленого провала вони» за «Шпортсвельтом» в дас Граб. Но торговец этот, как утверждают, свалившийся сюда несколько месяцев назад (стр. 101), в действительности упал возле Камбре (стр. 94), в фермерском доме, уничтоженном артиллерийским огнем:
Там Купец, без мыслей о торговле, одетый лишь в серое, все еще жирный, в первый свой день на фронте погиб и застрял, стоя по стойке смирно, меж двух балок, лицо запрокинуто, сердитое, обеспокоенное. В открытом рту покоился крупный кокон, торчащий и белый, который иногда шевелился, как живой. Брюки, опавшие вокруг лодыжек, наполнены были ржою и клочьями волос.
Границу между фантазией Эдварда Лира и тем действительным сотворением другой вселенной, какое пытается совершить сюрреализм, провести трудно… границу, скажем так, между двумя ипостасями «фантазии» Коулриджа. Где еще место «величественным псам, каких можно отыскать в земле перекати-поля, прославленным своею сокровенной меланхолией и ленивой высокой песнью», если не на страницах Лира? И все же те немецкие овчарки, с какими их сравнивают, в полной мере столь же замечательны; и становятся как реальными собаками, бегущими рядом с поездом, в котором лежит комиссованный Эрни, так еще и, вероятно, воспоминаниями о детском страхе, а несколько страниц спустя – смутными символами разгрома и смерти:
То определенно выли псы. Прижав лицо к стеклу, Эрнст слышал галоп их лап, скулеж и сопенье, раздававшиеся между воем. Ибо в отличие от величественных псов, каких можно отыскать в земле перекати-поля, прославленных своею сокровенной меланхолией и ленивой высокой песнью, какие вроде бы всегда сидят на корточках, отдыхая и лая, эти собаки бежали вместе с поездом, цапали зубами соединительные тяги, клацали на фонарь тормозного вагона и вели беседу с бегущими колесами, заклиная впустить их в общий салон. Они б вылизали тарелку молока или кость, что человечьему глазу покажется сухой и выскобленной, не пачкая изношенные коридоры половиков, и под зеленым огоньком не стали б жевать периодические издания или драть когтями каблуки проводника. Как заплатившие за билет пассажиры, они б поели и подремали, а в конце концов спрыгнули бы с неохраняемых открытых площадок между вагонами в ночь и стаю.
Соблазн цитировать «Людоеда» громаден. Но несомненно, что этого пассажа – и постепенного неотвратимого захвата псами поезда и абзаца – довольно, чтобы предположить восторг автора от преувеличенного искажения и намекнуть на опасности и посулы, подразумеваемые воображением, настолько необузданным и таким неисправимо зрительным, непосредственным, одержимым.
В какие дали Джон Хоукс зайдет как писатель, должно, очевидно, зависеть от того, насколько согласится он налагать на свою поразительную творческую энергию некоторое постраничное и поглавное последовательное понимание; насколько густо станет он применять свою способность достигать истины, искажая ее; насколько хорошо будет он и дальше вскрывать и использовать детские образы и страхи. О более крупных искажениях «Людоеда» – о его тотальном прочтении жизни и видении разора такого же ужасного, как и у Мелвилла в «Энкантадас», – нет нужды говорить продолжительно. Исторический факт наших нынешних усилий восстановить германскую гордость и национализм скорее более нелеп, нежели небрежный вывод войск, изображенный Хоуксом. И все же его несколько «сцен оккупационной жизни» могут однажды рассказать нам больше о подспудной исторической правде, чем сообщат газеты 1945 года: суд над пастором Миллером и его казнь за то, что под нацистами он изменил точку зрения (нынешний Бургомистр предает его от страха перед загнутыми когтями, острым кривым клювом и кошмарными красными глазами орла на плече Полковника); рыкливые любовные утехи между американским надсмотрщиком Ливи и его недужной немецкой пассией; и «надзирающий» Ливи за работой… объезжает на своем мотоцикле треть страны, которой управляет, погруженный в исторический процесс, какой превосходит любое человеческое намерение и который у Ливи нет никакой надежды понять. Джон Хоукс, кратко видевший военную Германию как шофер Американской полевой службы[4]4
«American Field Service» – общественная организация, ставящая целью содействие развитию международного взаимопонимания путем организации обменов школьников, основана в 1914 году. Во время Второй мировой войны была преобразована вдобровольную службу «скорой помощи»: ее водители участвовали в боевых действиях во Франции, Италии, Северной Африке, Бирме и Германии.
[Закрыть], написал неполитическую книгу – но не неисторичную. Как Кафка посредством, быть может, непреднамеренных клаустрофобных образов и впечатлений добивался правды о своем обществе, так и Хоукс – аномально сознающий физические увечья, унижения и упадок, – достиг некоторой истины о своем. Это Германия мужчин с когтями вместо рук, женщин с покраснелой плотью, детей со скобками, поддерживающими их культи или головы. Это мир без пищи, без надежды, без энергии… сведенный в своих усладах к бессильным механическим случкам, лишенным всякого желания. Думаю, можно понимать, что это больше, нежели послевоенная Германия, что бы автор ни замышлял, – до некоторой степени это наш современный мир. В конце романа случается освобождение Германии; или, возможно, обновляется весь наш мир. Это наверняка можно рассматривать с нескольких точек зрения. На предпоследней странице вновь открывается приют для умалишенных в Шпицене-на-Дайне. «На взгорке увидел он долгие очереди, что уже втягивались обратно в учреждение, уже оживленные общественным духом».
Кембридж, Массачусеттс
29 ноября 1948 года
Дополнение
Миновало почти четырнадцать лет с тех пор, как было написано приведенное выше, однако я не вижу нужды редактировать, вычеркивать или отказываться от тех слов. Можно сказать гораздо больше. Сегодня к тому же я бы заменил понятие «анти-реализм» (каким бы смутным ни было оно) на «сюрреализм» и его часто уводящие не туда коннотации. И, разумеется, нынче казалось бы нелепым говорить о Джоне Хоуксе как об авторе «перспективном». За годы, миновавшие после издания, «Людоед» так и не умер, как это случается со столь многими хорошими первыми романами. Он поддерживал свою тихую подпольную жизнь – сперва его весьма хвалили немногие, желтая обложка по-прежнему присутствовала в серьезных книжных магазинах, где и происходят такие подпольные жизни, каждый год книга завоевывала новых приверженцев среди читателей, которым надоели штампы и сантименты коммерческой художественной литературы – или же надоел бессвязный лепет разрекламированного авангарда. «Людоеда» переиздавали и читали.
Всегда существовала вероятность того, что этой единственной книгой Хоукс истощил свое примечательное темное видение и больше писать не будет. Но за эти годы (работая на полной ставке в Университетском издательстве Харварда, затем преподавая в Харварде и Брауне) он издал еще три книги: «Жучиную лапку» (The Beetle Leg, 1951), «Гуся на могиле» и «Сову» (The Goose on the Grave & The Owl, 1954, две повести) и «Веточку лайма» (The Lime Twig, 1961). В каждой были свои отдельные миф и место действия, пейзаж внутренней географии проецировался на сухой бессильный американский Запад, на фашистскую Италию и Сан-Марино, на сырую дряхлую Англию бандитов и игроков.
Предреченное смещение к реализму случилось, но главным образом – в том смысле, что позднейшие романы у Хоукса гораздо упорядоченнее и ровнее по темпу, а также отчетливо легче читаются. Видоизменились пространственная форма и головокружительная одновременность «Людоеда». Силы воображения, однако, остались – как и оживляющие искажения: власть использовать кошмар наяву и детскую травму, вызывать предсознательные тревоги и томления, символизировать оральные фантазии и страхи кастрации, – отбрасывать тени, одним словом, наших подпольных «я». И в каждом из этих романов тонкий черный юмор и нервная красота языка играют против порыва сюжета неприятно заключить нас в тюрьму кошмара, впутать в эти преступления. Мы и впрямь глубоко вовлечены. Но еще мы остаемся снаружи, смотрим на произведение искусства.
Четыре нетолстых томика. Достижение, может, и некрупное в наши дни объемистых и импровизирующих писателей, презирающих верное слово. Но это достижение, по массе своей и разнообразию интереса грубо сравнимое с достижением Натанаэла Уэста. Хоукс, конечно, не писал такую простую или общественную книгу, как «День саранчи»; вероятно, и не напишет. Но он определенно проявил власть над языком и целостность видения воображения, какие Уэст показывал крайне редко. Положение Хоукса необычайно: он авангардный писатель, который никого не имитировал и никаких дерзких жестов в пику кому бы то ни было не производил. Его дерзости – насилие, унижения и ужас, причудливые вывороты сочувствия – все в его книгах. Более того, его не связывали ни с какими разрекламированными группировками.
Однако несмотря на все это отсутствие политики и компромиссов, работа его, похоже, одерживает верх. Ее издают во Франции, Германии, Швеции, Италии и Англии; ее чтут наградой Национального института искусств и литературы; ею восхищается Села в Испании, равно как и причудливо разнообразные американские писатели и критики: Флэннери О’Коннор и Эндрю Лайтл, Сол Беллоу и Бернард Маламуд; Пол Энгл (признавший и хваливший его одним из первых); Лезли Фидлер, Фредерик Хоффманн, Рей Уэст[5]5
Камило Хосе Села (1916–2002) – испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1989 года; Эндрю Нелсон Лайтл (1902–1995) – американский романист, драматург, эссеист и преподаватель литературы; Пол Энгл (1908–1991) – американский поэт, литературный критик, романист и драматург, был сооснователем и директором «Международной писательской программы» в Университете Айовы; Лезли Эйрон Фидлер (1917–2003) – американский литературный критик, известен своими работами по мифографии и жанровой литературе; Фредерик Джон Хоффманн (1909–1967) – американский литературный критик и историк культуры; Рей Б. Уэст (1908–1990) – американский писатель-регионалист, известный своими работами о мормонах.
[Закрыть]. Сам «Людоед» теперь уже не кажется таким прихотливым или эксцентричным, каким смотрелся в 1948-м, – да и не выглядит таким уж трудным. Это отчасти согласуется с законом, что в высшей степени оригинальный художник должен создать тот вкус, какой со временем начнет ему аплодировать. Время, время и мощное повторение наконец торжествуют над насмешками. «Людоед» подготавливает нас к чтению «Веточки лайма»; но, что еще очевиднее, «Веточка лайма» и другие подготавливают нас к перечитыванию «Людоеда». Помимо этого, «Людоед», несомненно, выигрывает от смещения романа как такового – прочь от плоского репортажа и обманчивых ясностей. Читатели уже не так недоверчивы к замысловатому искажению и поэтической изобретательности, к макабрическому юмору и вывернутым наизнанку симпатиям, к насилию, переносимому из внешнего мира во внутренний и из внутреннего во внешний, какими они были в 1948 году. Богатая игривость Набокова; словесная пиротехника Лоренса Даррелла и его юмористическое смакование распада; более дикие энергии Данливи и Беллоу; великое поэтическое мифотворчество Эндрю Лайтла и видения Флэннери О’Коннор; структурные эксперименты позднего Фолкнера и повторы заезженной пластинки у Бекетта; и даже блистательные изобретательные длинноты отдельных французских антироманов – все это (если упомянуть кое-что из многого) показывает, насколько признаны теперь личное и экспериментальное, – даже завоевывают публичные хвалы. Что бы ни означал все более оживленный антиреалистический порыв в романе – преобразование или устранение жанра или даже символическое предвкушение буквального уничтожения «я» или материи, византийский декаданс или сотворенный миф о распаде для нашего времени; или же, в чем больше надежды, пробуждение общества к новым типам художественно-литературного наслаждения и воздействия, – во что бы все оно ни складывалось, оно помогает определить «Людоеда» как центральное, а не частное произведение искусства и видения.
Стэнфорд, Калифорния
14 апреля 1962 года
Алберт Джозеф Герард (1914–2000) – американский критик, литературовед, романист и преподаватель.
Посвящается Софи
Есть в сегодняшней Германии городок, не могу сказать, где именно, который великим усилием приподнялся над невзгодами, что выпадают на долю разгромленных сообществ на континенте. Теперь он вот уже три года постепенно совершенствуется под моим водительством, и я почти совсем удовлетворен успехами, каких мы достигли в общественном обустройстве. Райское это местечко: в нем все наши воспоминания, и люди непрестанно к нему стремятся. Но до сих пор миру снаружи об этом месте – ни слова, поскольку я счел более уместным, чтобы мой народ держал свое счастье и представления о мужестве при себе.
Однако мне пришлось ненадолго покинуть городок, и, будучи в отлучке, я пошел на компромисс. Ибо рассказал нашу историю. То, что надлежит сделать, тяжким бременем лежит на моем сознании, и никакая замечательная бурливость этих заграничных городов не способна меня отвлечь. Сейчас же, хоть мне здесь и нравится, я выжидаю и при первой возможности, конечно, вернусь.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1945

Один
За краем городка, подале крытых толем домов бедноты и за низкой горкой, голой, если не считать павших столбов электропередачи, располагалось учреждение, и распростерло оно трепетать свои хрупкие уединенные постройки по гравию и шлаку, устилавшим долину. Оттуда однажды ранней весною вышел с древесной конечностью в виде трости Баламир, с тенью вышел и шагом, что не был свободен, – дабы попасться на глаза и под руку Мадам Снеж. Всех слабоумных братьев Баламира сходным же манером выпустили скитаться вдали от гравийных дорожек, искать любого, кто оделит их жестяной тарелкою или желанной выпивкой. Мадам Снеж потеснилась ради него, применила его к работе – копаться в полуподвале, в бункере, и черный воздух сомкнулся на кучах обломков, и ему захотелось домой. Немощных братьев его постепенно поглотили в себя, целыми корпусами за раз, зияющие стены, таинственно ушли они в пустые улицы и отдаленные темные забитые досками мызы, неохотно забрали их с улиц. И все ж население не выросло, рыскали по вечерам те же немногие бурые фигуры, те же лохмотья стирки неделями висели на том же холодном воздухе, а Счетчик Населения раскорячился, худой и пьяный, синяя фуражка набекрень, за письменным своим столом. Городок не вырос, но учреждение опустело, чиновники и нянечки отправились в дальние земли, глаза прищурены, лица осунулись, и из-за высоких узких зданий ни звука не стало слышно. Всякий день с горки худые дети взирали на порожнего скорпиона, который только и остался от упорядоченного учреждения.
В вышине над городком нависал одиночный шпиль зазубренной стали, лишенный знамен, не обнесенный стенами зданий, торча над ними всеми в холодном синем вечере. До самого верха по шпилю свисали криво обнаженные стальные перекладины, а поперек узкого открытого окна в погреб, где Баламир приостановился, и белая кожа его повлажнела в недвижном вечернем свете, вогнали стальные слябы. Кучи опавших кирпичей и штукатурки оказались спихнуты в канавы, словно сугробы снега, разбитые стены исчезали во тьме, а по пустым улицам тянулись ряды пустых тележек торговцев. Не было у Баламира защиты от холода. Он обнаружил, что ветер овевает ему широкий лоб и пересохшее горло, горько залетает в раскрытый рот его грубого, задранного жесткого воротника. Обнаружил он в сырой замерзшей полости погреба, что не умеет раскопать деревянную скамью, чудовищную завитую вазу, заплесневелое бюро и ни один из заледенелых горшков в неровно сваленных кучах, какие захламляли весь земляной пол и высились до самых стропил. Обнаружил он, что земляные обитые стены глушили его долгие вой по ночам, и звук поэтому оставался лишь в его же ушах. Пока работал, ковыряясь угольным совком, или сидел, вперившись в окно, над головою шаркали обернутые бумагой стопы, а в обитаемых кухнях городка мерцали свечи, над мерцавшими углями разогревали банки жидкого супа, ныли дети. Книжные лавки и аптеки разгромили, и страницы раскрытых книг бились взад и вперед на ветру, а из рассевшихся боковин изукрашенных картонных коробочек тонким снежком по улицам разносило набитую туда дешевую пудру. Ноги попирали россыпь конфет из папье-маше. В отдаленных районах, компаниями по четверо и пятеро, братья Баламира гонялись по ухабистой и мерзлой земле за домашним скотом, злые и замерзшие, маша толстыми руками, или сбивались вокруг слабых костерков, хохоча и холодея. Малое число этих людей, пошвыряв тесаки или мимолетно взбеленившись во тьме с заржавленными ножами, бродили туда и сюда по камерам городской тюрьмы, колотя себя и невнятно проклиная. Остальные же, включая Баламира, не сознавали, что они – за пределами высоких стен учреждения. Население городка оставалось таким же, и ворье из тюрьмы отправилось домой, дабы сохранялось равновесие.
Мадам Снеж, владелица здания, жившая на уровне улицы над помещением в погребе, была б бабушкой, если б дитя ее сына не погибло, не больше птички, при взрыве всего в квартале отсюда. В недвижном утреннем воздухе заиндевевшие поля вокруг городка потрескивали от нечастого громыханья мелких взрывов, а те, что раздавались в самом городке, оставляли у нее в ушах краткий бесполезный свист. А вот дети сестры Мадам Снеж выжили, дабы ползать бесполо и испуганно по убогим комнатам. Раз за разом до того, как пришел Баламир, Мадам Снеж наблюдала, как с закипевших грузовиков слезают худые мужчины, – ждала возвращения сына. Когда он наконец прибыл со своей культей и стальными костылями, у которых запястья ему для дополнительной поддержки охватывали особые стальные кольца, даже одного убогого числа не добавил он к исчерканному списку пьяного Счетчика Населения. Вернулся к жене своей и комнатам на углу кинотеатра и с того времени работал в жаркой кинобудке с черной машиною, каждый день показывая одну и ту же смазанную картину отсутствию зрителей в зале. С тех пор Мадам Снеж его не видела. Она деловито дворничала, споря с квартирантами или утешая; или сидела в обширном золоченом кресле, сшивая воедино тряпье и нечасто отрывая головы у мелкой дичи. В коридорах больше не пахло жарящейся свиньей или варящейся капустой, уж не звенели они в полноте своей от тяжкого смеха, а оставались темны и холодны, исполосованы грязью от жильцовских сапог.
Здание криво и безмолвно клонилось в ряду черных испятнанных фасадов, а мимо задней ограды его опорожнялся проток; на углу, где боковая улочка встречалась с пустой дорогой, высилась мешанина стального шпиля. Когда мимо задернутых штор проходил мальчишка в черной военной фуражке, кожаных подтяжках и коротких штанишках, Мадам Снеж алчно выглядывала в щелочку, а затем вновь отступала во тьму. В третьем этаже дома располагалась квартира Счетчика Населения, который оставлял, отшвырнув, свою каплющую накидку в нижних сенях. В четвертом этаже проживал херр Штинц, одноглазый школьный учитель, а над ним со своими детьми и обесцвеченными растениями жила Ютта, сестра Мадам Снеж. Херр Штинц раньше состоял в оркестре и допоздна играл теперь на тубе, а ноты падали на брусчатку, напоминая топот жирных марширующих ног. А вот жилец во втором этаже отсутствовал.
– Пойдемте, – сказала Мадам Снеж Баламиру, – входите. Тепла комната вообще-то не дает, но долой ваше пальто. Вы дома. – Баламир знал, что он не дома. Глянул на столик с рядами игральных карт и на единственное позолоченное кресло, посмотрел на красочные фигуры, где Мадам Снеж играла одна. Он тщательно оглядел дворцовую залу и подивился дубовым завиткам над дверью с занавесом и вышине паучьего черного потолка. – Сядьте, – произнесла Мадам Снеж, боясь дотронуться до его руки, – садитесь, пожалуйста. – Но он не стал. Он никогда не садился, если кто-то мог его увидеть. Поэтому замер посреди комнаты, а отставший в росте котик терся о его ногу. Служитель, на лицо надвинута шляпа, а калоши толсты и слишком велики, вручил Мадам Снеж пачку потрепанных бумаг и ушел, как тень. – Чаю выпьете? – Он глянул себе на руки, увидел исходящую паром воду и единственную чаинку-звездочку, что медленно кружила у самого дна чашки. Он видел, как медленно расходится бледный цвет, подползает по фарфору к его пальцам, смотрел, как вращается звездочка, а чашка кренится, словно месяц в небе. Но пить не стал. Маленькая женщина наблюдала за ним краем глаза, свет почти погас. Волосы у него жестки и косматы, и он не желал пить ее чай. Внизу, в погребе, Баламир вновь надел пальто и стоял, покуда она спешила назад, вверх по каменным ступеням, ибо он ощущал холод. – Спокойной ночи, – сказала она и повернула латунный ключ.
Ребенок Ютты, ботинки развязаны, а губы побелели, бежал по тропке среди обломков, спотыкался о камни, миновал нависавшие железные подоконники и разбитые окна, пытался рыдать и стремился дальше. За ним следовал мужчина, размахивая тростью, вглядываясь в темноту. Малыш пробежал мимо стены, заляпанной дырами и пальцами какого-то мертвого защитника, а позади ребенка мужчина кашлянул.
Мясная лавка закрывалась, и с крюков свисало несколько непроданных холодных прядей плоти, ощипанная кожа и ползучие вены оставались неосмотренными, висящими, но без официальной санкции. Ребенка за колено прихватила проволока.
Городок на насесте обугленной земли, более не древний, у его единственной конной статуи отчекрыжены голова и ноги, набивал себе брюхо забредшими нищими и под покровами злого серпа луны оставался костлявым. Грохочущие поезда поворачивали обратно при виде загибавшихся рельсов, распускавшихся в сырой весне на краю городка напротив горки, а поля, истоптанные орудийными ядрами, пятнала уединенная нужда зверья и человека. Пока старые семьи возвращались вновь прихорашиваться на берегах протока или гулять поодиночке облаченными в черное, заключенные гуськом тянулись наружу по горкам – либо именами на проездном ордере, либо, если такой билет потеряли, просто как несочтенные номера. Когда какого-то старика скрутило помирать в ужасном кашле, Ютта предала своего утраченного мужа и вновь понесла. Городок без стен и баррикад своих, пусть по-прежнему и бивуак тысячи лет, съежился в собственном костяке и разложился, как бычий язык, почернелый от муравьев.
Стрелочник, препоясанный одеялом в плетеном кресле, курящий трубку, словно миску с кашей, властвующий над железнодорожной станцией и видом пустых скамей, более не воздевал красную руку и не оттягивал вниз желтую, и никакие огоньки не моргали уже перед его заплывшими жиром глазками, бередя воспоминанья о войне 1914 года. Нечего было ему съесть и нечего сказать, а все стены вокзала разрисованы были черными мужчинами в крупных шляпах и накидках. Реликвии серебряных кинжалов уже сперли из женской обители и заложили на хранение в сундуки с фотографиями или увезли в чужие края. Колокола никогда не звонили. Костры, горевшие вдоль обочин, и навозные кучи, тлевшие на мызах, полнили воздух и переулки, пустые лавки и кладовые едкой вонью плесени.
Бургомистр с его выцветшей красной перевязью был чересчур слеп, уже не мог присматривать за анналами истории и ходил голодный, как прочие, с памятью, вытертой с его порога. Их могучих лошадок костлявой бельгийской породы, тусклоглазых чудищ старой силы, экспроприировали с акровых мыз таскать повозки с боеприпасами, и все они сгинули, кроме одного серого зверя, что возникал то там, то сям по каменным улицам, бесхозный, пасясь в канавах. Черными ночами пугал он Бургомистра и топотал, неподкованный, по нагому саду, с каждым днем все тощее, все дичее. Детвора каталась на конском хвосте и скиталась мелкими бандами в картонных тевтонских шлемах по тесным пределам городка, лица исцарапаны, ногти отросли. У гробовщика больше не было жидкости для трупов; городская медсестра состарилась и растолстела вообще безо всякой еды. По ошибке кое-кто пил из отравленных колодцев. Знамена валялись в грязи, никакие свитки узорчатых слов не стекали с линотипа, и лишь из тубы херра Штинца слабо звучал среди ночи глас городка. Ведра песку, взметнутые мелкими мера зорка вши мис я серыми бомбами, расплескались по облупленным стенам и забрызгали истертые пороги, на которых куры оставляли испуганные следы. Гниющие мешки с песком убили сорняки, наполнили воздух затхлостью мешковины, а распадаясь в ничто, оставляли на почве белые кляксы.



