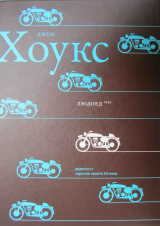
Текст книги "Людоед"
Автор книги: Джон Твелв Хоукс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Земля
Сын Мадам Стеллы Снеж, разбуженный лаем собаки, лежал тихонько, затаив дыхание, как дитя во тьме. Но разбудил его не пес, а театральный звук, некий легкий эффект, какой-то трюк самого зрительного зала, и он прислушался. Возможно, он оставил перекинутым включатель проектора, быть может, огни горели, а то и катушки ленты разматывались. Что б там ни случилось, он и впрямь слышал – в промежутках далекого воя – женский голос, спор в этажах между пустыми сиденьями. Сырость зала плескалась по всему зданию, склад старых сцен, и его собственная спальня, некогда кладовая и место, где капельдинерши переодевались из платьиц в мундирчики, была холодна и темна. Все еще слабо пахла она пудрою, пачками плесневелых билетов, бюксами пленки и банками масла. Голос, высокий и благородный, звучал, как материн, изменившийся, затем вновь казался знакомым. Барышни действительно меняли одежду, надевали брючки в этой комнате.
Бетонные стены, как в бункере, были сыры и холодны; осветительные розетки, провода и кое-какие инструменты все еще валялись на полу. Голоса раздавались по-прежнему снизу, ему показалось, что он слышит, как кто-то рыдает, женщина бранила, смеялась и болтала дальше. Жена его спала, тело у нее – бесформенное и отвернувшееся под одеялом.
Все силы ушли у него на то, чтобы выбраться из постели. Сперва – одной рукою – он дотянулся до бока кровати и уцепился за трубу, которая бежала – холодная под пальцами его – под матрасом. Другой рукою он откинул покрывала и быстрым причудливым движеньем перебросил культю через другую ногу, изогнул тулово, выбросил руку наружу, чтоб добавить весомости толчку культи, и шатко вскинул себя стоймя. Еще труднее было влезть в брюки; ему удалось, раскачиваясь вперед и назад, быстро тяня руками, вечно со здоровой ногой в воздухе удерживая равновесие. Он чуял духи и старый целлулоид. Закрепивши руки в алюминиевых костылях, словно штырьки в розетке, подшипники в масле, он выбрался в коридор и, поскольку с лестницей покамест справиться не мог, прицепил костыли к ремню, сел и, отведя культю, чтоб не мешала, и придерживая ее, проделал спуск на три пролета, подскакивая.
Он уже не слышал ни голосов, ни собаку – лишь собственное бумканье по холодной лестнице да лязганье тонких металлических ног, волочившихся за ним. Перемещался он, как утка, толкал себя вперед обеими своими руками в унисон и на следующую ступеньку приземлялся концом позвоночника. Что-то побуждало его двигаться быстрее и быстрее, покуда не онемел он и не вспотел, он ронял себя – и лишь край стены у его плеча направлял его, падал – и ладони краснели и натирались. Взявши костыли как подпорки и опираясь спиною о стену, он поднялся – с трудом – у подножья своего пролета и прислушался к женскому голосу. Но голоса услышали, как он приближается, бумкая, и замерли. Он подождал, ощущая их по другую сторону металлической огнеупорной двери. Помедлил, а потом с усилием распахнул дверь и шагнул в тыл зрительного зала, чуя, как в темноте много взглядов обернулось на его явление. Медленно проковылял он вперед и, видя широкую шляпу и великолепную трость, рассмеялся над самим собою и узнал высокого мужчину.
– А, херр Герцог, – произнес он, – мне так и показалось, что я слышу голоса у себя в театре. Но не рассчитывал на такое удовольствие.
– Вы правы, – сказал Герцог. – Я пришел за ребенком соседки – вот этим вот мальчиком.
И тут он увидел мальчишку, съежившегося в проходе: тот уже не рыдал, а наблюдал за двумя мужчинами. Замысловатейший голос у Герцога – уж точно причудливый, если иметь в виду его габариты и стать.
– Мальчик, ты должен быть дома в постели.
– Да, – произнес теперь Герцог в тонах уже нормальнее, – я отведу его домой. Простите нас за беспокойство.
Дитя не издало ни звука, но позволило себя поймать – одним быстрым взмахом – за запястье и вздернуться на ноги.
– Доброй ночи, – сказал высокий мужчина и вышел со своею добычей.
– Ja, ja, херр Герцог. – Хромой посмотрел вслед тем двоим, пока они выходили на еще мокрые улицы, и, повернувшись сам, направился обратно к тяжелой двери.
У подножья двери башмак его запутался в крупной афише, и, поглядев вниз, он увидел актрису в блестящем платье, мятом и тертом на грудях и бедрах.
– Доброй ночи, херр Герцог, – сказал он и, высвободив единственный башмак из женской хватки, взялся карабкаться по лестнице вверх. Взбираться было мучительно для его здоровой ноги, но даже так он ощущал непривычное удовольствие от визита Герцога и событий этой ночи.
Меня в редакции газеты не было всего миг, когда Штумпфегль, пивший из разбитой бутылки, и Фегеляйн, шаривший по седельным сумкам мотоцикла, услышали, как к двери возвращаются мои шаги, и насторожились. Оба подняли головы, когда я, их вождь, вновь шагнул в редакцию. Я спешил, беспокоился, поглощенный преисподней нового движения, на мне одном лежала ответственность за последнюю попытку. Я взглянул на своих сообщников, и мне стали досадны и алкоголь, стекающий струйкой по одному подбородку, и содержимое сумок, разбросанное по полу из-под рук другого.
– Кто-то видел, как мы разобрались с парнем на мотоцикле.
– Но бог мой, Вождь, что же нам делать? – Феге-ляйн выронил пачку писем Ливи и взглянул на меня со страхом.
– Придется что-то поменять. Переместить технику, оружие и все остальное в Штаб Два.
– Штаб Два?
– К Снеж, идиот, за пансионом Снеж.
Память у Фегеляйна была лягушачья – презренная слепая зеленая бородавка, кому все базы, все слова были одинаковы.
– Несите малый печатный станок, движок, несите все материалы для брошюр. А, да – и еще известку.
– Вождь, на машине, думаю, ехать можно будет завтра.
– Штумпфегль, да ты, может статься, въедешь на ней в проток с десятью американскими пулями в толстом твоем брюхе, выпущенными хорошо вооруженными жидовскими бандюганами, глупый жирный ты младенец. Не думай, понимаешь ты это или нет, – не думай о машине, не думай ни о чем, кроме того, что мы сейчас должны сделать. Ночь еще не кончилась, толстяк Штумпфегль, я не хочу, чтобы тебя подстрелили. Нам сегодня ночью предстоит отравить своею печатью много Anglo-Schmutzigs[37]37
Ангпо-подонки (нем.).
[Закрыть]. Поэтому, пожалуйста, просто займись делом. – Я кивнул, забыл свою горячность и вновь скользнул во тьму. Фегеляйн принялся читать письма.
В лампе затрепетало масло, потребленное и потребляющее, и, покуда горело оно – несколько сбереженных капель на дне жестянки, – окутывало саваном стекло, и под пленкою пламя было тусклым. После изрядного глотка бутылка – горлышко у нее сколото, – наполненная и перенаполненная, оставлена была на полу, письма мертвого человека отброшены в сторону, для чтения признанные негодными, и собраны клочья, узелки, вырезки и литеры. Патриоты, дурень и лудильщик, приступили к работе на власть. То не была пьяная выходка. Труден пришелся им час в то время ночи, худшая ночная пора для всякой всячины и порядка sat особенно после убийства человека и такого близкого сна. Свет ярок, ставни задвинуты, тайна, какую трудно хранить тупым умам, оружие разбросано, труд мелок и тяжек, наитруднейшее время ночи; то был час испытать приспешников.
В переулке у типографии стояла тяжелая тележка, и Фегеляйн, более из двоих проворный, совершал поспешные ходки с катушками ниток, скрепками, иголками, мелкими ношами бумаги и старыми пузырьками чернил. Думал он о свидетеле и персте обвиняющем, видел скамью присяжных и непредсказуемого судью в черной мантии. Всякий раз, как ронял он ношу свою, такую легкую, однако ж необходимую, на дно тележки – подымал голову к небу и опасался разоблачительной зари. Некому тут было доверять. В типографии паутины меж печатными станками висели густо, бутылки подле конторки громоздились выше, а старые разломанные заголовки – обычные металлические слова – разбросаны были по полу.
Штумпфегль, жирный и замерзший, вынес маленький пресс к тележке и передохнул. Он вынес к тележке тачалку и подождал, уже опять под фонарем, пока не закончит его друг. Штумпфегль, бывший ординарец и карьерист, истязатель и исполнитель, таил – под беспощадной своей медлительностью – память и доблесть своего почти-самоубийства. Месяцами ранее он упустил возможность – пусть и был кандидатурой лучше Феге-ляйна. Штумпфегль, сорокадвухлетний, нахрапистый, рядовой, был захвачен в плен солдатом из Нью-Йорка, представленным к награде за храбрость, когда забрел, оглушенный, в Штаб-Квартиру Американской Разведки, учрежденную для пропагандистской работы. Признав Райхзолъдата, американец незамедлительно отвел Штумпфегля в лазарет – помещение с конторским шкап-чиком и флюороскопом. Они быстро поместили здоровяка под бдительное око научного исследования – и точно: внедренный гораздо ниже талии, между сигмовидным изгибом его ободочной кишки и концом ее, смогли увидеть серебристый предмет – капсулу Райхсгайста, вместилище блаженной смерти. Час спустя – и на глазах у врача и солдата – слабительное, которым они напоили изумленного пленного, сработало, и последняя надежда Штумпфегля ринулась – во мгновенье пытки – вниз по сточной трубе уборной. Он выжил, с мягкой болью в том месте, где было, и обрел свободу, дабы вернуться к новой жизни.
– Я закончил, только краска осталась. Надо спешить.
Штумпфегль медленно вынес к тележке банку известки, пристегнулся ремешками меж тяжелых оглобель, и с Фегеляйном, который катил мотоцикл, они пустились по темной улице.
Бургомистр уснул, покуда в его грезах гарцевали и щебетали смутные белые зверюшки. Миллер пожелал ему боли, взбрыкнул острыми своими каблуками и улетел – и тут же вернулся с Полковником за спиной и винтовкой под пузом, дабы изводить бедную клячу, взмыленную и натруженную возрастом. На глазах у него был белый носовой платок, ноги связаны, а все те животные юности и смерти, исторические звери, танцевали вокруг, глазея. Холодно было, а кухня пуста.
Герцог и мальчик уже спустились полпути по склону к учреждению, где за кустиком городских девчонок прятался мешок. Танцевальная музыка в пакгаузе внизу прекратилась, единственные огни погасли. Трость поднялась еще раз, и дитя, изгвазданное грязью, безуспешно попыталось удрать. За пакгаузом ноги задрал какой-то спящий.
– Почти пришли. Но давай попробуем быстрее, а? – Чем скорее Фегеляйн старался идти, тем больше трудностей было у него с машиной. Однакож понукал он – и оскальзывался. На их дорожку впереди упала тень шпиона.
Призраки у протока смотрели все разом – головы в танковой башне сбились вместе, а дух Ливи выползал из темной воды к ним навстречу. На горло безголовой конной статуи в самой середке городка села костлявая птица, и дымка пала на серый безбокий шпиль подле автобана.
Новые часы на запястье у меня показывали три. Все почти что завершилось. Завтра верные узнают и станут благодарны, а о неверных позаботятся. К завтрему это первое убийство захватчиков станет общественной вестью; силу скорее покажет не сопротивленье, а вот это. Шаги мои раздавались отзвуками в темноте у меня позади, где-то вышел изменник, а затем, когда меня обуяло новою энергией, я достиг пансиона. У городка этого не было особенного значения, когда вступил я в парадное, ибо все городки были городками земли, деревеньками, где леность родит веру, а захватчики – ненависть. Однако городок этот я знал, и в дни власти всегда бы вернулся, поскольку ведал каждое разочарованье, каждую барышню, каждый безмолвный подъезд. Принялся подниматься по лестнице – и на следующей площадке знал, что жилец второго этажа покамест не возвратился.
Мой порядок – новая кампания – был спланирован и начался. Кампания распространялась, в замысле и подробностях, до границ земли, нацеленная на успех. Первоначальный удар нанесен, враг вышиблен из седла, и осталось разобраться лишь с воззванием и разоблачить изменника в наших рядах. Я открыл дверь и увидел ее теплые девические руки.
Казалось, она проспала лишь миг, и постель там, где был я, еще оставалась тепла.
Двумя этажами ниже во сне заворчал Счетчик Населения, рубашка выбилась из брюк, мокрых хоть выжимай. Они танцевали ему по ногам, такие они были теплые.
Мягко откидывая покровы, она медленно перекатилась, думая о моей теплой смуглой груди.
Тихонько заговорила:
– Ложись в постель, Цицендорф. – Ей хотелось снова заснуть.
Казалось, она забыла, изобильная эта Ютта, где я побывал, любовь без смысла. Я сел на стул лицом к кровати.
Затем, накручивая себе волосы на кончики пальцев, потягивая колени, она вспомнила.
– Сделано?
– Конечно. Упал он легко, как утка, этот районный комендант. Теперь он в болоте, вместе со своими.
– Но как вы его остановили?
– Бревном. – Я нагнулся и ослабил башмаки. – Его остановило бревно. Ты бы подумала, что, когда он с ним столкнется, быть может, перелетит через него приятной дугой или хотя бы изящной кривой. Но все не так. Он со своей машиной просто опрокинулся через него, спицы, фара и каска полетели куда ни попадя. Кончина коменданта лишена всякой помпы!
– Тебе ничего не грозит? И теперь можно забраться сюда и согреться.
Ютта опасалась холода, как некогда боялась она солнца Настоятельницы.
– Еще нужно выполнить весь оставшийся план.
Штинц подталкивал дитя вперед любящими руками, и безмолвно карабкалась она вверх по ступенькам.
– Тебе нельзя никому рассказывать, что ты видела, а то месяц рассердится, – и она скрылась в темноте.
– Мне бы хотелось погладить твое прелестное сердце и твои волосы. Но еще предстоит работа.
– А я полагаю, ее станет еще больше, когда ты достигнешь успеха? – Она зевнула.
– Ночь должна быть моей – всегда.
Дитя украдкою пробралось в комнату, вернувшись к Матери, дрожа в тоненькой своей рубашонке все долгое утомительное приключение. Я, Вождь, улыбнулся, а через твердые подушки и холодное верхнее покрывало Ютта протянула ладонь.
– Дорогое дитя мое, где же ты была? – Рассеянно коснулась она тоненькой ручки, и та на ощупь жестка была, хрупка.
«Что за странная девочка», – подумал я. Что-то шелохнулось внизу – скорей звук ночи, а не человека, быть может – механическое движенье деревьев, трущихся о дом.
– Я видела человека со светом – он гнал по той дороге, где больше никто не ездит.
Наверняка же не она шпионка – та худосочная тень, какую я мгновенье наблюдал. Но предателя знать она должна, возможно – подстроилась к рысьей его поступи и шагала обок его.
– Что он делал? – заговорил спокойно я тем особым голосом для детей, что достался мне от дней до Союзнических преступлений и войны.
– Ничего он не делал. Кто-то что-то положил поперек дороги, и его убило. Его свет разбился.
– А как ты ходила смотреть на этого человека? Кто-то повел тебя на прогулку?
Внезапно она испугалась. Узнала мой голос, вероятно.
– Это сделал месяц. Месяц – это такая жуть в небе, и он рассердится, если я тебе что-то скажу. Еще и убьет меня.
– Ложись в постель, засыпай, – сказала Ютта, и дитя убежало в соседнюю комнату. Но спать она там не стала – она ждала, не спя в темноте, чтобы увидеть, что произойдет.
Честный человек – предатель Государства. Человек с голосом лишь для тех, кто над ним, а не для граждан, рассказывает все и размазывает зло. Честность его – безнадежное дурное предчувствие. Он делает путь неощутимым и мелочным, он препятствует определенности.
Едва вернувшись к себе в комнату, Штинц встал у окна и поднял переплет. Всматриваясь взбудораженными глазами, глядел он на вращенье темноты там, где впервые заметил свет жертвы, и, напрягшись от предвкушения, медленно перевел взгляд поперек темной городской территории к той точке, вот радость-то, где жертва пала.
Ну и наслаждение было это, он знал, что я замыслил что-то, и дитя – то был совершеннейший штришок, заставить ее следить за отцом и убийцей во тьме! О, он-то уж точно знал, что это я, животное-бес, кто пролил сегодня ввечеру кровь, но восторг его был в справедливости, а не в преступленье, никто не мог обвинить, кроме него самого. Скоро услышит он шаги, вскоре станет он судиею, и все знанье скажется – веревкою – на отце ребенка. Небо – для Штинца – прояснялось; он надеялся – поутру – донести.
Лицо ее так зарделось, обрадованное ночью, что не хотелось мне уходить.
– Я вскорости вернусь, – произнес я, и она повернулась в другую сторону уснуть. Вновь из комнаты ниже донесся шорох.
Штинц ожидал стука в дверь и сказал:
– Входите, – едва ль не перед тем, как тот раздался. – Цицендорф, – произнес он, не оборачиваясь, – подите сюда.
На полу между гостем и хозяином лежала туба – инструмент скорбного гимна, напученный у тонких губ школьного учителя, побитый и тусклый от долгих, дрожких полуночных всхлипов. Штинц все еще выглядывал в окно, словно бы намереваясь глядеть туда всю ночь, а разговаривать наутро, живой и раззявленный над улицами, какие сам он никогда б не помог выровнять и сделать процветающими, смеющийся и бесполезный, наблюдая за сценами несчастий и поступков других людей.
– Что вы видите? – Я подобрал тубу и стал обок учительского сюртука. Я терпеть не мог блеянья рога – Смотрите. Вышел снова. Месяц высунулся из-за тучки. Поглядимте только на него, он видит все, Цицендорф. Присматривает за одинокими странниками, тяжко нависает над бесами, жуткий и могучий. Справедливый он человек.
Края показались на миг белыми и далекими, а затем месяц скрылся. Такой слабенький, лишь сероватая клякса в неприятном небе, что большинство людей вторично б на него и не взглянули. Лишь благочестивцы со внутреннею тягою к причастию обеспокоились бы тянуть шеи и напрягать души свои. Я заметил, что шея Штинца высовывается далеко из окна, костлявое личико недвижно уставлено вверх. Несвежий запах учебников не отлипал от черного сюртука, плечи парализованы на подоконнике.
Месяц, месяц, знающий все, казался мне раструбом тубы, толстым и тусклым, неловким у меня в руках.
– Вам нравится месяц – правда, Штинц? Мне он сегодня ввечеру кажется хрупким, слабым и неживописным. Доверять ему я б не стал.
Комнату его наполнять бы липким школьным партам с безмолвными неприятными детьми, чтоб корчили рожи.
– Послушайте-ка, мне, кажется, не нравится ваш тон, вы и сами, знаете ли, можете оказаться не вне его досягаемости. Теперь каждому в этой стране воздастся по заслугам, правосудие для всех, и оно не по той дороге катится, где его можно поймать в ловушку. Кто-то всегда знает, на самом деле вам просто не сможет сойти с руки ничего…
Я недоразмахнулся тубой. Я бы предпочел, чтоб между нами оказалась какая-то дистанция и мне б удалось махнуть ею, как клюшкою для гольфа. Но даже и так Штинц – упал и, полусидя под стеною, еще немного подвигался.
Не так пошли две вещи: не хватило места – и я недооценил сам инструмент. Отчего-то сочтя тубу коренастой, толстой, думая о ней как о колотушке, я рассчитывал, что колотушкою она себя и поведет; ударит тщательно и тупо, двинет жестко и плоско. Вместо этого в затылок Штинцу попал обод раструба, и сила в руках у меня направилась не туда, заковыристо не израсходовалась. Я ударил снова, и с горлышка слетел мундштук и пропел по всей комнате. Меня обескуражило это лишь на миг, и когда наконец я вновь оказался в коридоре – подумал, что предпочел бы короткую дубинку. Штинц больше не шевелился.
Штумпфегль и Фегеляйн уже окопались в курятнике – в том сарае, где некогда стоял джип Полковника. Мне было слышно, как они трудятся, пока я шел через двор за пансионом, легкая их возня едва перекрывала журчанье протока. Розовые штанишки и доска, служившая верстаком, отброшены во тьму, и сарай был почти готов к сочиненью и печати слова. Тем не менее тележка оставалась еще груженой. Меня обеспокоило подумать, что станок еще не установили.
Тяжкий то был труд – расчистить слои куриных отходов. Стены густо покрывали белые образования вроде штукатурки, твердые и хрупкие, плоды усилий стольких кур, все меньше и меньше с дефицитом зерна, наконец – одна вода, и не осталось ничего, кроме куч завидных лучших дней. Там и сям в корке наполовину увязло бледное перышко. Оно колебалось слегка, безо всякой надежды на полет, инкрустированное в птичьих коралловых рифах деревянных стен. Вонь птиц пропитала древесину, а не их отложенья; таилась она в земляном полу, не в перьях. Сильна была она и неистребима. Феге-ляйн тесал ржавым гвоздем, Штумпфегль медленно водил тупым краем мотыги, их темные костюмы медленно покрывались крапинами кальциевой белизны.
Я встал в открытых дверях, стараясь не дышать, не вынося напитанного плесенью воздуха, отряхивая с куртки перышки и белую пудру. Вспомнил белых женщин и темноту Парижа.
– Я избавился от предателя.
– Но, Вождь, это же великолепно. – Чужестранная длань правосудия с ее головоломками, линчеваньями и безупречными жилищами приподнялась с чела Феге-ляйна, и жесткая курья пена стала подаваться с большею легкостью.
– Об одном дурне беспокоиться меньше хотя бы. А к завтрему у нас уже будет наша публика, провозглашенная и подведенная к присяге, все до единого включены всего лишь словом, истинным усилием, в движение, которое их спасет. Выведенные на чистую воду, болваны беспомощны.
– Ах, да, – произнес Фегеляйн.
Штумпфегль сарай ненавидел так, что ему некогда было участвовать в нашей беседе. Аромат улетевших птиц, зловоние казались ему селом, он же предназначен был городу, фабрике с машинами. «Птицы так мочатся, – думал он, – что это вредно для здоровья и нереально, если не считать запаха».
– Успех почти у нас в руках.
Наконец сарай почти совсем очистился, осталось лишь несколько плюх и, быстро побеливши стены, они втащили пресс, скрепкошвейку, валики и стопы дешевой бумаги. Мы втроем, заляпанные побелкой, озарились и устали. Штумпфегль стоял у приемного стола, Фегеляйн – у стола подачи, а я, Вождь, наборщик, ставил в верстатку символы, слова нового голоса. Сочинял свое послание я по ходу дела, пинцетом ставя литеры на место, готовя первое свое послание, создавая на наборной верстатке новое слово. Набор впал на место, движок прочихался, заполнив сарай парами украденного бензина. Я писал, пока люди мои ждали у печатного станка, и воззвание вспыхивало на закопченном черном шрифте:
ОБВИНЕНИЕ СОЮЗНИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКАМ И ОБЪЯВЛЕНИЕ О ГЕРМАНСКОМ ОСВОБОЖДЕНИИ:
Народы, говорящие по-английски: Где четыре свободы Атлантической Хартии?[38]38
Атлантическая хартия – один из основных программных документов антигитлеровской коалиции, принята Великобританией и США 14 августа 1941 года, а в сентябре к ней присоединились и другие страны. Атлантическая хартия была призвана определить устройство мира после победы союзников во Второй мировой войне, хотя США в войну еще не вступили, и послужила основой создания ООН. В документе оговаривались: отказ от территориальных претензий со стороны США и Великобритании; отказ двух держав поддерживать территориальные изменения; право наций на выбор своей формы правления; свободный доступ всех стран к мировой торговле и сырьевым ресурсам; глобальное экономическое сотрудничество и повышение благосостояния; свобода от нужды и страха; свобода морей; разоружение государств-агрессоров, общее разоружение после войны.
[Закрыть] Где те свобода и человечность, ради которых ваше правительство отправило вас на эту войну? Все это – ничто, коль скоро у вашего правительства остается возможность править толпой, саботировать Мир посредством интриг, кормиться постоянным притоком все более отчаивающихся масс, – Америка, которая привела вас к обездоленному миру, лишь обращает против этого мира массы своей промышленности, дула своих гаубиц безумия и алчности против континента, который сама же и оскверняет.
Покамест вы разглагольствовали и рассуждали о Демократии, пока клеймили и распинали континентальную Европу своими идеологиями, Германия поднялась. Мы провозглашаем, что посреди обломков, оставшихся на вашем пути, существует и благородный национальный дух – дух, благоприятный для объединения мира и ядовитый для капиталистических государств. Восстание германского народа и его восстановление более не стоит под вопросом – земля, тевтонская земля, рожает сильнейшую из рас, тевтонскую расу.
Народ Германии: Мы с радостью провозглашаем, что нынче ввечеру Третий Союзный Комендант, надсмотрщик за Германией, был убит. Союзники более не у власти, но вы, тевтонцы, вновь взяли в руки бразды правления своим будущим, ваша цивилизация поднимется опять. Та кровь, что в венах ваших, неизбежна и сильна. Враг исчез, и в сей час изничтоженья нашего естественного противника мы приносим благодарность вам, вашему национальному духу, что наконец-то сбежал из Западного рабства.
Мы платим дань душе Кромуэлла первой войны, кто, осознав власть готов и презревши ослабленную Англию, подстегнул Германскую Техническую Революцию. Это по его вдохновленью Восток достославно маячит впереди, и на его кредо тевтонские холмы и леса выработают своего Сына Родины.
Из руин Афин вздымаются шпили Берлина.
Я отложил щипчики. Без единого слова, но весь подрагивая от воодушевленья, Фегеляйн установил верстатку на место, и станок заворчал громче. Штумпфегль глядел, бесстрастно, как листы – едва разборчивые – начали спадать перышками на приемный стол. Берлин я вообще-то никогда не видел.
Мадам Снеж услышала, как в сарае завозились животные, услышала чуждый лязг, тревожащий ночь.
– Ах, бедолага, – сказала она, глядя на спящего сына Кайзера, – они опять явились за тобою. – Но Баламир не понял.
Сын Мадам Снеж вымученно опустил себя обратно в постель, очень даже бодрствуя и взбудораженный усилием по подъему, одна нога, часть ноги, прямо вверх, таща, как если б она знала обратный путь вверх по лестнице. Лицо актрисы, такое ж яркое, как и у капельдинерши, шмыгало носом и вздрагивало, с улыбкою на устах, в темноте. Он натянул покрывала поверх ночной рубашки, костыли прислонил к кровати. Жена сопела не так тяжело, чтобы ему мешать. С застывшим наслажденьем вспомнил он ту ночь в сарае за пансионом и провинциальную девицу с косичками, хорошенькую, просто загляденье. Она потеряла в сарае штанишки и бросила их там, когда старая Мадам позвала, и пришлось им спасаться бегством. Поздней ночью думал он о том, до чего это восхитительно – юбка, а под нею нет штанишек.
«Мне так не было, – думал он, не забывая и Герцога с ребенком, – с той поездки на неотложке через четыре недели после того, как потерял ногу. Тогда машину трясло, сказал водитель. Сегодня ночью, должно быть, это оттого, что прыгал вверх и вниз по лестнице».
Хоть с ногой, хоть без ноги, она потеряет их сызнова. Мальчик определенно заслуживал палки.
– Неужто не можешь ты проснуться и поговорить? – Голос его был высок и неестествен.



