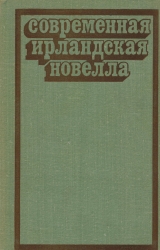
Текст книги "Современная ирландская новелла"
Автор книги: Джон Бэнвилл
Соавторы: Уолтер Мэккин,Фрэнк О'Коннор,Шон О'Фаолейн,Джеймс Планкетт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Брендан Биэн
КОСТЮМ К КОНФИРМАЦИИ (Перевод С. Митиной)
Неделями только и было разговоров что симония, да святотатство, да злодеяния, вопиющие к небу об отмщении, и у каждого в руках здоровенный зеленый катехизис – это когда мы возвращались из школы по Норт – Серкюлер – роуд. А после чая, у задней стены пивоварни, и чинарик по кругу, чтобы прочистить мозги; и опять: что такое чистый духом и – эй, не приканчивай, тут еще Биллсеру разок курнуть – и как я понимаю, что есть вероотступничество, и ад, и рай, и отчаяние, и гордыня, и надежда. Большие ребята, кому уже исполнилось тринадцать, ветераны прошлогодней конфирмации, нас стращали: выгонит вас епископ из церкви, если не ответите ему на вопросы, и бродить вам тогда по улицам в новом костюме и пальто, и гордиться‑то будет нечем – вырядились в пух и прах, а идти некуда. Но взрослые говорили: да не слушайте вы их, это они хотят на вас страху нагнать, просто им завидно – ведь у них‑то конфирмация позади и больше уже никогда не будет. В школе нам отвели отдельный класс – на самые последние денечки, и вообще мы считались людьми особого сорта. Иногда, правда, становилось не по себе: вдруг епископ начнет тебя спрашивать, и ты не сумеешь ответить на его вопросы? А еще мы пугались, когда матери при нас жаловались, что одежда для мальчиков очень уж дорога:
– Двадцать два шиллинга шесть пенсов за твид, надо же, да за такую цену пай в лавке откупить можно. Я очень даже подумываю – раз такое дело, не пойти ли ему просто в фуфайке и штанах.
– Истинная правда, мэм, – вторит ей другая, и таким манером они подбадривают друг дружку. – Вот и я все твержу – какая разница, в чем идти, были бы они сами хорошие и неиспорченные.
Но что проку быть хорошим и неиспорченным, если придется идти в фуфайке и штанах, а все другие ребята явятся в новеньких костюмах, кожаных перчатках, коричневых башмаках и школьных фуражках! Братьев Кауэн совсем застращали. Они были близнецы, обоим по двенадцать, и, казалось, все взрослые с нашей улицы жаждут, чтобы они конфирмовались в фуфайке и в штанах, и каждый говорил, что их матери, бедняжке, в один год нипочем не справить одежду двоим сразу, и надо бы ей пойти к сестре Монике, попросить, чтобы одному отложили. А братья Кауэн договорились между собой: если до этого дойдет, решить дело дракой у задней стены пивоварни, и кто возьмет верх – будет конфирмоваться, а другому пускай откладывают.
Меня эта сторона дела не так уяс тревожила. Мой старик держал лавку и обычно зарабатывал неплохо. И потом, бабушка моя – она жила в верхнем этаже соседнего дома – была женщина смекалистая и деловитая. У нее водились деньги, так что она целыми днями лежала в постели – потягивала портер или эль, нюхала табак и болтала с соседками, забегавшими к ней поделиться свежими новостями. Вставала она лишь для того, чтобы спуститься по лестнице на один марш и проведать свою соседку мисс Маккэн, занимавшую внизу заднюю комнатку.
Мисс Маккэн строчила на швейной машинке – шила саваны. Иногда девушки из нашего квартала заказывали ей платья или костюмы, но шила она все больше саваны. Это дело верное, говаривала мисс Маккэн, и потом – не нужно всякий раз покупать выкройки, тут мода никогда не меняется, даже зимой и летом одна и та же. Саваны ее смахивали на длинную коричневую рубаху, только с капюшоном – его надвигали покойнику на лицо, прежде чем привинтить крышку гроба. С одного рукава свешивалось что‑то вроде флажка из той же материи: на всех четырех углах – шелковые розетки, а в середине – буквы «И. Н.С.»[32]32
Религиозный символ или монограмма (здесь – искаженная); соответствует сокращенному обозначению имени «Иисус» на греческом языке.
[Закрыть], что, по сло-
вам мисс Маккэн, означало «Искал, надеялся, страдал».
Бабушка и мисс Маккэн любили меня больше, чем других ребят. А я люблю, когда меня любят, и потому мне оставалось только одобрять их вкус.
Иногда к нам заходила тетя Джек – она доводилась теткой не только мне, но и отцу и жила неподалеку от водохранилища, из которого город снабжался водой до того, как она стала поступать с Уиклоу[33]33
Возвышенность, ограничивающая Дублин с юга. На одном из ее плато вырыто искусственное озеро, из которого город снабжается водой.
[Закрыть]. Тетя Джек уверяла, что вода из водохранилища была куда вкуснее нынешней. На что мисс Маккэн говорила: уж кому об этом судить, как не тете Джек. Потому что она была немножко тронутая, тетя Дя; ек. Ни портера, ни эля в рот не брала, табак не нюхала и, как утверждал мой отец, на мужчин тоже никогда особенно не заглядывалась. Кроме того, считала, что мыться надо очень часто, и правила этого придерживалась неукоснительно. Бабушка купалась раз в году, все равно – была она чистая или грязная, а в остальное время не очень‑то усердствовала на этот счет.
Тетя Джек то и дело совершала на нас грозные набеги, чтобы не давать бабушке прикладываться к спиртному и нюхать табак, заставляла ее вставать с самого утра, мыться, готовить и съедать то, что сварено. Бабушка была позолотчица, в свое время работала в лучшей мастерской города, и уже в шестнадцать лет ей платили столько же, сколько мужчинам. Она любила и свежую свинину, и мясные консервы, но терпеть не могла варить картошку – прислуга я, что ли, говорила она, и вообще лучше покупать хрустящий картофель, он вкуснее. Когда ее оставляли в покое, есть с ней было одно удовольствие. У нее всегда водились консервы: всякие вкусности, и мясо со специями, и студень, а еще – всевозможные приправы, прямо из лавки, которую держал один немец на нашей улице. Но после очередного визита тети Джек бабушке приходилось подниматься с постели, перемывать все, что скопилось за неделю, потом тушить мясо, варить капусту и ливер. Тетя Джек очень нахваливала и бараньи головы: ведь они такие дешевые и питательные.
Однако баранью голову бабушка сварила один-единственный раз. В свое время она была первоклассной позолотчицей и работала в мастерской на Юстас-стрит, но с бараньими головами ей дело иметь не доводилось. Когда она извлекла голову из горшка и выложила на блюдо, мы от испуга сели; смотрим на нее, а самих так и трясет – голова и без того была страшенная, когда ее только клали в горшок, а уж теперь от ее вида прямо сердце заходилось: из глазниц льет суп, большущие зубы оскалены в неукротимой ярости. Ну кто бы подумал, что у барана может быть такой злобный, мстительный взгляд, зашептала бабушка, ни дать ни взять голова старикашки, и выкинь ты ее, бога ради, в окно. Баранья голова продолжала пялиться на нас, но я зашел сзади, схватил блюдо, метнулся к окну и молниеносно вышвырнул ее на улицу. Бабушке пришлось подкрепиться стаканчиком виски – она была сама не своя.
С тех пор у нее всегда стоял на газовой конфорке «дежурный горшок», как она его называла. Кучка костей – и вообще, по словам самой бабушки, всякая гадость, что под руку попадет, – день и ночь варилась в этом горшке на маленьком огонечке. Мы с ней уплетали ветчину, калифорнийские ананасы и лососину, а на конфорке неизменно стоял горшок доброго питательного супа – пусть теперь тетя Джек хоть по трубе к нам спускается, словно души усопших праведников полночной порой. Бабушка говорила, что денег за газ ей ничуть не жалко – вспомнить только, как глазела на нее баранья голова. А с «дежурным горшком» всего и было хлопот, что время от времени плеснуть туда воды да бросить какие‑нибудь ошметки, которые присылал мясник, – кости или обрезки легких. Тетя Джек и ячмень считала очэнь полезным, так что рядом с конфоркой у нас стоял початый пакет ячневой крупы, и мы бросали в горшок щепотку – другую, едва заслышим на лестнице ее шаги. «Дежурный горшок» кипел на огне годами, и, лишь когда бабушка умерла, на него обратили внимание. Все по очереди пробовали варево, тут же его выплевывали и спрашивали, что бы это могло быть такое. Одни утверждали, что это масти ка, другие (и таких было больше) – что позолота, а третьи – что клей. Однако все сошлись на том, что оставлять это месиво опасно – ведь тут и малые дети ходят, – так что его без дальних проволочек выплеснули в окошко, то самое, куда в свое время полетела баранья голова…
Мисс Маккэн твердила бабушке, чтобы та не обращала на тетю Джек внимания и спала бы себе по утрам, сколько душе угодно. Они договорились, что мисс Маккэн ведет наблюдение за лестничной площадкой и будет все время начеку: если появится тетя Джек, зазовет ее к себе, подаст нам сигнал – постучит кочергой по каминной решетке, как будто мешает угли, – а сама минутку – другую поболтает с тетей Джек о платьях и костюмах, саванах и шляпках. В одно такое утро, когда мисс Маккэн приняла меры, чтобы отсрочить боевые действия и дать бабушке время вылезть из кровати, влезть в платье и быстренько провести по лицу полотенцем, у них с тетей Джек зашел разговор о костюме, в котором я буду конфирмоваться.
Перед тем как мне идти к первому причастию, бабушка запустила руку глубоко – глубоко под матрац, отправила нас с тетей Джек в поход по дорогим магазинам, и я вернулся с таким костюмом – загляденье. Но на этот раз мисс Маккэн объявила: на саваны особого спроса нет, потому что зима выдалась мягкая, и она с радостью сошьет мне костюм сама, если тетя Джек купит материю. Я чуть было не заревел от ужаса, когда представил себе, во что эти старухи меня вырядят, но пришлось сделать вид, будто я страшно рад, – так загорелась мисс Маккэн. Она спросила тетю Джек, помнит ли та, в чем конфирмовался мой отец. Сам‑то он помнил. И говорил, что не забудет вовек. Его обрядили в темно – лиловый бархатный костюмчик с кружевным воротником. У меня кровь застыла в жилах, когда он мне про это рассказал.
На костюм мне набрали синей саржи, и это было не так уж плохо. Штаны тоже сшили вполне сносные. С мальчишескими штанами особенно не намудришь, они все на один лад – я только просил старушек, чтобы они избавили себя от лишних трудов и не пришивали по три пуговки на каждую штанину. С жилетом все было в порядке, и потом, ведь его все равно под пиджаком не видно. Но когда дело дошло до пиджака… Вот это и был форменный разгром при Аугриме[34]34
Битва 12 июля 1691 г., во время которой восставшие ирландцы понесли жестокое поражение от войск английского короля Вильгельма III Оранского.
[Закрыть].
Лацканы мне сделали узюсенькие – вроде как на снимках Джона Л. Салливена и Джентльмена Джима[35]35
Джон Салливен и Джеймс Корбет – известные американские боксеры конца XIX века.
[Закрыть] в журнале «Ринг», а пуговицы – с блюдце величиной, ну, или с кружок на другой стороне его донышка, и когда я увидел, что их пришивают, то чуть не зарыдал – бросился домой, к маме и стал умолять ее, чтоб раздобыла любую одежку, пусть хоть фуфайку и штаны, только бы мне не показываться на людях в этом наряде. Но мама сказала: тетя Джек и мисс Маккэн сделали такую любезность, взяв на себя все хлопоты и расходы, и с моей стороны черная неблагодарность, что я этого не оценил. А отец добавил: мисс Маккэн до того искусная портниха – люди даже умирают, лишь бы облачиться в ее изделия, и продукцию ее можно обнаружить на лучших кладбищах города. Над этой своей шуткой он сам хохотал до упаду, а потом объявил: его, мол, отправили на Норт – Уильям-стрит в лиловом бархатном костюмчике с кружевами, и ничего, сошло, так уж мне и подавно незачем кукситься из‑за кургузых лацканов и каких‑то там двух пуговиц – переростков. А еще попросил меня в день конфирмации встать пораньше и показаться ему прежде, чем он уйдет в лавку: немножко посмеяться – совсем неплохо перед началом трудового дня. Но мама сказала, чтобы он оставил меня в покое: она уверена, костюмчик получится прелестный, тетя Джек какую-нибудь заваль покупать не станет, и, если уж она взяла материал, ему сносу не будет. Это меня, можно сказать, доконало, я кинулся в прихожую и забился в дальний угол; наверное, я бы все глаза себе выплакал, но только я как‑то не умел плакать. Ругаться – это больше по моей части, и я принялся ругать на чем свет стоит всех своих, в особенности отца, – ну почему тот кружевной воротник не удавил его? – но вдруг вспомнил, что говорить такое – грех, да еще перед конфирмацией, так что пришлось мне спустить пары и в стра хе ждать того дня, когда надо будет влезть в новый пиджак.
Шли дни, костюм прилаживали и снова переделывали, и все взрослые, сколько их было в нашем доме, приходили взглянуть на него: возьмут понюшку табаку, хлебнут из бутыли и приговаривают – носи на здоровье, расти большой, и столько они меня вертели и разглядывали со всех сторон – и спереди, и сзади, и с боков, – что мисс Маккэн не хватило времени сшить пальто; словно в ответ на мои молитвы, меня повели на Тэлбот – стрит и облачили в шикарное пальто – с поясом, совсем взрослое. Башмаки и перчатки купили дорогие, просто блеск, и я решил, что мне вообще незачем показывать людям этот свой пиджачишко с малюсенькими лацканами и здоровенными пуговицами. Прохожу весь день в пальто: и в церковь в нем пойду, и повсюду.
Вечеоом накануне конфирмации мисс Маккэн отдала костюм маме, расцеловала меня и сказала, чтобы я не вздумал ее благодарить, она бы с радостью еще и не то для меня сделала, и тут они с бабушкой всплакнули и выпили под тем предлогом, что вот, мол, какой я вырос большой за эти двенадцать лет – срок, с их точки зрения, не такой уж значительный. Отец сказал маме – она в это время мыла меня у камина, – что с самого моего рождения мисс Маккэн меня обожает. Однажды маму положили в больницу, так она забрала меня к себе, а когда мама вернулась и надо было меня отдавать, чуть не умерла с горя.
Утром, когда я встал, к нам в дверь заглянула соседка, миссис Руни, и крикнула моей маме, что ее Лиам еще валяется, вставать, видно, не думает, и не иначе как она проклята богом: рождество ли, пасха ли, первое ли причастие, конфирмация ли – вечно одно и то же, с ним можно в Риддли угодить (это психиатричка при городской больнице), поразительное дело, как она давным – давно не помешалась, как ее в сумасшедший дом не свезли. Потом снова принялась кричать на Лиама: вставай, мойся, одевайся! А мама принялась кричать на меня, хотя я уже завязывал галстук, – впрочем, далее если б мы с ним вылезли из кожи вон, все равно нам ничего бы не помогло, они орали, как полоумные, до тех пор, пока мы с Лиамом не были наконец‑то готовы; он зашел к нам – показать свой новый костюм моей маме. Она подарила ему шестипенсовик, и он спрятал его в карман, а миссис Руни сказала, чтобы я зашел к ним – показать свой новый костюм ей. Но я встал у них в дверях и даже пальто не расстегнул, просто выхватил у нее из руки монетку в шесть пенсов и сломя голову ринулся вверх по лестнице. Она крикнула – подожди минутку, я же костюм посмотреть не успела, но я только буркнул, что неприлично, мол, заставлять епископа дожидаться, и был таков.
В церкви было полно народу, мальчики по одну сторону, девочки – по другую, и сверкающий алтарь, весь в цветах и огоньках свечей, и кресло для епископа – чтобы мог присаживаться, когда не конфирмует. Толпа у дверей радостно нас приветствовала, раздался барабанный бой, трубачи из местного оркестра грянули «Славься». Но вот появился епископ, и двери затворились. Дальше все пошло очень быстро: я стал в хвост очереди, и, когда добрался до перильцев алтаря и опустился на колени, епископ пошептал надо мной, коснулся моей щеки. И все это время я не снимал пальто, хотя стало очень жарко, я просто взмок, дожидаясь, когда же будут пропеты псалмы и епископ приступит к проповеди.
Свечи разгорались все сильней, в церкви делалось все жарче, в конце концов мне стало плохо, и меня вынесли. Распустить себе галстук я еще дал, но в полы пальто вцепился намертво, и ни единая душа так и не увидела кургузых лацканов моего пиджака и большущих пуговиц. Добравшись до дому, я лег в постель, и отец рассказал, что там, в церкви, я лишился чувств в ту самую минуту, когда епископ заново посвящал нас служению богу. Ловкий ход, добавил отец, и свидетельствует как раз о завидном уменье владеть своими чувствами.
Воскресенье за воскресеньем мама вела со мной войну из‑за этого костюма. Какой же ты притворщик и лицемер, говорила она, раз в неделю наденешь костюм на минутку, заскочишь к мисс Маккэн и тут же удираешь – чтоб она думала, будто ты всегда носишь его в праздничные дни. Однажды, не на шутку рассердившись, мама пригрозилась разоблачить меня и все-
все рассказать мисс Маккэн, тут же пулей выскочила за дверь – мама всегда была стройная, легкая как пушинка – и влетела в соседний дом. Но, вернувшись оттуда, не сказала ни слова, а только присела у камина и стала смотреть на огонь. По правде говоря, я не очень‑то вэрил, что она все рассказала мисс Маккэн. Так что я облачился в костюм и решил: пойду сейчас сам, скажу ей, будто надел его, потому что вечером собираюсь с братьями в Королевский театр.
Я кинулся в соседний дом, и, пока бежал вверх по лестнице, во мне с каждым шагом крепла уверенность, что мама ей ничего не сказала, и у меня становилось легче на душе. Я с разбегу ворвался в дверь:
– Мисс Мак, мисс Мак, а мы с Рори и Шоном в Королевский идем…
Она сидела, склонившись над швейной машинкой, мне видна была только ее трясущаяся от плача спина и макушка седой головы, опущенной на руки, а из‑под рук торчал кусочек савана, на котором она заканчивала обычные «И. Н.С.». Я кубарем скатился с лестницы и побежал домой – мама по – прежнему сидела у огня, печальная, удрученная, но и тут не сказала мне ничего.
Сокрушаться о том, что костюму моему сносу не будет, что он вечен, мне, впрочем, не пришлось. Мисс Маккэн и сама оказалась не вечной. Следующая зима выдалась уже не такая мягкая, и она отдала богу душу еще до Нового года. На ее поминках люди говорили, что вот, мол, она лежит в саване собственного изготовления, а мой отец сказал на это – странно было бы ее видеть в чем‑нибудь другом, ведь она сорок лет снабжала своими изделиями мертвецов целого квартала, и за все эти годы не имела претензий ни от одного клиента!
Во время похорон я оставил пальто в экипаже, вылез и под проливным дождем пошел за гробом. Все говорили – я простужусь насмерть, но я так и шагал до самой могилы, а потом выстоял до конца в том костюме, в котором конфирмовался, хоть промок до нитки. Мне казалось – это самое меньшее, что я могу сделать.
Джон Монтегю
КРИК (Перевод Н. Высоцкой)
Он наконец решительно встал – ив самом деле пора было идти спать. Отец уже побрел к себе, а мать готовила грелку, двигаясь по тесной кухоньке, как бесплотная тень. Он смотрел на ее седую голову, на перламутровые шарики четок, свисавшие из кармана фартука, на шлепанцы с кроличьей опушкой, и ему было стыдно, что из‑за него мать в такой поздний час еще на ногах. Но теперь он приезжал домой так редко, что выбился из ритма жизни стариков и только старался доставить им побольше удовольствия. А они с таким наслаждением пили при нем из больших кружек какао, что ему оставалось только одно – рассказывать еще и еще. Говорил он главным образом о том, что для них было новым и неизвестным: о своих поездках по Европе, о работе в большой газете и об удивительно свободной жизни в Лондоне. Последнее очень задело отца – потомка многих поколений республиканцев.
– То есть как это жизнь там свободная?
– Видишь ли, отец, просто в твою жизнь никто не вмешивается. Чем ты занимаешься – твое личное дело, если только ты не нарушаешь порядка.
Но отец смотрел на него с недоумением, и он попробовал выразить свою мысль с помощью понятий, привычных для старика.
– Например, в «Набате» никому в голову не придет спрашивать у тебя, католик ты или протестант, вкладывая в это такой смысл, как здесь. Если кто – нибудь и спросит, так просто потому, что ему интересно, какую религию ты исповедуешь, и только.
– А тогда объясни мне, отчего же у Англии по всему свету такая худая слава? Разве она не душила свободу повсюду, где ни появлялась? И в Африке, и у нас, на севере?
– Видишь ли, отец, это ведь не настоящая Англия, а только правительство и господствующие классы. Настоящие англичане совсем другие, они сторонники свободы личности – живи и жить давай другим. Послушал бы ты их в Гайд – парке!
– Значит, мне настоящий англичанин ни разу не встретился, – упрямо стоял на своем отец. Он побагровел, ноздри раздулись так, что стали видны кустики белых волос. Круглая, лысая голова и блестящие глаза придавали ему сходство с Чэдом, которого на карикатурах военного времени изображали подсматривающим через забор. Только лицо его выражало не комичную покорность, а гнев.
– Может быть, у себя дома они и хорошие, – робко заметила мать.
На этом разговор оборвался. Отец всегда был настроен против англичан. Питер помнил, как он говорил, что с радостью до конца своих дней жил бы на воде и черством хлебе, лишь бы увидеть Англию поверженной. А какую ему пришлось выдержать борьбу, когда он объявил, что едет в Лондон, чтобы там попробовать свои силы в какой‑нибудь газете. В Дублин – пожалуйста, или, скажем, в Америку, где его отец десять лет прослужил поваром в большом отеле, прежде чем вернулся на родину, женился и завел небольшой газетный киоск. Только не в Англию! Сквозь завесу религиозных и политических предрассудков Англия представала в воображении отца воплощенным злом. Но отцовская непримиримость чем‑то импонировала ему – недаром он, когда был подростком, думал даже вступить в местное отделение ИРА[36]36
Ирландская республиканская армия (ИРА) – нелегальная военизированная организация, возникшая в 1919 г. во время национально – освободительной войны.
[Закрыть] и связался с его членами. Они (вернее, он, меланхоличный упаковщик яиц по фамилии Шеридан, который, по слухам, был у них пулеметчиком) велели ему явиться на собрание, но в последнюю минуту он струсил и сослался на то, что ему нужно уехать.
Поэтому Питер переменил разговор. Он рассказы вал о спектаклях, которые видел, о грандиозных американских мюзиклах, о Королевском балете и гастролях русского Большого театра. Но отец все еще словно был недоволен – перехватив грустный взгляд, который тот бросил на мать, Питер с недоумением прикинул, что же он сказал не так. Но глаза матери блестели, и она с удовольствием слушала описание благотворительного (он тактично вставил это слово взамен «по королевскому приказу») представления, на котором присутствовали все «звезды» в роскошнейших туалетах.
– Наверное, это было красиво! – сказала она с легкой завистью.
И, только поднимаясь к себе в спальню, он понял, что означал отцовский взгляд.
– Спокойной ночи, сынок, – сказала ему вдогонку мать. – Не забудь помолиться на ночь.
Так вот оно что: из‑за его приезда они не стали читать вечернюю молитву, а ждали, чтобы он сам про нее вспомнил. Ну как объяснить им, что в Англии это не принято? Правда, один раз в его первом общежитии, в Кемден – Тауне, двое ирландских парней как‑то, ко всеобщему смущению, бухнулись на колени возле своих кроватей и принялись молиться вслух по – ирландски. Англичане – католики не считают нужным обременять себя подобными формальностями. Но начни он объяснять все это, и они решат, что он совсем утратил веру. Нет, он приехал домой ненадолго, и лучше будет обойтись без религии и политики.
Он вошел в свою спальню – комнату наверху, окна которой смотрели на улицу. Тут все было как всегда: аккуратно отвернут уголок простыни, то же голубое пуховое одеяло, и даже под кроватью все тот же желтый ночной горшок. Над камином знакомое изображение богоматери – заступницы – худая мадонна обнимает задумчивого младенца, с пухлой ножки которого свисает башмачок. Напротив, над кроватью, викторианский коврик с изречением, которое вышила его бабушка еще девочкой: «Веселье – в труде».
В этой неизменности было что‑то пугающее, словно он увидел призрак самого себя – такого, каким он был в юности. За стеной ворочался на постели и взды хал отец. Переодевшись в пижаму, Питер опустился на колени около кровати. Может быть, отец услышит его шепот и поймет, что он означает. Потом прошелся по комнате, ища какую‑нибудь книгу или газету.
Отвергнув «Ежегодник Уолфа Тона»[37]37
Тон, Тиоболд Уолф (1763–1798) – выдающийся ирландский буржуазный революционер.
[Закрыть] и «С Богом на Амазонке», лежазшие на тумбочке, он обнаружил экземпляр «Ольстерского националиста», который, судя по следам сажи, был снят с каминной решетки, перед тем как на нее установили электрокамин, и с торжеством унес его в постель.
Передовица сдержанно, но негодующе обличала продолжающуюся в Северной Ирландии дискриминацию католиков при устройстве на работу или поисках квартиры. Приводились конкретные примеры, и, хотя ничего нового тут не было, Питер почувствовал, что в нем пробуждается гнев – так все это было бессмысленно и несправедливо. Он торопливо открыл страницу судебной хроники:
ООН В МУРХИЛЛЕ?
В среду в мурхиллском суде долго слушалось дело об оскорблении словом и действием.
Джеймс Маккенни, проживающий на Крейвеген-террас, показал, что мисс Филлис Мерфи вылила на него ведро воды, когда он проезжал на велосипеде мимо ее дома. В процессе дачи показаний он признал, что говорил с мисс Мерфи в резком тоне, но вовсе не угрожал «пришить ее», как утверждала она. Он признал также, что занял у мисс Мерфи пять шиллингов, «на лекарство от головной боли». Его поверенный мистер Джон Кеннеди сообщил суду, что его клиент – ветеран первой мировой войны и получает пенсию по инвалидности. Он действительно несколько раз сидел в тюрьме, но соседи о нем самого высокого мнения.
Ответчица, мисс Филлис Мерфи, заявила, что Джеймс Маккенни – «паразит», о чем все знают, а кроме того, он «позволял себе всякие выражения». Она отрицала, что облила его водой, и утверждала, что он «так набрался», что сам наехал на ведро. Она отрицала, что ею было сказано: «Посмотрю, как ты теперь посмеешься, оранжистская морда!»
В своем решении судья указал, что установить истину в данном случае трудно, но, по его мнению, виновны обе стороны, и он обязывает их соблюдать мир в течение года. Нельзя не пожалеть, добавил он, что в такое время, когда люди стремятся положить конец войне, объявив ее вне закона, между соседями нет лада. Уж на пригласить ли ему в Мурхилл Организацию Объединенных Наций? (Смех в зале.)
Питер Дуглас продолжал читать, ужасно развеселившись. Впервые с тех пор, как он приехал домой, у него стало легко на душе. Бросив газету на пол, он сладко зевнул и повернулся на бок. Где‑то внизу раздалось «ку – ку» – это били часы с кукушкой, которые он привез в подарок матери.
Потом он внезапно проснулся от какого‑то крика. Прислушался – в комнате отца тихо. Что‑нибудь с матерью? Нет, голос был громким, мужским. Он донесся снизу, с улицы, но кричали не перед их домом. Сев в постели, Питер повернулся к окну. Да, вот снова, теперь гораздо отчетливее, и в голосе слышно страдание:
– Бога ради, сэр, бога ради! Больно же!
Может, у кого‑то случился припадок и его переносят в машину «скорой помощи»? Или пожар? Питеру вспомнилась та давняя ночь, когда пожарные выносили из горящего дома старика Керолена и тот вопил как резаный, а на ногах у него дотлевали обрывки кальсон. Но к кому обращается этот человек на улице, кого он называет «сэр»?
– Бога ради, сэр, не трогайте меня.
Повсюду в домах зажигались лампы. В окне напротив возникла неясная женская фигура, закутанная в халат, – столь неприличное поведение в Мурхилле могли оправдать только чрезвычайные обстоятельства. Может быть, драка? И вдруг Питер Дуглас понял: это кого‑то избивают полицейские.
– О господи, не бейте меня больше!
Голос звучал пронзительно, умоляюще. Послышалось шарканье, звук удара й резкий треск – словно угодил в дерево камень. Отбросив одеяло, Питер подбежал к окну и высунулся наружу. В конце улицы он увидел группу людей – дюжие парни в плащах с капюшонами. Между ними, освещенный лучом фонарика, скорчился человек. В окнах мелькали тени – безмолвно, настороженно.
– Ну‑ка хватит орать! Вставай и пойдем в участок, – приказал раздраженный голос.
– Не могу, сэр, я еле жив. Помогите мне ради бога!
Голос продолжал умолять, но раздалась приглушенная команда, фонарик погас, и четыре темные фигуры сомкнулись над скрючившимся человеком. Неужели никто не вмешается? Ни один из тех, кто маячит в окнах? Питер Дуглас открыл было рот, но его опередили.
За спиной полицейских распахнулась дверь, и на мостовую упала широкая полоса света. Питер услышал резкий интеллигентный голос:
– Что вы, мерзавцы, делаете? Оставьте его в покое!
Один из полицейских обернулся и посветил фонариком прямо в лицо говорящему:
– Заткнись и не суйся не в свое дело, понял? Хочешь и сам попробовать?
Слова слились в неясное бормотание, затем дверь гневно захлопнулась. Четверо полицейских схватили свою жертву, повисшую между ними, словно мешок, и поволокли по улице к казармам. Крики смолкли, и слышны были только тяжелые шаги и глухие стоны. Открылась, потом закрылась дверь казармы, и наступила тишина. Огни в окнах начали гаснуть. Но Питер Дуглас еще долго с напряжением всматривался в темноту, пока не заболели глаза – очки он оставил на тумбочке. Когда он наконец снова лег, снизу донеслось: «ку – ку, ку – ку, ку – ку».
Когда утром, после короткого тревожного сна, Питер спустился к завтраку, оказалось, что внизу его нетерпеливо ждет отец. Против обыкновения он не ушел в лавку, и Питер услышал там голос матери – она разговаривала с ранней покупательницей: «Да, миссис Уилсон, для этого времени года погода стоит прекрасная». А завтрак приготовил отец – подал кукурузные хлопья, чай, поджаренный хлеб; на сковородке шипела ароматная грудинка. Он явно что‑то замышлял, и Питер насторожился, точно арестант при виде дружелюбной улыбки надзирателя.
– Что‑то у тебя сегодня энергии много? – заметил он, накладывая себе кукурузных хлопьев.
Отец ничего не ответил, продолжая колдовать у плиты с посудой и тряпками, а затем торжественно поставил перед сыном полную тарелку – яичницу с грудинкой и сосисками.
– Старик еще не разучился стряпать, – сказал он, присаживаясь у стола. Он смотрел, как сын ест: с городской торопливостью, словно не замечая вкуса.
– С чем – чем, а с аппетитом в Англии неважно, – сказал он и тут же без всякого перехода спросил:
– Ты слышал, что было ночью?
– Да, – коротко ответил Питер. – А ты?
– Самый конец. Но сегодня только об этом и говорят.
– А что именно?
– Что патруль вспомогательной полиции избил одного паренька. Его фамилия Фергюсон. Они заявили, что он член ИРА.
– А это правда?
– Откуда я знаю? Но говорят, что нет. Просто назначил своей девушке свидание на мосту и ни о чем другом не думал.
– Так почему же они на него набросились?
– Почему? Ты не хуже меня знаешь, что этим молодчикам, чтобы избить таких, как мы, особых причин не требуется.
– Но может быть, у него нашли листовки или взрывчатку? Ведь последнее время всяких беспорядков хватает.
Уже несколько месяцев, как ИРА возобновила свою деятельность в Северной Ирландии. Все та же старая история: взрывы в казармах и таможнях, нападение из засады на полицейские патрули. Обе стороны понесли потери, и полицейские силы были увеличены даже в таких сравнительно спокойных городках, как Мурхилл, который хотя и был в основном населен ка толиками, но находился так далеко от границы, что налетать на него не решались. Однажды, правда, на окраине загорелась лачуга, но выяснилось, что причиной пожара были ребячьи шалости.








