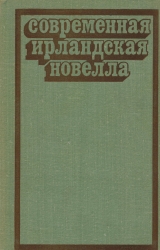
Текст книги "Современная ирландская новелла"
Автор книги: Джон Бэнвилл
Соавторы: Уолтер Мэккин,Фрэнк О'Коннор,Шон О'Фаолейн,Джеймс Планкетт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Почему же, можно и о соседях, я не против. Разве есть кто у человека ближе, чем соседи. Оттого и ссоры бывают: как все равно в семье.
Мик Оуэн хороший человек. Только беспокойный очень, вот его главная беда. Жена у него трещит за двоих, а вообще‑то она не вредная. Он никак не опомнится, что у него парень такой получился: ну, словно бы высидела утка яйцо, а вместо утенка вылупился гусенок. Все смотрит на него. Спрашивает себя: неужто мой? Так до самой могилы и будет дивиться. А Славный денек – Макграт – он какой есть, такой есть. Если кто‑то шиллинг заработал там, где сам он еще урвать не поспел, это ему нож острый. Ну уж каков есть. Его не переделаешь. Надо принимать людей такими, какие они есть.
А вот с Джули он себя показал довольно порядочным. Живет она не так, чтобы в роскоши, но сыта и одета не хуже других. Правда, работает она на него чуть ли не задаром, но, как ни говори, а он ее к себе в дом взял с самого рождения, верно? Этого у него не отнимешь.
Вы просите про Майкла – второго рассказать – вот тут мы с вами вроде бы на топь вступаем. Мы с ним в школу вместе ходили. Не сказать, чтобы очень ладили. Я здоровенный, сами видите, а он всегда был небольшого роста – так‑то сильный, крепко сбитый, но низенький. Низенькие, они всегда на рослых зуб имеют, а рослый низенького ударить никак не может. Только и всего.
Вечно он лез всех поправлять. И говор‑то у тебя не такой, и слова не такие, и понятия не те. И всегда был задиристый, прямо бентамский петушок. Поправлял, однако, не всегда правильно. Читал запоем, но, я так мыслю, из книг брал только то, что с его мнением сходилось, а остальное проскакивало мимо.
А потом родители послали его учиться. Уехал на пять лет, и это вроде бы его от нас отдалило. Я так мыслю, человек должен там расти, где родился. Будь у меня сын, я бы его, думается, не услал из дому, как они. Уж не знаю, как бы я его выучил, исхитрился бы как‑нибудь, только отсылать бы не стал. Ну, наезжают они сюда на каникулы. Если в ком устойчивости нет, такой посматривает на нас свысока, вроде бы милость какую оказывает, что с нами играет или же пляшет, пьет там или разговаривает.
Но Майкл – второй – это дело особое. Таких, как он, не часто встретишь. По моим словам можно так понять, что он не очень‑то мне по душе, знаю. Дайте‑ка поразмыслить. Да, пожалуй, верно: он мне не по душе, а все же у меня к нему какая‑то слабость. Понимаю, одно с другим не вяжется, но лучше объяснить не умею. Вроде как если живет у тебя в доме ручная крыса. Нет, я его крысой обозвать не хочу. Вовсе он не крыса. Просто чудной какой‑то, скажем так.
Угу, вот, значит, мы и до пьесы добрались. Я обо злился? Да нет, нисколько. Нарочно скатал в город, посмотреть ее.
А чего вы так удивляетесь? Я частенько удираю в город на вечерок, а то и дня на два закачусь – посмотреть что‑нибудь: пьесу там, или оперу, или представление такое, где танцуют, как его, балет, что ли. И, знаете, у нас многие ездят. Не такие уж мы охламоны.
Пьеса – не бог весть что. Жиденькая вообще‑то, но потешная. Местами здорово смешно. Угу, я заметил этого типа, как там он его окрестил – Дурлок О’Дубин. Считается так, что это он вывел меня. Да нет, я посмеялся – и все. Это же придумать надо, будто я лососей незаконно промышляю – глушу динамитом да еще пускаю какую‑то отраву. Вот чушь‑то! Ведь их можно ловить куда проще, и уж я‑то рыбу губить не стану. Пока еще соображения хватает. Чего ради глушить лососей – чтоб они через год – другой вовсе повывелись?
Я вам так скажу: в пьесе есть очень ехидные места, с подковыркой, но подковыривает‑то он только нас, нам одним и понятно – это он нас на посмешище хочет выставить. Майкл – второй меня не больно жалует, сам знаю. И такой‑то я, и сякой. Потому что ему взбрело в голову, будто я приглянулся Джули, а она ему самому здорово нравится. Вы ее видели? Очень она развитая девушка. Все, бывало, с ним ходит, все его слушает. И из себя такая красивая – хорошая бы ему жена. А он опасается, что я ей приглянулся, но только это дурь одна – Джули во мне брата видит, родных-то братьев у нее нету, да и я на нее смотрю, как на сестренку. Вроде бы оберегаю ее, понимаете, и так мы с ней славно ладим, ну, как брат с сестрой, когда они молодые, – то и дело хохочем, а смеется она до того хорошо, будто колокольчик заливается. Расхохочется вот так над твоей немудрящей шуткой, и ты сам в своих глазах вырастаешь. Вы такое можете понять? А понять надо непременно, потому что тут он зря на меня взъелся. У нас с ней просто дружба. Приятели мы с ней. Вы такое можете понять?
Ну а если тут все ясно, что ж тогда еще? Я так мыслю, ум у него неосновательный и в словах глубины нет. В жизнь не вдумывается – поверху скользит: и не то чтобы по сливкам скользил, нет, по снятому молоку. Вроде бы целыми часами на небо смотрит, на звезды, на луну, на солнце, холмы разглядывает, траву зеленую и вереск, но, я так мыслю, видит он их только по отдельности. А что все они – одно, для чего они и зачем, того он понять не может; где ж ему тогда понять, зачем люди живут – пусть хоть люди маленькие, вроде нас? А на маленьких людях мир стоит; так что общность ихняя, и стремления, и мечты – это и придает смысл всему сущему. Вы меня понимаете? Вот они, маленькие люди, и говорят ему: возьми зеркало, поднеси его к нам и покажи, какая она есть, наша жизнь; взять‑то он зеркало взял, но показывает только себя самого – обличье свое и понятия.
Может, я кругом неправ, но вот так я на это дело смотрю.
И потом – никому не дозволено обижать людей, так я мыслю. Само собой, все мы знали про Джули и про Сару с Моряком. И так давно уже все это дело тянется, мы вроде бы про него и забыли. Да и никто бы об этом словом не обмолвился, даже во сне – ну, вы меня понимаете. История несообразная, но ведь и горестная тоже. И так долго она тянулась – уже и поделать никто ничего не мог, а потом стало поздно.
Но вот из‑за чего во мне все переворачивается: это надо же, знать все про Джули, а в пьесе показать, будто ее отец – лавочник. Вот это уже никуда. Славный денек – он тоже человек. Ну еодились за ним в молодости грешки, так ведь когда это было, а здесь, видите, до чего ловко все повернуто. Где ж ему теперь доказать, что он тут чист, если за ним раньше были провинности? Вот видите. Чего ж удивляться, если он так разбушевался, хоть и узнал обо всем с чужих слов?
Я так мыслю – нехорошо это, людей вот этак разделывать ради того, чтобы немножко посмешить публику. Ясное дело, никто бы сроду не понял, что у него все перемешано: кое‑что от живых людей взято, кое‑что выдумано; одни только эти люди и поняли бы, так что лучше бы Славному деньку промолчать. Даже и те, с островов, так бы не взбеленились, но ведь в тот день была ярмарка, и выпили они, а тут еще Славный денек вроде бы соли им на раны насыпал. Зря они так разошлись вообще‑то. Не затей они драки, все бы само улеглось, а через месяц – другой и думать бы об этом забыли.
Даже и сразу бы позабыли, не окажись тут у нас проездом один малый из газеты, – он взял да и накатал статью. Верно, статья вышла занятная, а тут как раз объявился Майкл – второй и устроил целую драму. По правде говоря, реклама ему очень даже не повредила – этакий великомученик, изобиженный и отвергнутый своими земляками.
Слушайте, да он этим до конца дней может кормиться.
Почему ж я за него в драку полез, если его недолюбливаю?
Вопрос не из легких.
Дайте‑ка поразмыслить.
Ну что ж, думаю – потому, что он нам свой, а когда начинается схватка, тут решай, на чьей ты стороне. Сами‑то мы не прочь его отлупить, но чтоб его чужаки отлупили – черта с два. Вот вроде бы так, а?
Вообще‑то все дело яйца выеденного не стоит – если б только не Джули да Сара. Джули такая замечательная девушка. А что она пережила! Ведь это все равно как если б в нее нож всадили. И Сара – ни дать ни взять мышка, на которую вдруг яркий свет навели. И Моряк, бедняга, молчун этот. Ну, вы меня понимаете. Вот Славному деньку – тому что, он свою выгоду всегда найдет. Еще, пожалуй, и зазывной плакатик вывесит: «Заходите к нам в трактир – выпить у злодея из пьесы». А? Ну вы меня понимаете. Такие – они в накладе не останутся, а люди маленькие – вот кому достаются все колотушки.
Да – да, сходите, повидайте Джули. Ну, хотя бы просто для того, чтоб увидеть ее, поговорить с ней. Я что хочу сказать – даже не по этому делу, а просто чтобы увидеть славную девушку, такую славную, каких на свете мало.
МИСТЕР КЁЛАН МАЭНИ
М – М?
А – а.
А! Да. Я. Чинарика нет?
Чего? А, вон чего. Ага. М – м? Пьесу. Какую пьесу? A – а, ту пьесу. Ага. Вожу – чего? A – а. Ага. Вожу такси? А это чего? Не – е, грузовик.
A – а, ну да, ездил я з город. Ребята поезд упустили. Говорят – Кёлан, подбрось. Топать‑то далеко, м – м?
Чего случилось? Да встретил этого вашего Майкла-второго. Потеха. Идем, говорит, есть для тебя место. Ну, парень, во смех! Там – шикарные все. Не, сроду пьес не смотрел. Только эту. Свет гаснет. Штуковина эта, занавес – вверх. И кого же, думаете, я вижу, а? Смех! Мать честная, это ж Славный денек! Я говорю. Громко так. Люди говорят – ш – ш. Смех. Все – все – ш – ш. Ну, потеха! Прямо как дома, понимаете.
Я ж их знаю, говорю я тому парню. Кончай меня под ребра тыкать, говорит тот парень, не то дождешься у меня, сейчас выведут. Так и сказал. Во душевный народ, а?
Смотрю дальше. Ржу – не могу. Во всю глотку. Ну просто лопнуть. Вон они там, все как взаправду – и говорят точно так, и все. Я как заору, потом еще. Потеха же. Подходит дамочка, тощая такая: «Позвольте вас вывести». Позволяю. Посмотрел, будет.
Еду обратно, встречаю этих, с островов, рассказываю им. Вы теперь знаменитые, говорю. Майкл – второй вас в пьесу вставил. Бараны вы с Арана, ага, говорю. Подождите, сами увидите. Приезжаю домой – и к Славному деньку, рассказываю, как его в пьесе вывели. То же самое – Джули, и Саре, и Турлоку. Во, смех, говорю, животы надорвете, говорю. И рассказываю все – все. Тогда еще, кроме меня, – никто, понимаете.
Чего – чего говорите? «Ката» – чего? Катализатор? Вроде катапульты, что ли? Я чего – я им ничего не сделал, а они все – на меня орать. Ну, чего я сделал, скажите? Хотел, чтоб они тоже поржали. И все.
Почему драка такая – не знаю. Может, все под газом были – потому? А меня как отделали? Один как даст по башке канистрой, два галлона. Ага. Да еще моей же. У меня из машины взяли. А машину – набок. Это как – хорошо, по – вашему, а? Такого и турку не сделаешь.
Не, ничего я им не сделал.
Не, не знаю, из‑за чего все.
Сдурели они все, что ли?
Не знаю, чего на них накатило.
Хотел только, чтоб поржали, понимаете, будто сами пьесу смотрят. Чтоб ржали, за животы хватались.
Чудаки люди.
Ну, всё.
ДЖУЛИ
Хорошо. Если не возражаете – сходим на мол, прогуляемся. Солнышко светит, и можно уйти из трактира.
Вы любите запах портера?
Я – нет. А ведь, казалось бы, пора к нему привыкнуть. Может, кто другой и привык бы, а я никак. Очутиться бы где‑нибудь, где и цвета его черного вовек не увидишь!
Что‑то я растрещалась. Наверно, потому, что выбита из колеи.
Через какое‑то время все сгладится. С возрастом становишься мудрей и беды забываются легче. Так говорят старые люди.
Мне двадцать. Может, в мои годы все воспринимаешь острее. Больно? Нет. Свыкаешься, и довольно быстро.
Не люблю говорить о себе. Легко сказать – дополнить картину. Довольно странная картина – во всяком случае, для меня.
Нет, я мистера Макграта люблю. У него в жизни один интерес: погоня за деньгами и за властью – всей, какой только можно добиться здесь, в округе. Стоит это понять, и он уже не вызывает у вас неприязни. Чтобы он над кем‑нибудь сознательно учинил жестокость – такого не бывало. Просто, когда все помыслы направлены на что‑то одно, уже словно ничего вокруг и не видишь, можно ненароком оскорбить человека и даже не заметить.
Да, со мной он всегда обходился хорошо, и миссис Макграт тоже. А той работой, которую я у них делаю, мне с ними за их доброту все равно не расплатиться, я так считаю. Слова грубого от них не слышала и никогда ни единого намека на то, кто я на самом деле.
Нет, и вообще ни от кого. Трудно в это поверить, понимаю – ведь деревушка у нас маленькая, но только так оно и есть.
Конечно, я часто над этим раздумывала. Да и как не раздумывать. Они мне сказали, что я сирота и меня взяли из приюта. Вот и все, что мне было известно.
Остальное я сама досочиняла – в мечтах. Не хотелось бы. вам пересказывать эти мечтания. Очень уж они были романтические – про то, кто я на самом деле, и кто мой отец, и кто мать.
Но мне и в голову не приходило, что оба они все время были тут, у меня под носом.
Ну еот вам, полюбуйтесь на него.
Моряк. Увидел, что мы идем, тут же прыг в лодку, поднял парус и был таков, еще минута, и он уже в открытом море – боится, как бы я его не перехватила. Смешной какой, правда? Мне он всегда был симпатичен. Приду, бывало, сюда, сяду на тумбу, а он чинит сети, и я завожу с ним разговор. Говорила все больше я, но теперь, когда оглядываюсь назад, припоминаю: странно он как‑то на меня смотрел. Смотрит, бывало, так странно: словно преданный пес, если застигнешь его, когда он тащит цыпленка из открытого буфета.
Во – он он теперь где – точечка на горизонте, так что мы можем немножко тут посидеть. Ну, ничего. Когда‑нибудь я его изловлю и втолкую ему все, что надо.
А вот с Сарой – дело другое.
Тут очень все сложно.
Такое за один – два дня не наладится. И сколько на это нужно времени – не знаю.
А ведь до меня только теперь начинает доходить, что у меня есть настоящие отец и мать. Сперва, когда я узнала, вся как‑то одеревенела. А сейчас прихожу в себя, и иной раз у меня даже дух захватывает от радости.
Жаль только, что пришло это слишком поздно. Обычно в моем возрасте уже покидают отчий дом – заводят свою семью, уезжают куда‑нибудь на заработки, а я только – только его обретаю.
Насчет пьесы?
Что вам сказать, меня она не удивила. Я Майкла знаю. Очень даже хорошо знаю. Мы с ним часто и подолгу бродили, подолгу разговаривали. Говорил все больше он, такой уж он есть. Из него прямо поток изливается. С ним интересно. Яркий человек.
Нет, то, что он так со мной поступил, не удивило меня, верней – не обидело. Понимаете, вот он такой. Он бы, конечно, пришел в ужас, если б услышал, но в чем‑то он очень схож с мистером Макгратом: у него тоже все помыслы направлены на одно. Ему бы только рассуждать о людях или писать о них. И он ничего с собой не может поделать. Да что там, как он родную мать в пьесе вывел – балаболка такая, трещотка, надоеда. Так мне Турлок говорил.
Турлок? Он хороший. Ногами по земле ходит, а голова – в облаках, хоть он скорее умрет, чем признается в этом. Майкл – второй подмечает все чудеса вокруг себя и дотошно так их разглядывает. А Турлок подмечает и любуется ими, вот в чем разница.
Майкл – второй – личность значительная, спору нет. Он может вас так вот, с ходу, покорить: примется с жаром набрасывать портреты, один другого ярче, две-три фразы – и человек весь перед вами. А как он умеет изображать людей! Вы бы поклялись, что перед вами тот самый человек, про кого он рассказывает.
Нравится ли он мне? Конечно, нравится. Хочет ли он на мне жениться? Да, хочет. А сейчас особенно – ему как‑то совестно: вдруг он причинил мне боль. Это с одной стороны, а с другой – вообразил себя этаким рыцарем, который скачет во весь опор на своем коне, спешит вызволить из беды прекрасную деву.
И вот тут меня просто смех разбирает.
Да оттого, что я никакой беды во всем этом не вижу, и потом, я собираюсь замуж за Турлока.
Нет, Турлок, само собой, ни о чем не догадывается. Вы же с ним говорили. Все вам, наверно, втолковывал, что я ему – вроде младшей сестренки. Преисполнен братских чувств, да? Но чувства у него ко мне совсем не братские. Старается себя в этом уверить, потому что он невысокого мнения и о себе самом, и о той жизни, какую ведет, но только она как раз по мне.
Знаю, его просто бесило, что в свободное время я все с Майклом да с Майклом, но ведь девушкам порою не обойтись без уловок! Иной раз я замечала, глаза у него прямо искры мечут, и не будь у него такой выдержки, избил бы он беднягу Майкла – второго до полусмерти.
Да, Майкл – второй, пожалуй, догадывается. Наверно, ему подсказывает чутье – ох, и злится же он на Турлока – чувствует, что я его немножечко в своих интересах использовала – чтобы раззадорить Турлока. А для таких вот, у кого твердая цель в жизни, – для них непереносима самая мысль, что кто‑то может их хоть немножко использовать для себя. Это бьет по их самолюбию. Ведь им везде и во всем непременно надо быть первыми. Потому‑то Майкл и вставил Турлока в пьесу, он там у него проделывает всякие пакости. Майклу не понять, что Турлок человек высокой души, такого булавочными уколами не проймешь.
Ну а теперь мне надо идти, не то мистер Макграт станет меня звать, а голос у него – как труба.
И потом – все равно, сколько бы я здесь ни просидела, у меня только и будет разговору, что о Турлоке, – мне кажется, он именно тот человек, какой мне нужен.
Ну, что я вам говорила? Ох и голосище у мистера Макграта! Даже здесь, на берегу, слышно.
Мне надо бежать.
МАЙКЛ – ВТОРОЙ
Форменные дикари, от каменного века ушли на какой‑нибудь шаг, ну два.
Вы только подумайте. В чем я повинен? Я же делаю честь своим деревенским. Всю жизнь стараюсь развивать их, учу понимать возвышенное, а эта история – она ли не свидетельство полного моего краха? Собственно, не моего, а их, потому что теперь ясно: они, в сущности, так ничего и не усвоили.
Судите сами. Вот как было дело. Я жил в большом городе. Меня высоко ценили люди культурные.
Правда, попадались среди них и злопыхатели, но, коль скоро ты решил вынести свой товар на рыночную площадь, будь готов к тому, что невежды станут закидывать тебя отбросами.
И тут я решаю вернуться домой. Я все‑таки льстил себя надеждой, что встретят меня хорошо, не обязательно с флагами и плакатами или же с местным оркестром – волынки и барабаны, – но, во всяком случае, устроят достойную встречу; как ни говори, ведь я привлек внимание публики к их захудалой деревеньке. Я же своими глазами видел: когда кто‑нибудь из их молодых людей становится священником и, приняв сан, приезжает домой, в его честь на холмах зажигают праздничные костры.
Хм, священник найдется всегда, а чтобы появился такой человек, как я, сколько должно смениться поколений. Да такого, как я, в этой деревушке теперь сотни лет не дождутся, а может, и вовсе никогда, если они и дальше будут коснеть в невежестве. Разве не так? Нет, это вовсе не самовосхваление. Последний такой был у них сто с лишним лет назад, так он имени своего не умел написать, просто рассказывал по – ирландски всякие предания. Вы меня поняли?
Так вот, приезжаю домой. Не стану скрывать, было у меня чувство некоторого удовлетворения: ну, что, мол, теперь убедились? Ведь я понимал, они думали – я просто лентяй, только и знаю, что подставлять пузо солнышку и ворон считать. Где им было понять, что, когда я вроде бы отлынивал от работы, я как раз с головой был погружен в работу, что в мозгу моем роятся мысли, которыми я когда‑нибудь заполню целые стопы белой бумаги, и все они будут справедливо этим гордиться?
Как вы уже знаете, была ярмарка, на лужайке толклись люди и скот, я вышел из машины и, когда услыхал: «Вот он! Вот он!», решил, что меня сейчас будут чествовать, но тут вдруг раздаются злобные вопли, все начинают размахивать палками и выкрикивают такие словечки, какие увидишь разве что на стенах общественной уборной где‑нибудь в городе.
Никогда прежде мои деревенские до такого не опускались.
Я ушам своим не верю! Продираюсь к дому под дикий галдеж и град ругательств – кто не знал, в чем дело, мог подумать, что это овация, – и что же я вижу: наш дом, можно сказать, осажден.
Кухня забита народом. Из всех деревенских моя мать единственная сохранила соображение. Поздоровалась со мной, расцеловала, и так у меня стало хорошо на душе. Она‑то все поняла! Но вот остальные…
Я даже не мог толком разобрать, из‑за чего весь крик.
Видимо, этот кретин Кёлан Маэни успел разнести по всей деревне самые гнусные небылицы о моей пьесе. Да и другие постарались. Я ушам своим не поверил. Подумать, я толкнул Сару Мэлони на самоубийство! Джули тоже вот – вот наложит на себя руки! Турлок О’Коннор собирается застрелить меня или подорвать динамитом!
И я им сказал: «Какие же вы тупицы! Неужели вы думаете, среди вас найдется хоть один человек, настолько яркий, чтобы вставить его в пьесу? Да таких нудных людишек, как вы, свет не видывал. Вздумай я вставить кого‑нибудь из вас в пьесу, это зрители наложили бы на себя руки – не вынесли б такой тощищи».
Это меня и точит: как могли они хоть на секунду усомниться в том, что действующие лица в моей пьесе – порождение моего блестящего ума, плод моей фантазии? Как посмели хотя бы подумать, что я вставлю в пьесу таких ничтожных людишек, как они?
Нет, это единственная деревня, которую я знаю по-настоящему. Допускаю, какое‑то сходство, возможно, и есть – там – сям, но ведь совпадения эти чисто случайные, просто из‑за того, что я подношу к жизни пресловутое зеркало.
Нет, действующие лица в моей пьесе вовсе не жители Билнехауэна. Да они к здешним типам никакого отношения не имеют. Они же полностью сотворены мною, взяты из головы. Я глубоко уязвлен: как могли они хоть на секунду подумать, будто мне недостает воображения и я вынужден что‑то заимствовать у них, этих скудоумных людишек.
Что я и выложил тому торгашу, Макграту, когда он ворвался к нам в дом и принялся бушевать. Так прямо ему и объявил: «Да' как это вы, брюхан разнесчастный, ростовщик вы этакий, как могли вы хоть на минуту подумать, что я вставлю вас в пьесу, – сказал я ему. – Посмотритесь‑ка в зеркало: ведь вы себя даже разглядеть не сумеете, такой вы тускляк. Вставь я такого вот, вроде вас, в пьесу, кто бы ее стал смотреть – разве что умалишенные, и то вряд ли».
Я пытался открыть ему глаза, но он просто осатанел. В ярости выскочил на улицу и, как мне потом рассказывали, взгромоздился на какой‑то прилавок и давай науськивать на меня весь этот пьяный сброд.
Так что, в сущности, все это – его рук дело. И ничего удивительного. У него же мозгов меньше, чем у блохи. А те, с островов, – известные драчуны и тупицы. Пожалуй, это единственное, что я и вправду взял из жизни, – про баранов с Арана.
Мы оглянуться не успели, как на дом обрушивается град камней. Вы поверили бы, что такое возможно – в наши‑то дни, в двадцатом веке! Сами понимаете, тысячу лет назад и то люди были цивилизованней и куда культурней, чем они.
Мать с отцом не хотели выпускать меня из дому, но не стану же я сносить такое. «Выйду к ним, – говорю я, – и доводами разума заставлю их замолчать. Это же просто скоты, не более того». И настоял на своем. Как им было удержать меня – разве что связать вожжами. Мужчина я или нет, как они думают?
Словом, я вышел – и прямо в людскую гущу. Смело на них пошел. Иду сквозь толпу, со всех сторон меня обдает их зловонное дыхание, портером и виски так и разит, а я забираюсь на тот самый прилавок, с которого только что разорялся этот торгаш Макграт. Его самого уже, конечно, след простыл, но я заметил: он подглядывает из своего окошка. Мало того, что подстрекатель, так еще и трус вдобавок.
«Что за безмозглый вы народ, – говорю я им. – Чем вы лучше тупых скотов, если вы жертвы собственной разнузданности и вас может сбить с толку даже такой боров, как ваш Макграт. Кому на руку вся эта свалка, как не ему, тому же Макграту, а? Сколько вашего серебра перекочевало сегодня в его кассу? Люди вы или нет? – спрашиваю. – Чем вы думаете? У вас что, вовсе мозгов нет? Как вы не понимаете, что я вам друг? Что когда‑нибудь, на старости лет, вы будете похваляться тем, что жили в тех же местах и в то нее время, что и Майкл Оуэн?»
Я б еще многое мог им сказать, но мне не дали. Ринулись все к прилавку, размахивают палками, ругань стоит чудовищная. Облепили меня со всех сторон.
И все‑таки я бы справился с ними сам, без посторонней помощи. Сам бы довел битву до конца. Одной только силой воли заставил бы их меня выслушать. Заставил бы, знаю, но мне не дали. Началась общая свалка – мерзость что такое. Что же мне оставалось – отошел в сторонку, гляжу на них и спрашиваю себя: неужели это мои земляки? Разве такими можно гордиться? Про таких разве скажешь с благодарным чувством: вот они, мои корни?
Потом эти, из Билнехауэна, пошли на тех, с островов. Вижу, отец с кем‑то схватился, мать размахивает чайником, обливает кого‑то кипятком, а эта громадина, Турлок О’Коннор, расшвыривает людей во все стороны, будто кули с картошкой.
А знаете, что я вам скажу? Совершенно уверен: для этих людей драка – удовольствие. Позабыли даже, из-за чего передрались, если и была какая‑нибудь причина, махнули на нее рукой. Позорное было зрелище. Сущий атавизм.
Я решил – пусть их, и ушел в горы, полежать на вереске, подумать.
И все‑таки Сары Мэлони в моей пьесе нет. Конечно, мне было известно про Джули. Но неужели вы хоть на минуту можете подумать, что в пьесе показана именно ее трагическая история? Что ж, вообще‑то такую историю показать можно, почему бы и нет? Каждый год в стране появляется на свет около двух тысяч внебрачных детей. Значит, у писателя вполне законное основание использовать этот материал. Но на мой взгляд, что тот незаконорожденный, что этот, – все едино. Важна лишь идея. Так что же, выходит, об этом вообще говорить нельзя – как бы кого‑нибудь не задеть ненароком? Но разве долг писателя не в том, чтобы изучать все стороны жизни, вскрывать, подобно хирургу, ее язвы, выставлять их на общее обозрение – для того, чтобы исцелить?
Интересуюсь ли я Джули? В плане романтическом интересуюсь? Чепуха. Вы же знаете, какой я избрал путь и чего намерен добиться. Так разве эта девушка мне пара? Согласен, она очень хороша собой, у нее острый ум, но я водил с ней компанию единственно ради того, чтобы отточить ее ум еще больше, развить ее интеллект. Уйму времени я потратил на эту девушку! Но с недавних пор замечаю – ее тянет к Турлоку О’Коннору. А вот тоже, знаете ли, любопытная особенность. Он очень рослый. И кое – кому, возможно, кажется красивым. Ну а что в нем еще может привлечь? Волосатая грудь, так я думаю. Просто кошмар какой‑то, что хорошеньких девушек тянет к таким вот гориллоподобным мужчинам.
Вы находите, у него тонкий ум? У Турлока О’Коннора?
Хм, рад слышать, что у него хоть какой‑то ум есть. Признаться, для меня это новость.
Здесь я все покончил. Нельзя же ожидать, чтобы такой человек, как я, поселился среди этих людишек. Серые, заурядные – сущий бурьян.
Разве я первый художник, которого извергло его окружение? Не хотят меня – ну и не надо. Потеряют на этом только они.
И пусть потом оплакивают эту потерю годами.
У меня сейчас набежало немного деньжат – гонорары. Могу поехать куда хочу. И уеду, поверьте. Я получаю от материнской родни письма из Америки, они там ценят меня. Пожалуй, туда я поеду. По крайней мере они понимают душу художника. Сумеют оценить талант и, что еще важнее, – вознаградить его.
Ну, словом, пожитки мои сложены. Я твердо намерен отрясти прах Билнехауэна со своих ног, и, если вы возвращаетесь в город, почему бы мне не поехать с вами, а? Я вижу, у вас там на улице машина. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?
Отговаривайтесь чем хотите, все равно, я еду с вами. Мать? В поле, наверно, – помогает отцу. Да нет, зачем ее дожидаться? Долгие проводы – лишние слезы. Я ей напишу. Она поймет.
Как это так – не поймет?
Ведь она мне мать!








