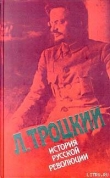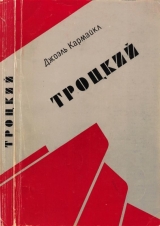
Текст книги "Троцкий"
Автор книги: Джоэль Кармайкл
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Глава девятая
МУЭДЗИН
К концу 1923 года звезда Троцкого начала клониться к закату. Смерть Ленина, наступившая в январе 1924 года, ускорила его падение; через год он был снят с должности наркомвоенмора.
В мае 1925 года он был назначен на несколько постов сразу – в Совете электрификации, в Научно-Техническом промышленном совете и в Комитете по концессиям.
Все эти занятия, как он говорил позднее, не имели ничего общего друг с другом; они были нарочно придуманы, чтобы «изолировать меня от партии, погрузить в рутину, поставить меня под особый контроль. Тем не менее я честно пытался работать в этих новых условиях. Приступив к работе в трех совершенно не знакомых мне организациях, я вскоре по уши погрузился в дела…»
Какие нелепые слова: «тем не менее…», «честно…»! То-то, должно быть, посмеивался Сталин: Троцкий снова в прилежных учениках.
Послушание не спасло Троцкого. Не успел он «по уши погрузиться» в незнакомую ему работу, как его вообще выбросили из партии; в январе 1928 года его с Натальей сослали на восток, а годом спустя – из Советского Союза.
Это произошло через пять лет после смерти Ленина.
Оглядываясь на карьеру Троцкого как вождя, нельзя не поразиться ее кратковременности.
Она началась в летние месяцы 1917 года, когда он вступил в большевистскую партию и вместе с Лениным повел ее на Октябрьский штурм; она закончилась вместе с гражданской войной; она продолжалась около трех лет.
Всё это время его использовали, так сказать, «для выполнения заданий» – при перевороте, в переговорах в Брест-Литовске, в гражданской войне, для реорганизации железнодорожного транспорта. Стоило этим заданиям исчерпаться, как стало очевидно, что у него нет корней в партии.
Блестяще выполнив всё, что ему поручалось, Троцкий обнаружил, что других дел для него нет – им положила конец накатившаяся волна советской эволюции, от которой у него не было защиты: ведь его надежды на Революцию так и не сбылись. Короче – он стал ненужен, и его прогнали.
Троцкий объяснял свое поражение тем, что Сталин, сам всего лишь «посредственность», был выражением отхода от революции, отхода, обусловленного отсталостью России, поражением революции в других местах и так далее; поскольку силы реакции были на подъеме, то силы, которые представлял Троцкий, вынуждены были временно сойти на нет.
После такого объяснения (правдоподобного лишь в его же собственных границах) было бы просто бестактно спрашивать, почему Троцкий не попытался как-то приостановить этот процесс – скажем, арестовать сталинскую камарилью, объединить своих сторонников, словом – как-то действовать.
И всё же этот бестактный вопрос следует задать – хотя бы потому, что в прошлом Троцкий действовал; в конце концов, разве не он (совместно с Лениным) своими действиями изменил ход истории?
Почему же теперь, в двадцатые годы, он не смог повернуть ее снова? Если Сталин и его камарилья были, всего лишь отступниками, почему Троцкий, этот истинный представитель революции, не сумел отсечь зловредный нарост?
Дело в том, что, всячески подчеркивая всемогущество социальных сил, Троцкий в действительности всецело верил в роль личности. Это яснее всего видно из его рассуждений о роли, сыгранной Лениным после апрельского возвращения в Россию и в захвате власти большевиками в октябре 17-го.
Разумеется, согласно классическому марксизму значение личности несравненно меньше социальных сил. Личности в лучшем случае заостряют или углубляют некоторые исторические тенденции; они могут лишь слегка изменить общее движение.
Троцкий целиком разделял эту точку зрения. Но именно поэтому русский переворот его озадачил; положим, кирпич упал бы Ленину на голову – что тогда?
В данном случае не приходилось сомневаться: все факты свидетельствовали о том, что, когда Ленин в апреле 1917 года вернулся в Россию, он обнаружил свою партию абсолютно не помышлявшей о захвате власти: даже ему при всем его огромном авторитете понадобились недели, чтобы убедить своих соратников. И даже убедив их, он еще должен был взять на себя решение выступить, что он и сделал в октябре; никто другой не мог бы этого сделать: никто другой не обладал таким сочетанием воли и авторитета.
Дело было не в самом перевороте, который оказался пустяковым, а в том, чтобы на него решиться; выходит, что именно личная инициатива сделала Ленина вершителем мировых судеб. Но как согласовать это с марксистской догмой о высшей, исключительной роли исторических законов?
Троцкий вынужден был признаться в своих сомнениях.
В «Дневнике» он пишет:
«Если бы меня не было в 1917 году в Петрограде, Октябрьская революция всё равно совершилась бы – при условии присутствия и руководства Ленина. Но если бы в Петрограде не было ни меня, ни Ленина, не было бы и Октябрьской революции; руководство большевистской партии не дало бы ей совершиться – в этом у меня нет никаких сомнений».
В «Истории» это тоже сказано, но с такой осторожностью, которую правильнее уже назвать уклончивостью. Троцкий ставит вопрос:
«Можно ли… со всей откровенностью сказать, что партия и без него нашла бы свою дорогу? Мы не можем взять на себя такую смелость. Растерянная и расколотая партия могла бы упустить революционную перспективу на многие годы…»
Пользуясь изворотливостью диалектики, Троцкий ухитряется тут высказать два совершенно противоположных мнения одновременно. С одной стороны, «Ленин не доверял Центральному Комитету» и был действительно «не так уж неправ в своем недоверии»; с другой – «Ленин не выступал против партии извне, а был полным воплощением ее воли».
Это противоречит хорошо известному факту разногласий партии с Лениным даже по общему вопросу захвата власти и тому еще более известному факту, что буквально накануне переворота двое ленинских прихлебал, Зиновьев и Каменев, выступили против всей затеи, а остальные члены Политбюро пошли на дело только под напором ленинской самоуверенности.
Откровенное признание Троцкого, что без Ленина «растерянная и расколотая партия могла бы упустить революционную перспективу на многие годы», в сущности, опровергает марксистскую догму. Ведь ситуация – штука капризная, и «многие годы» могли обернуться вечностью. Правоверный марксист, разумеется, мог бы продолжать лелеять мечту о революции, – но почему обязательно в России?
Вот почему Троцкий спешит залатать зияющую дыру риторическими лоскутками: с одной стороны, Ленин не был «демиургом революционного процесса» (что тогда осталось бы от марксизма?!), он всего лишь звено – но, конечно, «великое» звено – в цепи «объективных исторических факторов». А с другой стороны, без него все пошло бы совершенно иначе!
Всё это, однако, вполне укладывается в привычную для Троцкого схему противопоставления чудотворных возможностей марксизма и плачевных результатов, реально достигнутых бесчисленными марксистами. Когда-то, накануне 1917 года, немецкие социал-демократы поразили его своим нереволюционным толкованием подлинного марксизма; сейчас он точно так же был загипнотизирован контрастом между идеальным большевизмом и никудышными рядовыми большевиками.
«Ленин так неизмеримо превосходил даже своих ближайших учеников, что они чувствовали себя раз и навсегда свободными от необходимости самим решать теоретические и тактические задачи. Оказавшись в критический момент без него, они обнаруживали поразительную беспомощность. Так было осенью 1905 года. Так было и весной 1917-го».
Короче, все большевистские лидеры сами по себе – за исключением Ленина! – были неустойчивы и ненадежны. Зиновьев капризен и ничтожен; Каменев ничем не лучше; Сталин примитивен и груб, ограничен, в сущности – туп, в лучшем случае – «посредственность».
И тем не менее эти ничтожества могли «воспрепятствовать» Октябрьской революции! И в то же время они были вождями замечательной большевистской партии!
Троцкий перепрыгивает через этот логический провал, обращаясь через головы «учеников» к «массам», к «рядовым членам партии», которые, дескать, «угадывали правильную линию поведения куда лучше, чем их так называемые вожди, когда эти вожди были предоставлены сами себе».
Точно так же он вынужден подчеркивать ведущую (по крайней мере – в потенции) роль личности, в то же время тщательно обходя вопрос в потенциальных возможностях собственной личности в процессе эволюции аппарата.
Пересказывая, к примеру, свой разговор с Лениным о пугающем росте бюрократизма и прекрасно понимая, что речь идет о громадном социальном явлении, Троцкий, однако, считает, что «в тот момент Ленин, несомненно, мог произвести перегруппировку в намеченном направлении».
Здесь Троцкий, по сути, предполагает, что, будь он жив, Ленин с его широким кругозором, зорким предвидением и моральной чистотой сумел бы в одиночку предотвратить всю эволюцию советского аппарата.
«(Наше с Лениным) совместное выступление против ЦК без всякого сомнения увенчалось бы победой. Более того, я нисколько не сомневаюсь, что, выступи я в духе «союза Ленина и Троцкого» против сталинской бюрократии, я одержал бы победу, даже если бы Ленин не принимал непосредственного участия в этой борьбе».
Но, сказав это, он тут же, однако, делает реверанс в сторону марксизма, когда, обсуждая «надежность» такой победы, напоминает о необходимости «учесть множество объективных факторов в стране. Важен был не сам Сталин, а те силы, которые он, сам того не сознавая, выражал».
И после этого он заявляет: «Однако в 1922–1923 годах можно было еще захватить командные посты с помощью открытого наступления на быстро формировавшуюся фракцию националистических узурпаторов аппарата, незаконных наследников Октября, эпигонов большевизма».
«Незаконные», «узурпаторы», «эпигоны» – как странно звучат эти слова в контексте безжалостного марксистского анализа; ведь он сам только что говорил, что в любом случае «главным препятствием было состояние Ленина».
В тех ли, в других ли выражениях, Троцкий приписывает Ленину исключительную роль: точно так же, как Ленин был необходим для захвата власти, так на стадии возникновения бюрократии он был необходим, чтобы парализовать влияние Сталина. «Объективными процессами» тогда еще и не пахло!
Если принять, что допущения Троцкого обоснованы и Ленин действительно был необходим для захвата власти и предотвращения сталинизма, то это означает, что и сам Троцкий своими личными действиями мог изменить ход истории. Тогда сам собой напрашивается вопрос: а что, если бы Троцкий тоже…?
И вот тут, при анализе ответа на столь частый вопрос: «Как случилось, что вы потеряли власть?» – начинает сказываться его характер?
Чтобы объяснить потерю власти, нужно прежде всего объяснить, почему он оказался совершенно неспособным организовать собственную фракцию.
Дружеская характеристика Луначарского проливает некоторый свет на эту особенность:
«Троцкому не хватало способности создать не то что партию, но даже маленькую группу. У него практически не было сторонников: ему мешала исключительная очерченность его собственной личности. Если он и пользовался влиянием в партии, то только благодаря своим личным качествам. Чудовищная авторитарность, своего рода неспособность или нежелание быть хотя бы заботливым и внимательным к людям, отсутствие той привлекательности, которая свойственна была Ленину, обрекали Троцкого на известную изоляцию».
Эта изоляция была обусловлена теми чертами характера, в которых Троцкий не хотел признаваться даже самому себе. Вот характерный пример его отчужденности: старый приятель нашел его одиноко сидящим в кафе (это было вскоре после выхода из тюрьмы, на исходе Июльских дней):
«Я симпатизировал ему. Мы были так близки в прошлом. Я подошел, но тут же ощутил какую-то стену отчужденности, которая нас разделяла. В коридоре я по-приятельски обратился к нему и полушутливо, полусерьезно начал его распекать; вместо того, чтобы ответить мне в том же духе, он вдруг заговорил точно на митинге и стал громко ораторствовать. Я обиделся… и мы больше никогда не встречались».
Макс Истмен описывает появление Троцкого на одной из веселых, разгульных, шумных, пьяных вечеринок в Кремле в начале 20-х годов:
«Троцкий бродил среди этих ветеранов революции, лидером которых он всё еще был, с видом падшего ангела – как всегда, безукоризненно одетый, с новым сверкающим портфелем под мышкой, с приготовленной для такого случая снисходительной улыбкой секретаря молодежной христианской лиги на лице – и не мог выдавить из себя ни одного живого слова… Он напомнил мне маленького лорда Фаунтлероя».
Точное впечатление!
А вот рассказ самого Троцкого о тех же вечеринках:
«Если я не принимал участия в развлечениях, которые становились всё более обычными для нового правящего слоя, то не по каким-то этическим соображениям, а просто потому, что не хотел обрекать себя на пытку самой чудовищной скукой. Все эти светские визиты, усердное посещение балета, коллективные попойки с их сплетнями об отсутствующих нисколько меня не привлекали. Новая верхушка ощущала, что я не ее поля ягода. Она и не пыталась вовлечь меня. Вот почему при моем появлении все подобные разговоры обрывались и люди расходились, ощущая некоторое замешательство и враждебность ко мне. Это и означало, если угодно, что я начал терять власть».
Но, кроме этих бытовых наблюдений, Троцкий дает довольно четкий ответ на неприятный для него вопрос о причинах своего поражения; и ответ этот весьма примечателен. Он с предельной точностью выявляет два фактора, которые сделали это поражение неизбежным: с одной стороны, то объективное обстоятельство, что у него не было собственной фракции; с другой – его субъективные качества: неуверенность в себе плюс некая театральная сверхчувствительность к тому, как он выглядит со стороны:
«Всякий мой поступок мог быть истолкован или, точнее – изображен, как мое личное стремление захватить место Ленина в партии и государстве. Я не мог думать об этом без содрогания… Неужели партия не способна понять, что это борьба Ленина и Троцкого за революцию, а не борьба Троцкого за место угасающего Ленина? В силу особого положения Ленина в партии неопределенность его личного состояния оборачивалась неопределенностью состояния всей партии. Эта временная ситуация затягивалась, что играло на руку эпигонам, ибо на время «междуцарствия» Сталин как генеральный секретарь, естественно, становился хозяином аппарата».
Все это сводится к утверждению, что бороться было невозможно, поскольку люди могли подумать, что ты действительно борешься! При неспособности Троцкого к интригам это действительно означало, что ни о какой борьбе не могло быть и речи и только объективные силы могли бы его спасти.
Тут сама фразеология звучит, как признание: его «самостоятельные действия могли были быть истолкованы, точнее – изображены…» Мы подходим здесь к самому существу его позиции; его слова подтверждают, что он мнил себя актером на публике, а не действующим лицом в партии. Вся его пассивность проистекала из твердой убежденности, что его единственный способ бороться состоит в том, чтобы доказывать, провозглашать, настаивать на своем праве считаться наследником Ленина.
Располагая фракцией и всеми возможностями фракционной борьбы, он мог бы попросту вести маневренную войну против других фракций – «эпигонов»! – и притом всеми возможными средствами. Сталин, например, ухитрялся казаться необычайно неуверенным в то самое время, когда концентрировал в своих руках беспрецедентно большую власть.
Все написанное Троцким об этом трагическом периоде его жизни говорит лишь о том, что делали другие; сам он был так предельно изолирован, так выбит из колеи, что описать сталинскую победу способен лишь в пассивной форме: вот что они со мной сделали, эти бандиты!
Наиболее поразительной эта пассивность кажется, пожалуй, именно тогда, когда он рассуждает о необходимости конкретных действий: заметив, что Зиновьеву и Каменеву (с которыми он позднее вступил в довольно вялый союз) недоставало «крохотной детали, именуемой характером», он говорит, что «десятки раз твердил им: «Мы должны поставить перед собой далеко идущие цели, мы обязаны готовиться к длительной, серьезной борьбе».
Сам подбор этих слов, их мнимая дальновидность, равно как и люди, к которым они были обращены, – всё свидетельствует о том, что представление Троцкого о «длительной, серьезной борьбе» сводилось к тому, чтобы – ждать!
Ждать, что со временем что-то изменится…
Сама мысль об использовании силы была, видимо, органически неприятна ему – примечательно его упоминание об этом, относящееся к послеоктябрьским дням:
«Захват власти поставил передо мной вопрос о работе в правительстве – раньше я никогда об этом не думал. Вопреки опыту 1905 года мне никогда раньше не приходило в голову связывать размышления о будущем с вопросом о власти. С ранних лет, точнее – с юности, я мечтал стать писателем. Позднее я подчинил свою литературную деятельность – как, впрочем, и всякую другую, – требованиям революции. Передо мной всегда стоял вопрос о захвате партией власти. Десятки и сотни раз мне приходилось писать о задачах революционного правительства. Но вопрос о моем личном участии в нем никогда не приходил мне в голову. Поэтому события застигли меня врасплох. После восстания я попытался остаться в стороне от правительственной деятельности и предложил себя в руководители партийной печати… После 25 октября я ощутил какую-то пустоту. Я чувствовал себя, как хирург после тяжелой и опасной операции – мне хотелось вымыть руки, снять халат и отдохнуть».
Похоже, что это сквозной мотив его биографии:
«Стремление к научным занятиям никогда не покидало меня, и много раз в жизни мне казалось, что только революция не дает мне заняться систематической учебой».
Талант абстрагирования соединялся в Троцком с огромной энергией. С подростковых лет завороженный марксизмом, поднятый ввысь мощным толчком, который направил эту энергию к внеличным, если можно так выразиться, целям, он обнаружил исключительную предприимчивость. Его целью стало осуществление Идеи, – в чем заодно могли бы проявиться и его собственные таланты.
Виртуозные способности актера на демократической сцене создали ему известность во время революции 1905 года; но затем он снова вернулся на роль пассивного зрителя. С двадцать седьмого по тридцать седьмой год своей жизни – десятилетие, предшествовавшее Октябрю, – он был не более чем попутчиком движения, журналистом без определенной политической принадлежности.
В 1917 году обстановка снова позволила ему развернуться перед широкой публикой, но на сей раз в области активных действий. Теперь его виртуозность была поставлена на службу весьма специфическим целям. Возможность сыграть свою роль он получил благодаря тому, что вовремя вскочил на подножку ленинской брички.
В большевистской упряжке Троцкий сумел занять особое положение. Энергичность, самоотверженность, интеллигентность позволили ему совершить организационные чудеса – во время переворота, в гражданскую войну, при восстановлении транспорта в стране. В сущности, ему лучше всего удавалась роль исполнителя.
Вытесненный из партии, он снова оказался один на один со всем миром, на этот раз в такой ситуации, где пассивным зрителем оставаться не удавалось. Никакой демократической сцены больше не существовало: события и реакции на них формировались коллективом. Защищая себя и свои идеи, Троцкий не мог больше полагаться на абстрактные лозунги. Ему приходилось рекламировать самого себя.
Но так же, как рационализм – эта база его организационных способностей – мешал ему, по его словам, погрузиться в болото грубых, повседневных внутрипартийных политических дрязг, так особенности натуры – высокомерной, обособленной, замкнутой, благородной – исключали возможность его участия в паутине интриг, где любые союзы заключались лишь на основе взаимной выгоды.
Вопреки всем теоретическим рассуждениям Троцкого о волюнтаризме, его собственный волюнтаризм (как и волюнтаризм Ленина) состоял вовсе не в стремлении навязать свою волю, а в желании проявить свои таланты.
Указывая на амбиции Троцкого, как на причину своей ссоры с ним в 1915 году, Ленин принял манеру поведения за характер; есть амбиции и амбиции, и испытание властью обнажило различие между ними.
До 1917 года слава доставалась Троцкому без особых усилий с его стороны. Одаренный мальчик, надежда семьи, отцовская гордость, он без особого труда оправдывал возлагавшиеся на него ожидания. Сообразительность сделала его первым учеником в школе. Исключительная ораторская одаренность вкупе с образованностью принесли ему похвалы и награды в эмигрантской среде. Его таланты, казалось, исключали самую надобность в усилии воли.
Возможно, именно эта врожденная пассивность и привела его к переоценке значения чистых идей. Его «высокомерие» было в действительности способом воспарить над реальностью и необходимостью что-либо решать. Ведь идеи, в конце концов, могут осуществиться и сами собой!
Из-за своей неспособности принимать исходные решения Троцкий добивался успеха лишь там, где ему был задан заранее очерченный круг обязанностей, где для него была заранее приготовлена сцена. И он совершенно не умел сам себе создать ее – усилием собственной воли.
До 1917 года он всякий раз ухитрялся найти для себя готовую сцену: сначала демократическую арену революции 1905 года, затем приятную эмигрантскую среду, где его время было посвящено статьям, разговорам с друзьями и выступлениям перед случайной аудиторией. В 1917 году эту сцену ему предоставила организация, в которой он мог подчиняться указаниям руководителей. Склонность подчиняться руководству – вот, вероятно, психологическая причина другой его прославленной особенности: почти маниакальной педантичности и дотошности в мелочах, в связи с которой Ленин, видимо, и упомянул в завещании о чрезмерном увлечении Троцкого «административной стороной» дела.
Вопреки кажущейся безапелляционности, истинной причиной его замкнутости была робость. Выступая перед аудиторией в одиночку, под своими собственными знаменами, он чувствовал себя крайне неуверенно.
Он был неспособен создать собственную партию и руководить ею, неспособен использовать собственный авторитет.
Его поведение после смерти Ленина напоминает лихорадочное бездействие меньшевиков накануне Октябрьского переворота, когда они держали в своих руках власть и не могли решиться ее использовать. Насмешки Троцкого над их трусостью (в его «Истории русской революции») приобретают особую остроту, если их обратить против самого Троцкого.
Эту трусость особенно удивительно видеть у Троцкого, известного своей самоуверенностью и даже, как говорили, наглостью. Будь у него решимость использовать свой авторитет, он, энергичный и образованный человек, с его ораторским даром и личной привлекательностью, несомненно мог бы выдвинуться в лидеры.
Его приятельница Анжелика Балабанова с чисто женской проницательностью уловила этот парадокс: подчеркнув, что «Троцкий завоевал бы куда больше симпатий, если бы с самого начала боролся против подавления инакомыслия», она подытоживает: «Но для этого он был слишком слаб и слишком эгоистичен».
Не связана ли нерешительность Троцкого с его еврейским происхождением?
Ему самому такое предположение несомненно показалось бы возмутительным. Он утверждал, что стоит выше всяких национальных перегородок – обычная фраза всех евреев, которые в погоне за универсальными целями отреклись от своего прошлого.
Как и многие другие марксисты-евреи, он перегибал палку в этом отмежевании от национальных корней. Еще юношей он сформулировал свою принадлежность: когда в 23 года его попросили определить себя, он пылко отрицал любую национальную принадлежность – он «социал-демократ, вот и всё!» Спустя много лет, будучи одним из руководителей новой власти, он повторил в общем то же самое, когда отвечал еврейским просителям: «Я большевик, а не еврей!»
А поскольку, несмотря на это, он отчетливо сознавал себя евреем, это может означать лишь, что ему приходилось тем более энергично подавлять свои еврейские чувства. Высказывания Троцкого по этому вопросу чрезвычайно возвышенны:
«Даже в ранней юности… национальные предрассудки всегда порождали во мне одно лишь недоумение, которое порой переходило чуть не в отвращение. Марксистское образование углубило эти чувства и превратило их в подлинный интернационализм. Знакомство со многими странами, их языками и культурами сделало меня интернационалистом до мозга костей».
Типично «еврейская» позиция: все прочие люди страдают «национальными предрассудками», только евреи – в отличие от немецких, французских, английских и прочих интернационалистов – интернационалисты «абсолютные»!
Уже воспоминания о детстве демонстрируют полнейшее неприятие Троцким круга родительских интересов. Столь же однозначно он не принимал и самих родителей.
Не было для него существа «более отвратительного, чем обыватель, охваченный жаждой первичного накопления». В его подчеркнутом пренебрежении к деньгам, в презрении к «буржуазным» ценностям, в бунте против родного языка и религиозного воспитания, в книжничестве, в жажде исчезновения собственного народа – во всем этом проступает вывернутый наизнанку старый Бронштейн. Этот последовательный отказ от корней, обозначенный модным словечком «отчуждение», нашел суммарное выражение в контрасте между глубоким провинциализмом отца и широким космополитизмом сына.
Объясняя несостоятельность Троцкого в области отношений с людьми его робостью и нерешительностью, мы вынуждены саму эту нерешительность считать результатом процесса становления его «Я».
В глубине души Троцкий не был способен на важнейший для зрелого человека тип действия – принятие ответственности. Он не ощущал себя лидером, потому что в собственном «я» не ощущал достаточно авторитетной опоры.
Небезынтересно отметить, что эрозия традиционного иудаизма, начавшаяся в еврейской общине восточной Европы под влиянием идей Французской революции, направила прежний религиозный пыл евреев в русло всемирно-реформаторских проектов. Характерное для Троцкого страстное неприятие своего провинциального (местечкового) прошлого, послужившее трамплином для его прыжка в стратосферу космических абстракций, было типично для многих его единоплеменников и современников. Отношение к марксизму, как к Священному Писанию, присущее русским и особенно русско-еврейским марксистам, было попросту новым способом выражения старой традиции и при всем своем секуляризме сохраняло в себе аромат многовековой набожности.
В силу этой комбинации дефектов, коренившихся в подсознательных свойствах личности, Троцкий не мог не участвовать в иконизации Ленина. При жизни Ленин был его единственной опорой в борьбе с натиском растущего аппарата; Троцкий надеялся, что и после смерти Ленин, воплощенный в «ленинском наследии», будет играть ту же роль.
В молодые годы Троцкий пытался защитить свое «Я» от давящего превосходства Ленина, но в конечном счете вынужден был признать этот факт и подчиниться. Казалось, он нашел способ примириться со своей ролью подчиненного – он играл ее искренне. В итоге он пришел к преклонению перед Лениным, которое – при всех отличиях – было аналогично разраставшемуся официальному ленинскому культу.
Нетрудно проследить подсознательную основу этого процесса: будучи всего на 9 лет старше, Ленин был главой партии, преданность которой декларировал теперь Троцкий, и одновременно главой государства, то есть «отцом» сразу в двух ипостасях по меньшей мере. Со смертью Ленина Троцкому было еще легче найти в нем ту «отцовскую поддержку», которую в сфере идей он находил в Марксе, но в которой он, запутавшийся в бюрократических джунглях, нуждался теперь более ощутимо. Вопрос, следовательно, состоит в том, действительно ли он преклонялся перед Лениным? Было ли это преклонение проникнуто характерной для Троцкого искренностью, что позволяло ему подсознательно оставаться честным с собой? Или то была всего лишь удобная маска?
Нельзя забывать, что, поскольку личного авторитета у него не было, Троцкий отчаянно нуждался в какой-либо иной психологической поддержке внутри партии. В послеоктябрьской сумятице Ленин вполне мог служить ему такой поддержкой – отсюда превращение Ленина в символ, удовлетворявший и психологическим, и стратегическим чаяниям Троцкого. Было поэтому естественно, что Троцкий иконизировал идею партии, равно как и свои отношения с умершим вождем. Это давало ему возможность гордо цитировать слова Ленина, охарактеризовавшего его как прекрасного большевика, как абсолютно правоверного большевика.
В «Моей жизни» Троцкий не щадит сил, чтобы показать свою всегдашнюю близость к Ленину. Он характеризует их взгляды во время первой мировой войны, чтобы доказать, что вопреки отсутствию прямых контактов они идейно тяготели друг к другу. Эту идейную близость он противопоставляет линии тогдашнего партийного руководства в Петрограде, подразумевая при этом Сталина. Эту линию Ленин круто изменил, когда в апреле вернулся в Россию.
Все это бесспорно; но, защищаясь идейной близостью с Лениным от обвинений в несуществующем троцкизме, Троцкий в то же время не находит нужным упомянуть, что и Ленин был в свое время против перманентной революции и принял ее только в апреле, в разгар схватки.
Троцкий мог защитить себя, только противопоставив ходившей о нем клевете свое поведение примерного ученика, который независимо пришел к тем же взглядам, что учитель. Он размахивал свидетельством о своем примерном поведении, выданным самим Лениным, который в критический момент сказал: «Большевизм привлекает к себе всё лучшее, что есть в близкой к нему социалистической мысли». Троцкий вопрошает: «Можно ли сомневаться, что Ленин имел при этом в виду прежде всего то, что сейчас называют историческим троцкизмом? Для Ленина троцкизм был не враждебным и чуждым течением социалистической мысли, а напротив – ближайшим к большевизму».
Слабость этой аргументации очевидна.
Прежде всего Троцкий тем самым признавал, что существует такая вещь, как троцкизм, и, значит, подтверждал главное, совершенно вымышленное обвинение Сталина. Во-вторых, он ссылался на авторитет Ленина, а поскольку власть и наследие Ленина принадлежали Сталину, то он тем самым взывал к чужой иконе.
И все это – после революции, превратившей большевиков во всемирную силу и организованной самим Троцким в соответствии с его собственными идеями!
Глупо было бы отрицать эти идеи и роль Троцкого в их реализации, и тем не менее ему самому приходилось принижать их значение. Все написанное им в изгнании звучит патетически: ему неприятно было напоминать партии о своих заслугах перед ней.