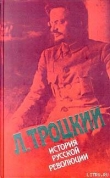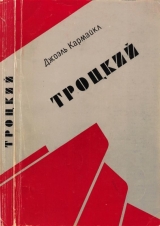
Текст книги "Троцкий"
Автор книги: Джоэль Кармайкл
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Джоэль Кармайкл
ТРОЦКИЙ

Глава первая
В ДЕТСКОЙ
Евреев помещиков в России было не так уж много; Давид Бронштейн был одним из них.
Весной 1879 года Бронштейн вместе с женой и маленькими детьми – Александром и Лизой – обосновался в своем недавно купленном имении Яновка. Той же осенью, 26 октября, у него родился еще один сын. Родители назвали его Лейб, по-русски – Лев. Позже, на других языках, его называли еще Лео или Леон.
Давид Бронштейн был человеком неграмотным; читать он научился только в старости, – очень хотел прочесть, что написал его знаменитый сын. Но сил и энергии ему было не занимать, – не зря ему удалось заполучить невесту из еврейской городской семьи, хоть городские были весьма невысокого мнения о евреях-земледельцах. Однажды впрягшись в повседневную рутину мелкопоместного хозяйства, молодая жена Давида Бронштейна так навсегда и осталась в принятой на себя роли. Сорок пять лет, не зная передышки, она трудилась бок о бок со своим честолюбивым мужем; четверо из восьми их детей умерли в младенчестве; зато один из оставшихся – Лев – прославился на весь мир.
В семь лет Льва отправили в хедер – начальную еврейскую школу – в маленькой еврейской колонии в Громоклее, в нескольких километрах от Яновки. Переговоры с учителем вела мать; за сколько-то рублей и сколько-то мешков муки маленького Льва зачислили в хедер и обязались обучать русскому языку, арифметике и Библии на иврите.
В сбивчивых воспоминаниях взрослого Троцкого о своей семье очень мало тепла и понимания. О брате и сестрах он едва упоминает; то, что он пишет о родителях, как правило, весьма туманно. Впрочем, сама эта уклончивость в определенном смысле многозначительна. Троцкий нигде не вспоминает «о каком-либо проявлении родительской любви, особенно во времена моего детства». Зато он подчеркивает «чувство товарищества в труде», характерное для родителей. По его воспоминаниям, «отец несомненно превосходил мать и умом, и характером… Он судил о людях по их манерам, одежде и привычкам, и суждения его всегда были правильны…»
О матери Троцкий упоминает без всяких эмоций. По его словам, она была полуграмотной – «Любила, громко шепча про себя слова, читать какие-то растрепанные романы, водя при этом сморщенным от стирки пальцем по строчкам. Зачастую она путала слова и застревала на какой-нибудь слишком сложной фразе».
Давид Бронштейн хозяйничал по старинке, – все расчеты он производил, как правило, в уме. Со временем, однако, разросшееся хозяйство потребовало систематического учета; вскоре Лев сменил старшего брата в должности счетовода отцовского имения. Он складывал цифры, записывал цены, подсчитывал, сколько причитается работникам, и подводил баланс расходов и доходов. Впоследствии он говорил, что именно тогда в нем впервые зашевелилось первое сочувствие к занятым в имении рабочим; он воочию увидел, что, как бы тяжело они ни трудились, они не могли дотянуть от сезона до сезона.
Чтение уводило мальчика все дальше и дальше от скучной яновской реальности в бескрайние просторы литературного вымысла. В его сознании всё больше расширялась пропасть между видимыми вещами и воображаемыми литературными конструкциями: по одну сторону была далекая жизнь литературных героев, по другую – грубая реальность «сельской вселенной». Постепенно он научился, конечно, кое-как стыковать эти миры; но и тогда, когда он уже навел, так сказать, мосты между жизнью и литературой, он все же продолжал чувствовать себя более уверенно в мире книг: жизнь, сконструированная в воображении, оставалась для него более «реальной», чем собственно реальная жизнь. Уже почти пятидесятилетним он писал:
«С ранних лет любовь к словам была неотъемлемой частью моего существа, иногда на время ослабевавшей, иногда усиливавшейся, но в целом из года в год растущей. Мир писателей, журналистов и художников всегда казался мне самым привлекательным из миров, доступ в который открыт только избранным… Хорошо написанная книга, в которой можно почерпнуть новые идеи, казалась и продолжает казаться мне самым ценным и значительным продуктом человеческой культуры».
Подобно тому, как «чтение открыло новую эру» в его жизни, так контакт с «древом познания» (в лице двоюродного брата, приехавшего из большого города) внезапно направил все интересы маленького Льва по новому руслу. Моисей Спенстер приехал в Яновку к родственникам лечиться от туберкулеза; полагали, что свежий деревенский воздух, молоко, яйца окажутся полезными для его здоровья. В деревенском кругу Спенстер был белой вороной. Он закончил русскую школу и был, как тогда говорили, «из пострадавших» – за политику, разумеется. Изгнанный из университета, он стал зарабатывать на жизнь писательством, не чураясь при этом никакой работы: писал книги для детей, переводил с греческого, сочинял школьные учебники. В глазах яновцев он был важной «шишкой» – занимал должность директора государственной школы для еврейских девочек.
Спенстер пробудил не только мысли, но и чувства своего маленького двоюродного братца. Он придал им, если можно так выразиться, политическую окраску. Во всяком случае позднее Лев вспоминал, как возмущался Спенстер, когда при нем наказывали какого-нибудь провинившегося пастуха. «Это отвратительно! – восклицал он. – И я начинал чувствовать, что это отвратительно. Не знаю, почувствовал ли бы я то же самое, если бы не он… Но как бы то ни было, он помог мне это почувствовать, и за одно это я остался ему на всю жизнь благодарен».
Весной следующего года, когда Льву исполнилось девять с половиной лет, его отправили в Одессу к Моисею и его молодой жене, чтобы продолжить образование.
Процентная норма помешала Льву поступить в классическую школу (гимназию); доморощенное сельское образование не позволило ему заработать те отметки, которые нужны были, чтобы преодолеть барьер пресловутых десяти процентов. Поэтому Спенстеры определили его в учебное заведение более практического склада – в реальное училище, основанное местными колонистами из немцев, которые предпочитали, чтобы их дети получили основательное современное воспитание, включающее языки, математику, естественные науки, а не всю эту гуманитарную «дребедень».
Маленький Лев не терял времени даром; в следующем учебном году он уже был первым в классе по математике и русскому языку. Книги, на которые он набросился с жадностью, и постоянная помощь Спенстера, позволили ему опередить своих соучеников и по русскому «сочинению»; позже эти его сочинения даже зачитывались вслух в классе.
В первый же свой приезд домой он был поражен контрастом между городом и деревней:
«Я направился домой в большом возбуждении. Сердце мое радостно билось. Мне хотелось всех повидать и всем показаться. На станции меня встретил отец; я показал ему свои пятерки и объяснил, что теперь я уже в первом классе и мне нужна школьная форма. Всю дорогу я безостановочно рассказывал о школе, о моем друге Косте, о театре… Отец слушал и не слушал, дремал и просыпался и время от времени насмешливо ухмылялся… Родительский дом показался мне ужасно маленьким, деревенский пшеничный хлеб – грязно-серым, вся обстановка – знакомой и одновременно совершенно чужой. Между мной теперешним и моим детством выросла какая-то стена… С этого первого приезда домой началось мое постепенное отчуждение от семьи, сначала неглубокое, по мелочам, но с годами – всё более серьезное и основательное».
В доме Спенстеров все были неверующие, кроме старухи-тетки, которая «не шла в счет»; тем не менее спустя некоторое время после своего приезда Лев возобновил занятия ивритом. Ему было тогда, должно быть, 11–12 лет. Отец хотел, чтобы он «знал Библию в оригинале; то была одна из его родительских амбиций». В течение нескольких месяцев Лев брал «частные уроки Библии у одного очень ученого старика». Учился он, видимо, неплохо; вскоре он уже мог обсуждать со своим учителем какие-то философские тонкости ивритского текста.
Кем был этот «ученый старик»? Раввином? Быть может, Лев готовился к своей Бар-Мицве (еврейскому обряду достижения зрелости)? В своих воспоминаниях Троцкий уклончив: его рассказ не объясняет, почему эти уроки неожиданно прервались. Что же всё-таки было: прошел он через Бар-Мицву или нет? Не здесь ли источник его разногласий с отцом, позже столь обострившихся в связи с выбором профессии?
Чтение, к которому Льва приохотил в Яновке его доброжелательный кузен, в Одессе стало запойным.
«Выбор книг был здесь куда шире, а к тому же всегда было внимательное и благожелательное руководство. Я набросился на книги с прожорливостью изголодавшегося, меня приходилось силой выгонять из дому на прогулки. Гуляя, я вновь и вновь переживал прочитанное и торопился домой – продолжать чтение. Пробуждающаяся жажда знания нашла выход в этом ненасытном поглощении печатных строк… Всё интересное и волнующее, радостное и печальное в моей последующей жизни уже содержалось в прочитанном мною тогда, – как намек, как обещание…»
Спенстер издавна мечтал стал издателем; как раз ко времени приезда Льва в Одессу он затеял собственное дело. Позднее его фирма стала крупнейшей на юге России. Для Льва это было самое близкое соприкосновение с реальным трудом: он рос, вовлеченный в каждодневные дела типографии, ему доводилось набирать и готовить оттиски, и печатать, и брошюровать готовую продукцию, а порой и держать корректуру. Так суждено было сложиться его пожизненной привязанности – самому набирать и разглядывать свеженабранный текст.
Читая, он теперь скользил по страницам в поисках наиболее удачных, острых или цветистых фраз, которые старался запомнить, чтобы потом поразить своих учителей. Он выискивал упоминания о всевозможных сложных материях (или, по крайней мере, таких, которые ему казались сложными). Он исхитрялся улавливать множество намеков из повседневных разговоров в доме Спенстеров. Комбинируя всё это, он создавал довольно впечатляющий набор слов, который мог сойти за свидетельство образованности. Впрочем, он немедленно приходил в смущение, когда сталкивался с реальностью.
Еще в Яновке кузен научил его «правильно» умываться и «правильно» держать стакан; в Одессе Спенстеры продолжили это обучение Льва светским манерам, личной гигиене, самодисциплине. В результате они сделали из него маленького педанта. Их неустанное стремление отучить его от грубых деревенских выражений на всю жизнь придало его речи оттенок чрезмерной отделанности.
Весьма показательно, что в свои школьные годы Лев не завязал ни одной дружбы. В сущности, он за всю свою жизнь мало с кем подружился: число людей, с которыми он был на короткой ноге, можно пересчитать по пальцам. По той же причине он не был особенно привязан и к своей семье, за исключением, разве что, младшей сестры – Ольги.
«Не только в мои школьные годы, но и позднее, в годы моей юности, природа и люди занимали в моей духовной жизни гораздо меньше места, чем книги и отвлеченные идеи. Вопреки моему деревенскому происхождению, я был нечувствителен к природе. Чуткость к ней и понимание ее я приобрел гораздо позднее, когда не только детство, но и юность моя уже были позади. Долгое время я воспринимал окружающих людей, как бледные тени, скользившие на периферии моего сознания. Я вглядывался только в себя и в книги в поисках своего «Я» и своего будущего».
В школьные годы он не проявлял никакого интереса к шумной, пестрой одесской жизни; так и не научился плавать; никогда не выходил в море на лодке, никогда не рыбачил, не удил. Одесса замыкалась для него тесным кругом: школа, библиотека, несколько театров, несколько знакомых семей. Не могло быть и речи о том, чтобы он участвовал в мальчишеских уличных драках; его воинственность находила выход в более возвышенной форме интеллектуального соперничества, – он предпочитал блистать в классе.
Он был учеником, примерным во всех отношениях:
«Я вставал рано поутру, торопливо выпивал стакан чаю, совал в карман завернутый в бумагу завтрак и мчался в школу, чтобы поспеть к утренней молитве. Я никогда не опаздывал. В классе я не баловался. Я внимательно слушал и тщательно всё записывал. Дома я усердно выполнял все задания. В положенный час я отправлялся спать, чтобы наутро опять торопливо проглотить стакан чаю и бежать в школу, боясь опоздать к молитве. Из класса в класс я переходил без всяких затруднений. Встречая кого-нибудь из учителей на улице, я кланялся со всем возможным почтением».
И всё же, вопреки своему образцовому поведению, он оказался однажды втянутым в школьную эскападу, которая едва не стоила ему аттестата. Один из учителей постоянно преследовал отстающего мальчика – частично по причине его немецкого происхождения. Школьные друзья несчастной жертвы, в том числе и Лев – впрочем, не питавшей к жертве особого расположения, – сговорились проучить мучителя: когда тот собрался выходить из класса, они начали жужжать, не открывая рта. С десяток «смутьянов» были пойманы на месте преступления; Лев не попался, но был выдан соучениками (среди которых, как ни странно, был и тот, из-за которого всё и произошло). Эта занятная история получила достойное завершение, когда один из учеников обрисовал Льва Бронштейна как «архисмутьяна», сообщив, что он предлагал потребовать от дирекции увольнения упомянутого учителя.
То смешение разнородных национальных элементов, которое господствовало в школе, да и во всей Одессе, полностью стерло всякие специфически еврейские переживания, которые могли возникнуть у Льва после 1881 года, когда евреи были сильно стеснены во всех правах. Сын зажиточного землевладельца, он «принадлежал скорее к классу привилегированных, нежели к классу угнетенных». В школе с ее процентной нормой он «всегда был во главе класса и не ощущал на себе никаких ограничений». В результате, проявления национальной дискриминации – хоть они и могли быть первопричиной его общего недовольства социальным порядком, – казались Льву, как он вспоминал позднее, чем-то несущественным в сравнении с другими проявлениями социальной несправедливости.
Социальные контрасты – вот что формировало его сознание: воспоминания рисуют нам облик молодого рационалиста, стремящегося к тому, что ему представляется логически доказуемой причинностью, и испытывающего высокомерное презрение ко всему алогичному. Вот почему в юные годы его выводило из себя, буквально бесило пренебрежение к общим законам, справедливость которых он уже успел понять. «Когда мне случалось слышать, как мальчики, изучавшие в школе физику и природоведение, продолжают на переменах повторять суеверные нелепости вроде «понедельник – день тяжелый»… я испытывал глубокое негодование».
Он приводит яркий пример такого неприятия науки невежеством: «В Яновке, когда местные жители потратили уйму времени даром, пытаясь измерить площадь участка неправильной формы, я применил геометрические формулы и за несколько минут вычислил ответ; они, однако, отказались поверить моему результату, потому что он, дескать, не совпадал с тем, что «на самом деле». Я принес свой учебник геометрии, я заклинал их именем науки, я был вне себя и ругался самыми последними словами, – всё напрасно. Люди отказывались видеть истину, и это приводило меня в отчаяние».
Когда он попытался доказать яновскому механику, что невозможно построить вечный двигатель, тот попросту высмеял его доказательства. «Книги – это одно, а жизнь – совсем другое», – твердил механик. Льву казалось непостижимым и невыносимым, что «люди могут отрицать бесспорную истину во имя привычных заблуждений и причудливых вымыслов».
Он писал:
«Сознание превосходства общего над частным, закона над отдельным случаем, теории над личным опытом сформировалось во мне очень рано и укреплялось с каждым годом. Позже это убеждение стало неотъемлемой частью моего литературного творчества и моей политической деятельности. Унылый эмпиризм, откровенное пресмыкательство перед фактами, иногда просто воображаемыми и зачастую ложно понимаемыми, всегда было мне ненавистно. Я стремился к общим законам, которые скрыты за единичными фактами. Это часто приводило, понятно, к поспешным и ошибочным обобщениям, особенно в юности, когда мои книжные познания и личный опыт были далеко не достаточны для таких обобщений. Но во всех без исключения областях я ощущал способность ориентироваться и действовать лишь тогда, когда держал в руках нить общего закона. Тот социально-революционный радикализм, который стал стержнем всей моей духовной жизни, вырос из этого интеллектуального неприятия мелочности, эмпирики, всего интеллектуально расплывчатого и теоретически не обобщенного».
Читая эти строки, написанные пятидесятилетним Троцким, но несомненно правдиво отражающие склад его юношеского ума, нельзя не поразиться почти религиозной страсти, которой пронизан этот отрывок, – особенно, слова: «Я стремился к законам, скрытым за единичными фактами».
Это пристрастие к системе сливалось, судя по воспоминаниям Троцкого, с яростной «ненавистью к существующим порядкам, к несправедливости, к деспотизму». Ненависть была порождена «условиями», столкновениями с «социальной несправедливостью», контактами с детьми, с прислугой и работниками в имении, разговорами в типографии, общей гуманной атмосферой дома Спенстеров, чтением – короче, всей «социальной атмосферой». В общем, он был «против». Его идеалом была либеральная Западная Европа с ее культурой, чувством равенства и братства, демократией и свободой слова.
Оглядываясь на себя-подростка, взрослый Троцкий вспоминал, что он был, конечно же, «самонадеян, раздражителен и наверняка труден для окружающих… Стоило ему оказаться первым в классе… как он почувствовал, что может быть лучше других… Он укорял себя за то, что не читал книг, о которых другие упоминали так небрежно… Всё это очень напоминало тщеславие. Мысль о том, что он должен быть лучше, выше и начитаннее остальных, непрерывно подхлестывала его…»
О таком о себе взрослому Троцкому легче было говорить в третьем лице.
В 1896 году Лев окончил последний, шестой, класс одесского реального училища. Это был конец его систематического образования, хотя ему еще предстояло окончить курс средней школы. Из шестнадцати лет своей жизни он провел девять – почти безвыездно – в Яновке и следующие семь – в Одессе, отправляясь на каникулы, как правило, домой. Школьные годы не произвели на него глубокого впечатления; ни учителя, ни соученики не привлекли его внимания, – разве что дали ему предчувствие его будущих «политических симпатий и антипатий». Он чувствовал, что вполне подготовлен к тому, чтобы вступить в «реальную жизнь».
Четверть века спустя одесское реальное училище Св. Павла было переименовано в школу имени Троцкого.
Глава вторая
НА ВОЛЕ
Годы юности Льва совпали с тем периодом, когда пытливая, образованная молодежь увлекалась идеями революции. В 1896 году в стране произошли крупные забастовки; политические платформы множились и всё более отходили друг от друга. Возникло несколько различных точек зрения на революцию. Некоторые из будущих сподвижников молодого Льва, сами в ту пору еще молодые люди – Ленин, Мартов, – находились в тюрьме; вскоре им предстояло быть высланными в Сибирь.
Отец хотел, чтобы сын стал инженером; споры о будущей карьере превратились в нескончаемые перебранки; старый Бронштейн, одинаково ярый враг и отвлеченной математики, и великой революции, руководствовался здравым смыслом и, подобно большинству обеспеченных евреев, был глубоко консервативен.
Как правило, евреи в России тех лет – а они составляли там самую большую еврейскую общину в истории, – были очень далеки от политики. Почти половина из них занималась мелочной торговлей; около 30 % были заняты в ремесле и промышленности; доля осевших на земле была ничтожной.
Но именно этот высокий процент ремесленников и рабочих с их характерной открытостью новым идеям означал, что евреям было суждено впитать эти идеи гораздо раньше, чем какой бы то ни было другой группе в России, – за исключением разве что самой русской интеллигенции с ее многочисленными корнями в аристократии предшествующего поколения. В результате оказалось, что именно еврейские ремесленники и рабочие дали начальный толчок к созданию массовой организации, первой не только в их среде, но и вообще среди русских рабочих и крестьян. По правде говоря, эта большая еврейская революционная организация, получившая название Бунд (Союз еврейских рабочих Польши и Литвы), была любопытным и едва ли не уникальным исключением из всех русских революционных организаций, ибо только среди ее руководителей действительно были хоть какие-то рабочие!
С другой стороны, еврейские интеллигенты и рабочие были, конечно, не типичны для России: большинство русских евреев того времени ощущали более или менее сильную привязанность к традиционному иудаизму.
Разумеется, эта традиция подверглась значительной эрозии за предшествующие десятилетия. Наполеоновские походы распространили идеи французской революции по всей Европе. Впервые за многие столетия в стенах еврейского гетто появились зияющие бреши: евреи Западной Европы стали уходить из гетто, а в Восточной Европе иудаизм, вынужденный – в обстановке еврейской замкнутости – питаться своими собственными соками, начал подвергаться заметному и разрушительному влиянию секулярных тенденций, проникавших с Запада, особенно из среды эмансипированного европейского еврейства.
Среди факторов, разрушавших прежнее еврейское единство, два главных – не считая тех или иных вариантов, связанных с революцией, – были порождены движением Просвещения, направленным на сохранение иудаизма посредством его модернизации, и сионизмом, ставившим своей целью возрождение еврейского государства в Палестине.
Семейству Бронштейнов все эти новые идеи были бесконечно чужды. Старик Бронштейн был обыкновенным землевладельцем, врожденный консерватизм которого лишь усиливался при мысли о том труде, который он вложил, чтобы выбиться в люди.
Лев приезжал в имение каждое лето, а иногда – еще и на Рождество или на Пасху. По мере того как он взрослел, становилось всё более очевидным, что в деревенской жизни он – белая ворона. Семь лет, проведенных со Спенстерами в Одессе, подошли к концу. Ему было шестнадцать с половиной лет.
Отец решил, что было бы благоразумно забрать сына из Одессы совсем и отправить его завершать образование в Николаев, где у Бронштейнов был свой оптовый агент по продаже зерна за границу и где Лев был бы все-таки поближе к дому.
И вот в конце лета 1896 года Лев приехал в Николаев. Он поселился в этом маленьком городке, и вскоре все воспоминания об одесских знакомствах выветрились из его памяти.
В жизни Льва это был критический год. Он снял комнату в доме, где оказалось много социалистически настроенной молодежи. Он был среди них самым молодым. Он с ходу попал в атмосферу жарких политических споров, исходной точкой которых неизменно был социализм в его народнической модификации.
Поначалу Лев был настроен враждебно ко всем этим новым теориям. Первые несколько месяцев он яростно отстаивал «свои собственные идеи», выискивая слабые места в народнических аргументах своих оппонентов.
Для него, прирожденного полемиста, было несомненно самым естественным выступать против любой достаточно обоснованной теории, которая не была его собственным изобретением. «Поначалу я решительно противился обсуждению всяких «социалистических утопий». Он играл роль этакого «разочарованного скептика, который через всё это уже прошел» и теперь выслушивает политические споры со скучающей миной «иронического превосходства».
Знакомая ситуация! Точно так же сопротивлялся святой Павел накануне своего обращения. Наверно, еще более подходящей параллелью может служить первоначальное отвращение молодого Маркса к социалистическим теориям своего времени.
Осенью того же года Лев в последний раз побывал в Яновке. Теперь уже он решительно расходился со своим отцом по всем общим вопросах. Временами между ними наступало краткое примирение, но всякий раз, когда – неизбежно – всплывал вопрос, что Лев собирается делать дальше, разражался очередной скандал. Происходили бурные сцены; все в доме ходили угнетенные, старшая сестра Лиза плакала, семья распадалась на глазах. Из Яновки Лев вернулся в Николаев, где вскоре с головой ушел в нескончаемые споры. На этот раз он быстро подчинился новой среде. Он продолжал посещать школу, где, невзирая на полное равнодушие к учебе, легко и непринужденно утвердил себя первым учеником. Все свободные часы он проводил, однако, в бесконечных беседах с товарищами и прогулках по улицам портового города.
Поздней осенью или в самом начале зимы один из соучеников, чех по национальности, ввел его в своеобразный дискуссионный клуб своего старшего брата.
Франц Швиговский в прошлом был рабочим; теперь он работал для себя в своем саду. Впервые Лев увидел «рабочего, который интересовался газетами, читал по-немецки и мог на равных участвовать в спорах между народниками и марксистами».
В саду Швиговского обсуждалось всё на свете, но преимущественно, конечно, вопросы политические, спектр которых в тогдашней России был неисчерпаем. Швиговский снабжал молодежь запрещенными книжками и заграничными газетами; страстный народник и антимарксист, он был неистощимым кладезем рассказов о Народной воле.
Неудивительно поэтому, что молодежь валом валила в его небольшую хижину в саду, где велись жаркие споры о будущем России: обречена ли она пройти через капитализм или может пойти собственным путем?
В этот семнадцатый год своей жизни Лев последовательно увлекался множеством идей. Он бросился было, очертя голову, в «Логику» Милля, но вынырнул из нее полузадохнувшись, так и не осилив даже половины. Затем он ухватился за Бентама и несколько месяцев был «несокрушимым бентамистом»: утилитаризм казался ему последним словом человеческой мысли.
Он искал «общей теории», какой-то «системы идей». Разумеется, в «системах», которые объясняют «всё», есть много привлекательного. Для подростка, вступающего в мир, вся сложность которого только сейчас начинает ему полностью открываться и, более того, явно приходит в противоречие со стройной конструкцией, вынесенной из школы, потребность в подобной системе может быть поистине мучительной.
Те же, в ком отказ от своей среды сочетается с врожденным предрасположением к абстрактным идеям, в которые они вносят собственные эмоции, особенно легко попадаются на крючок всевозможных «теорий» и особенно жадно стремятся включить свое новообретенное «Я» в рамки законченной интеллектуальной доктрины, которая обеспечит этому «Я» надежную поддержку.
Будучи рационалистом, молодой Лев страстно нуждался в такой доктрине. И в то же время он был враждебен марксизму – именно из-за его чрезмерного доктринерства!
Весь этот год его отношения с семьей только ухудшались. Во время одной из своих деловых поездок в Николаев старик Бронштейн обнаружил, что его сын проводит время, предназначенное для занятий, в разговорах с друзьями. Разыгралась бурная сцена; отец предъявил сыну ультиматум. В результате Лев покинул пансион, за который платил отец, и переселился к Швиговскому, который тем временем перешел в другой сад, побольше, где и дом был большой. Здесь Лев и еще пять других ребят создали коммуну.
Для мальчиков из среднего сословия коммунальная жизнь была волнующим новшеством. У них не было подходящей одежды, не было простыней, они питались похлебками, которые готовили из садовых растений, изредка подбавляя в них дешевое масло. Лев время от времени давал частные уроки; другие члены коммуны зарабатывали кто как мог. Они много читали; вечерние споры в доме были еще более шумными, чем прежде. «Мы носили синие блузы, круглые соломенные шляпы и черные палки. В городе думали, что мы принадлежим к какой-то таинственной секретной организации. Мы жадно и беспорядочно читали, с надеждой смотрели в будущее и были по-своему счастливы».
Тем не менее кое-какие дела постепенно они все-таки делали. Например, когда народнический журнал «Новое слово» был захвачен марксистами и стал первым легальным марксистским изданием в России, Лев не только направил в библиотеку жалобу, но и послал издателям «Русских новостей» гневное протестующее письмо, в котором информировал их, что «вся интеллигенция и рабочие массы возмущены произошедшей переменой». Он даже пытался убедить одного из своих друзей подписаться под этим протестом, на что тот с естественным удивлением возразил: «Какая интеллигенция, какие рабочие массы? У нас в лучшем случае будет три-четыре подписи и среди них – ни одной рабочей!» Лев ответил совершенно невозмутимо: «Ну и что? А мы напишем, что тысячи!»
По инициативе Швиговского молодые коммунары основали общество по распространению «полезных книг среди народа». Средства общества складывались из скудных пожертвований завсегдатаев дискуссий; вся его деятельность, несмотря на полную легальность распространяемой литературы, должна была сохраняться в секрете от полиции. Впрочем, николаевская полиция проявила себя весьма ленивой и столь же малоопытной, как и юные конспираторы.
Насущным вопросом было: среди кого распространять литературу? Для молодых народников из коммуны «народ», естественно, означал крестьянство, большинство русского населения. Но где найти крестьян, которые захотели бы читать брошюры? Или хотя бы вообще умели читать?
Наконец они нашли одного такого. Швиговский, поглощенный делами коммуны, вынужден был нанять себе в помощь садовника и подсобного рабочего. Члены коммуны с жадностью набросились на этих «истинных» представителей народа. И действительно, поскольку они работали в саду, их можно было рассматривать и как крестьян, и как рабочих одновременно, – чем не народ?! Особенно пригодным оказался старший из новых работников: он задавал бесконечные вопросы о методах организации, пропаганды, заговоров, конкретных действий, короче – о революции.
Подростки лезли из кожи вон, чтобы ответить на все вопросы «пролетарствующего крестьянина». Они читали все, что могло бы помочь воспитанию этого будущего революционера. «Революционер», как оказалось впоследствии, одновременно сотрудничал с полицией. Досье, заведенное на молодых бунтовщиков, быстро распухло. Кроме того, «революционер» и сам вел агитацию: вскоре его ученик тоже стал работать на полицию.
Григорий Зив, студент-медик, который повстречался со Львом на рождественских каникулах 1896 года и близко с ним сошелся, вспоминал, что уже в ту пору «дарования и таланты» выделяли его из окружающей среды.
Именно тогда, в нескончаемых спорах в саду, впервые обнаружилось красноречие Льва, его необычайный сарказм и темперамент спорщика. Говоря о его исключительном ораторском даровании и, в особенности, логичности, Зив отмечает, что жизнь в провинциальном городе никак не способствовала приобретению им достаточных знаний, в частности – по социальным вопросам. Тем не менее Лев ухитрялся побеждать в спорах людей, которые знали гораздо больше него. Никогда не затрудняя себя кропотливой работой по изучению фактов, он «всегда был самым страстным спорщиком среди завсегдатаев «салона» и участвовал буквально во всех дискуссиях», так и не прочитав ни одной книги – ни о народничестве, которое он с жаром отстаивал, ни о марксизме, который он с яростью ниспровергал. Блестящая память помогала ему схватывать буквально на лету аргументы своих единомышленников и противников, быстро усваивать то, что он считал необходимым, и затем ошеломлять слушателей искрометными импровизациями: «пробелы в знаниях были надежно прикрыты его несокрушимой логикой».