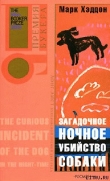Текст книги "Тяжкие повреждения"
Автор книги: Джоан Барфут
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Аликс вышла к воротам фермы, на которых не было никакой вывески, встретить Айлу.
– Пожалуйста, постарайся понять, мама, – сказала она. – Я понимаю, тебе все это кажется странным, но попытайся посмотреть на все моими глазами.
Она выглядела и взволнованной, и гордой, знакомя Айлу и Мастера Эмброуза, который ждал их в саду в своем коричневом одеянии с улыбкой на пухлом лице.
– К моему сожалению, – сказал он, – мы не приглашаем посторонних внутрь. Взыскание умиротворения требует сосредоточенности, мы не можем допустить, чтобы равновесие в нашей общине было как-либо нарушено.
Он, правда, предложил ей чаю. Она отказалась.
Айла сама не знала, зачем приехала, разве что посмотреть, что это за место. Вцепись она в глотку этому мужику, что ей больше всего и хотелось сделать, Аликс бы это не помогло.
– Сияние Звезд, – говорил этот самоуверенный ублюдок, – на самом деле не была в вашей жизни ребенком. У нее древний дух, ее душа прожила много жизней.
Да как он смеет?
Он продолжал в том же духе, Аликс не сводила с него широко раскрытых обожающих глаз. «Ах ты, злобная жаба», – хотелось сказать Айле и добавить что-то мелодраматическое, например: «Отпусти мою дочь». Но было очевидно, что Аликс не хочет, чтобы ее отпускали. Ее завлекли, очаровали, околдовали, привязали. И Айла молча уехала. Они с Аликс не обнялись на прощание. Аликс уклонилась от ее рук, сказав:
– Прости, но я чувствую, сколько в тебе гнева, а мне пока нельзя прикасаться к кому-то, кого не коснулось умиротворение. Мое умиротворение пока не так устойчиво.
Вот как.
Кому же не приятно услышать, что душа у него древняя и соответственно мудрая? Чудный комплимент (Айла это понимала), но от кого: от человека, который для начала мог выбрать любое имя и назвался Эмброузом. Это что-нибудь да говорит, но что, кроме того, что он органически не способен воспринимать красоту и благозвучие?
Первая поездка Айлы оказалась бессмысленной, следующие тоже ни к чему не привели. Непреклонная Аликс по-прежнему говорит о Мастере Эмброузе с той же интонацией, с какой, как полагает Айла, Джейми мог бы говорить о своих наркотиках, если бы в то время вообще мог говорить об этом лихорадочном и напряженном пристрастии. Еще Аликс рассуждает о вещах вроде яркого сияния внутреннего огня.
– Глубина, – изрекает она. – Чистое знание.
В глазах Мастера Эмброуза Аликс, судя по всему, видит освобождение и любовь, чистоту, и мир, и спасение. Айла видит хищную, острую жажду обладания юными душами. И не позволяет себе думать о жажде обладания юными телами.
Конечно, она судит необъективно. Так же необъективно, как о том, кто впервые дал Джейми наркотики.
И вот она, эта девушка, склонившаяся над поручнями кровати с улыбкой счастливой сумасшедшей. Вот она, Аликс, двадцати двух лет от роду, называет себя Сияние Звезд и забивает себе голову идиотским вероучением. Айла дала бы ей подзатыльник, дурочке. Схватила бы ее, трясла и обнимала до тех пор, пока эта потерянная, худая девочка не почувствовала, как ее мама, черт возьми, любит ее, – каждым нервом, каждой косточкой почувствовала. Господи!
Но ничего этого Айла сделать не может, поэтому она отвечает на счастливую улыбку дочери самой суровой гримасой, которую может состроить.
Видимо, это ей не удается или не оказывает должного воздействия.
– Давай я тебе расскажу, что было, – говорит Аликс. – Когда Лайл позвонил и все рассказал, – она поводит рукой над Айлой, объясняя, судя по всему, что хотела сказать этим «все», – я так расстроилась. Это было так ужасно.
Было и есть, и не столько для Аликс, сколько для Айлы. И все-таки Айлу это трогает. Она представляет, как Аликс плачет, хватается за голову, за эти чудесные волосы, показывая свое горе всем этим людям, у которых высшей добродетелью, похоже, считается не чувствовать ничего, что можно показать.
Она пытается придать лицу ласковое выражение, но дальше Аликс говорит:
– А потом я подумала: чему же меня научили поиски умиротворения, если меня так легко расстроить?
Легко! У Айлы, как ей кажется, от изумления открывается рот.
– И наверное, кто-то позвал Мастера Эмброуза. И он пришел! Он подошел ко мне. И заговорил со мной, отвел меня в сторону, а это такая честь.
Аликс сияет, ожидая, что Айла проникнется тем, насколько знаменательный это был момент. Ну еще бы. Для нее.
– И мы пошли в Комнату Покоя, только мы вдвоем.
Господи, что за комната покоя? И как тогда называются остальные комнаты в Корпусе Умиротворения?
– Он сел рядом со мной, взял меня за руки и велел сидеть тихо, сколько потребуется, вдыхать и выдыхать, считая вдохи. Это вообще-то упражнение для начинающих, и я почти расстроилась, что он меня считает начинающей, но я так и сделала, и это помогло. Я начала себя контролировать, как нас учили.
Что она пытается рассказать Айле? Может быть, это касается причин и взаимосвязей?
– Так мы сидели, я глубоко дышала и смотрела ему в глаза, а потом он кивнул и спросил меня, что случилось. И я ему сказала, что тебя парализовало, и еще, что ты не такая старая, чтобы просто лежать тут всю оставшуюся жизнь, всегда.
А что, есть какой-то возраст, когда это в порядке вещей?
Всю оставшуюся… об этом Айла даже думать не желает.
– Я сказала, что мне нужно ехать, потому что ты же моя мама.
О, радость!
– Вообще-то мы должны освобождаться от привязанностей, то есть мы должны быть привязаны ко всему в равной степени и в то же время от всего свободны. Я даже боялась, что он во мне разочаруется, но он был таким добрым. То есть он всегда добрый, но тут он просто кивнул, как будто все понимает. Что я все-таки привязана к тебе. Ты ведь моя мамочка.
В глазах у нее слезы. И у Айлы, как ни странно, тоже. Отчасти оттого, как по-детски Аликс произнесла «мамочка». Отчасти от ярости: эти люди, кто бы они ни были, и ее собственная дочь считают, что освобождение от привязанностей или равная привязанность ко всему и свобода от всего могут быть высшей целью, каким-то достижением.
Эта идея подразумевает такое строгое и стерильное воздержание и вместе с тем такую порочность, требует такого извращения и подавления чувств и мыслей, что она не может не калечить. Так вот как Мастер Эмброуз обращается со своими последователями: он впивается в них, когда их отчаявшиеся или тоскующие души ищут мира и покоя, а потом обрекает их на путь, на котором невозможно достичь мира и покоя.
Похоже, он забирает у них все; Айла не имеет в виду деньги.
Разве она не понимала этого раньше? Все, что Аликс рассказывала о Корпусе Умиротворения и Мастере Эмброузе, было камнем в огород Айлы. Потому что Аликс так говорила о любви, поддержкеи семье,как будто прежде ничего подобного не видела. Вот так удар.
Есть какой-то смысл, пусть и очень горький, в том, что она лежит здесь и все это выслушивает.
– Он сказал, что все понимает, и что иногда для того, чтобы понять, в чем суть привязанности, нужно действовать как она подсказывает. И мне можно поехать.
Можно? Ей нужно было разрешение этого жирного ублюдка?
Джейми говорит:
– Бога ради, Аликс, кому какое дело? Речь не о тебе и твоей чокнутой компании, речь о маме.
Когда-то они с Аликс были близки. Может быть, они и сейчас близки, как-то иначе, по-своему. Может быть, только брат – уж точно не мать – имеет право говорить такие вещи.
Аликс качает головой, и ее волосы слегка разлетаются.
– Сияние Звезд. И я знаю, что речь о маме. Из-за этого я здесь. И из-за того, что сказал Мастер Эмброуз, что, может быть, очень хорошо, что так случилось.
Мастер Эмброуз и Аликс снова лишают Айлу дара речи. Ей даже трудно дышать. Аппаратура неподалеку тоже начинает звучать иначе, что-то ускоряет ритм.
– Твою мать, – говорит Джейми.
– Нет, правда. Послушайте. Когда он заговорил, все стало так ясно. Конечно, я знала, что так и должно быть, я просто еще недостаточно продвинулась по этому пути, чтобы самой понять, но я стараюсь, я учусь понимать, потому что иногда нужно просто прислушаться к истине, чтобы в следующий раз узнать ее самому.
В следующий раз. Какая прелесть. К Айле возвращается способность дышать, аппаратура начинает звучать ритмичнее. Было ли это опасно? Нужно ли быть осторожнее? Например, спокойно считать вдохи, чтобы достичь умиротворения?
– Он сказал, что это не так ужасно. Что это на самом деле потрясающая возможность, и что печаль и беда на самом деле могут быть благословением. И что, если не можешь двигаться, можно углубиться в себя и открыть духовную истину. Потому что для того, чтобы ощутить внутренний огонь истинного умиротворения, нужно замереть и не шевелиться, а ты как раз не шевелишься, хотя я знаю, что ты этого не хотела, но так получилось, и можно этим воспользоваться, не относиться к этому как к увечью и беде, понять, что это не так ужасно, что это – потрясающая возможность.
Аликс задыхается. Ничего удивительного. Это было бы смешно, если бы Аликс была дочерью кого-то другого, если бы кто-то другой вырастил из нее дуру. Как себя чувствует сейчас мать этого парня, этого конопатого стрелка, Родди? Кажется ли ей тоже, что ее ребенок оказался кем-то другим, отдалился от нее, стал совсем чужим? Вот эти сжатые белые ручки, это напряженное лицо, такое родное, дочкина нежная кожа, которую Айла трогала, гладила, заклеивала пластырем и обожала, – и все это принадлежит кому-то незнакомому.
Даже у Мастера Эмброуза должна быть мать. Она, наверное, тоже не ожидала, что у сына возникнут такие странные, неодолимые потребности, которые приведут к такой странной, неодолимой власти. Но, возможно, ее это не удивило, возможно, именно она его всему научила. Может быть, она тоже своего рода проповедник. Сложно вообразить себе мать Мастера Эмброуза.
– Он говорит, что для того, чтобы загорелось пламя умиротворения, необходим покой, каким бы образом он ни был достигнут. В каком-то смысле тебе повезло больше, чем мне, потому что я все пытаюсь и пытаюсь, но не могу достичь нужного покоя. Так что, если ты посмотришь на все с этой точки зрения, это на самом деле благословение, потому что ты ничего не сделала, оно само к тебе пришло.
– Аликс, – говорит Джейми. Он тянет ее за руку пытаясь сдвинуть с места, отодвинуть прочь. – Бога ради.
– Нет, правда.
Она вырывает руку. Они боролись, когда были маленькими, то в гостиной, то на газоне перед домом, ему было, наверное, лет восемь, а ей пять, или девять и шесть, или десять и семь. А потом перестали. Возможно, более осознанно стали воспринимать свои тела, разницу между ними, неловкость.
– Это важно. То, что он говорит, так совершенно, так истинно. Я не слишком посвящена, чтобы правильно объяснить, но он сказал, что, если я запомню его слова, ведь он прошел этот путь много лет назад, так вот, если я запомню, я смогу помочь и тебе пройти этот путь. Правда, мам, возможно, тебе очень повезло. Быть озаренной, даже не прилагая усилий, – это удивительно.
Еще как. Все молчат. Потому что, считает Айла, в ответ на это явное, по-своему невинное безумие сказать нечего.
В конце концов Лайл, умница, делает шаг вперед. Он кладет большие руки с длинными и умелыми пальцами на плечи Аликс.
– По-моему, – почти ласково говорит он, – хватит. Маме нужно побольше отдыхать. Почему бы нам втроем не устроить перерыв, не пойти попить кофе?
Перерыв? Как будто Айла – это тяжкий труд, с которым нелегко справиться, вроде работы в угольной шахте или строительства железной дороги? Но к чему злиться на Лайла? Это не он тут распространялся о том, как ей повезло, что ее озарило пламя паралича.
Он и Джейми переглядываются за спиной Аликс. Они, наверное, по-своему близки. Айла иногда задумывается, не злится ли Джейми на Лайла, просто за то, что тот о нем столько знает? Тяжело, когда тебя не спасают, но, должно быть, когда спасают, тоже в чем-то нелегко.
– Но, – Аликс настаивает, – сейчас самое время.
– А по-моему, нет, – говорит Лайл и более решительно разворачивает ее к двери.
– Мама, – произносит Аликс.
Как знакомо: маленькая Аликс, споткнувшаяся о бордюрный камень, разбившая дивные круглые коленки; Аликс постарше, упавшая с велосипеда, оцарапавшая нежный локоток и ободравшая гладкую, ровную, витаминизированную ножку; Аликс-подросток с губами, искривленными от плача – из-за отца, из-за брата, из-за себя самой. Все эти Аликс, зовущие: «Мама».
Айла вдыхает и выдыхает, считает до десяти, еще и еще. Упражнение для начинающих? Вот и хорошо. За это нужно быть благодарной, нужно не забывать о том, что сантиметр туда, сантиметр сюда – и она могла бы сейчас не дышать? В самом деле удивительно.
– Иди с Лайлом, солнышко, – говорит она, – а я пока посчитаю вдохи. Это так хорошо, так успокаивает, правда?
Посмотрите на эту осторожную, робкую улыбку, на глаза, наполнившиеся надеждой, на благодарный трепет – такой щедрый отклик на такую малость. Как Аликс научилась надеяться, откуда узнала о тоске по чему-то?
Джейми снова склоняется к Айле:
– Прости. Я не знал, как ее остановить. Но жалко ее, да? Ты отдыхай и забудь всю эту хрень. Мы попозже придем.
Он прикасается (или делает вид, что прикасается) к ее правой руке или к чему-то, чего она не видит. Видимо, он еще не совсем понимает, как обстоит дело, что она на самом деле ничего не чувствует.
Как-то вечером, через много лет после Джеймса, уже встретив Лайла, но еще не выйдя за него замуж, когда они, Айла, Джейми и Аликс, жили одни в доме, который она для них сняла, после ужина, к которому дети едва притронулись, Айла загружала в посудомоечную машину тарелки, и вдруг Аликс с воем скатилась с лестницы, ворвалась на кухню, рухнула на стул и уронила голову на руки.
Потому что наткнулась в ванной на Джейми со шприцем в руке, с кровавым следом на том месте, куда он попытался уколоться, но не сумел. Айла возилась с посудой, а Джейми в это время возился со шприцем. Так мало она знала тогда, так далека была от всего. Айла услышала, как он заорал: «Пошла на хер отсюда!» – уронила тарелку. И вот уже Аликс рыдает за кухонным столом.
Разбитая тарелка, рыдающая Аликс, Джейми наверху, воткнувший иголку в вену. Айла позвонила Лайлу. Тогда, наверное, она впервые позвала его на помощь. И он пришел.
К рассвету он обзвонил кучу всяких мест, уложил Джейми на заднее сиденье своей машины и умчал в частный реабилитационный центр. К рассвету Аликс наконец заснула в своей комнате, а Айла упала на диван в гостиной. Может быть, не нужно было спать. Может быть, нужно было разбудить Аликс, говорить и дышать, говорить и дышать, чтобы стало яснее что к чему. Может быть, у нее уже вошло в привычку отключаться в критический момент, пережидать его во сне. Такое случилось не в первый раз.
– Люблю, – говорит Айла, когда они уходят. Она хочет сказать: всех троих.
Лайл оборачивается, показывает ей большой палец. Он добрый, он хороший, от этого невозможно отгородиться.
Ясно одно: Аликс и Джейми совсем не такие дети, о каких мечтают матери из среднего класса, разведенные и замужние, вице-президенты и совладельцы серьезных фирм. Если женщина вроде Айлы и ждет от детей чего-то исключительного, то предполагает, что они будут исключительно хороши и умны. Такие женщины ожидают устойчивости, талантов, безопасности, уверенности, того, что естественно получается в результате их добрых намерений и не слишком наказывает их за просчеты. И уж конечно, они не думают, что вырастят детей с такими дырами в душе, что в них можно засунуть кулак.
Дышать осторожно, дышать медленно, считать вдохи.
В палату влетает медсестра. Все, кто здесь работает, вечно торопятся. Везет им.
– Вот и хорошо, что вы одна. Нужно, чтобы вы отдыхали, я вам сейчас дам лекарство, и вы поспите, хорошо?
Как будто у женщины, которая не может ни двигаться, ни чувствовать, есть выбор.
По крайней мере, уколы безболезненны. Интересно, не это ли называется «посмотреть на вещи с другой стороны», со стороны, одобренной Аликс?
Как странно было бы верить во что-то, во что угодно, так, как Аликс. Какого прыжка в неизвестность это потребует? По работе Айла много читала о теории убеждения, но все это применимо только к методам воздействия, не к вере. Вера – это совсем другое. Вера ей непонятна.
Хорошо, а надежда?
А сон? Перед глазами у нее все плывет, странный, но приятный, уютный покой обволакивает все мысли, проносящиеся в ее голове. Может быть, и с Джейми было так в те ужасные годы. Только он худел и зверел, трясся и дрожал от яростного желания успокоиться. Айла, смутно понимающая, как легко от этого становится, как спокойно, насколько защищенным себя чувствуешь и насколько может не хотеться выходить из этого состояния, думает, что Джейми все же был отважен и очень силен, раз выбрался. Нужно будет не забыть спросить его об этом. Она думает: «Как хорошо, неудивительно, что ему это так нравилось», – и снова тихо соскальзывает в темноту.
Нужно выкручиваться
Родди поверить не может, что плакал. При людях. При мужчинах. Он не плакал с тех пор, как ему рассказали про маму, а тогда да, плакал, но в своей комнате, один. Отчасти о ней, о той, которую помнил, но больше о том, что теперь уже поздно: ей найти его, ему найти ее, поговорить, что-то сказать друг другу. Чтобы ей стало лучше, чтобы она была в конце концов счастлива. Все это уже невозможно.
Он, наверное, плакал, когда был маленький. Когда была мама, как все маленькие плачут. А потом иногда у бабушки, но больше из-за того, что, например, падал с велосипеда, как тогда, когда руку разбил, перелетев через бордюрный камень. Но не от расстройства. И уж конечно, не при мужчинах, вроде директора школы или даже Майка – особенно Майка. И не при отце. Отцу было бы неловко, он бы не знал, что делать, что сказать, увидев Родди в слезах.
А сейчас он так опозорился перед двумя полицейскими и адвокатом. Как ребенок. А он же, блин, вооруженный грабитель, это понимать надо!
«Я – вооруженный грабитель», – говорит он себе, думая, что это придаст ему сил и заставит распрямить спину; но вооруженный грабитель – это куда больше того, к чему он стремился. Вот об этом он тоже не думал раньше, о словах. Они такие серьезные и большие, а он и не серьезный, и не большой.
Майк – тот большой, и говорил он очень серьезно, когда все затевалось, да, но и Родди тогда тоже был серьезным, но ни один из них не думал, что все выйдет настолько серьезно. Родди здесь. Эта женщина. И Майк – где он?
– Твой дружок, – говорит старший полицейский, как будто слышит, что Родди думает, – и сообщник, если хочешь знать, тоже здесь, в другой комнате. И если хочешь знать, он говорит, что никакого отношения ко всему этому не имеет, что это все твоя идея, ты облажался. Что ты по этому поводу думаешь?
Родди думает: «Нет». И еще: «Неужели правда?»
Майк всегда был его другом. Как-то в прошлом году их даже подразнить решили из-за этого.
«Гомики», – сказал один парень, у которого отец служил в армии и только что вышел в отставку, и они переехали в город с военной базы. Тот парень вырос на военных базах. Может, поэтому стал таким кретином. С ними почти никто не связывался, особенно с Майком, такой он был здоровый, но и с Родди тоже, он, если надо, бил снизу, бил больно. Майк начал становиться просто здоровенным, не только высоким, но и крепким, лет в четырнадцать, а Родди к тому времени уже понял, что недостаток роста нужно восполнять быстротой, так что они были командой. Майк развернулся и врезал тому парню, четко, правой. А когда тот поднялся, Родди ударил его головой в живот. Родди и Майк стукнулись кулаками в воздухе. Потому что они никакие не гомики, они друзья, правильно этот полицейский сказал, хотя он и не то имел в виду.
Они друг за друга стеной. Они кое-что повидали.
Их обоих исключили. На две недели.
«Научись просто не обращать внимания на таких, – сказала бабушка. – Просто не отвечай. Уходи».
Но она не понимала, что говорит. Если он просто уйдет, его по стене размажут. Майк сказал, что его родители говорят, что запретят ему общаться с Родди. Можно подумать, сказал Майк, они могут решать, кому с кем общаться.
Когда они были помладше, все в их семьях только и говорили, как здорово, что они друзья, и как здорово, что им есть с кем общаться. Никто не был против, все думали, что все в порядке, что они друг за другом присмотрят, и никто не волновался, когда они уходили побродить, шатались по окрестным дорогам, собирали пивные бутылки, чтобы сдать, или даже находили мертвых птиц, которых потом приносили домой, копались в них, разрезали на части и хоронили.
Неужели Майк и правда сейчас здесь, в другой комнате, говорит полицейским, что он ни в чем не виноват, и это все Родди, а он тут ни при чем? Они так и планировали, что он как будто не имеет к этому отношения, но предполагалось, что он скажет, что это был незнакомый мужик с татуировкой на руке и родимым пятном на тыльной стороне ладони. Про Родди речи не должно было быть, с чего бы.
«Они будут меня проверять, – сказал Майк, и Родди кивнул. Они видели по телевизору и в кино, как это делается. – Но зацепить не смогут. Подозревать, наверное, будут какое-то время, но ничего не докажут».
А Родди и след простынет, деньги будут под кроватью, ружье – снова в сейфе в подвале.
«А то, что мы друзья? – спросил Родди. – Если они тебя будут проверять, может, и меня тоже?»
«Ну и что? Пускай проверяют. Приедут к тебе, а ты зеваешь, только встал».
Родди по сценарию полагалось, услышав, в чем дело, разволноваться, спрашивать про Майка, он же его друг: что с ним, не ранили его, как он, вообще?
«Ничего особенного. Просто говори то, что сказал бы, если бы все так и было на самом деле».
Это они тоже отрепетировали, Майк играл полицейского, Родди изображал, как он переживает за друга.
И все впустую. Теперь нужно выкручиваться, как сумеешь.
Они вместе дрались, плавали, катались на велосипедах, курили, ходили в кино и на танцы и, если на то пошло, воровали в магазинах. В основном CD. И книжки о природе, с фотографиями крохотных прекрасных существ, для Родди. Они и с другими общались, но на самом деле всегда были вдвоем. Может, это объяснялось тем, что Майк и его мать первыми пришли в гости, когда Родди с отцом переехали к бабушке, но это уже неважно. Просто так случилось. Случается, как теперь понимает Родди, и хорошее, и плохое.
Но в то, что Майк его сдал, поверить трудно.
Если Майк его сдал, это значит, никому верить нельзя. Тогда нужно будет ко всему относиться не так, как раньше.
Но это, наверное, в любом случае придется сделать.
Когда они с отцом переехали сюда и Майк с матерью пришли в гости, почему Майк захотел с ним дружить? Как это получилось, что у него до этого не было друзей? Родди знает, почему он захотел дружить с Майком, но почему и тот тоже?
– Ну так что ты по этому поводу думаешь? – спрашивает тот полицейский, который пониже. – Твой дружок говорит, что это все ты, а он в шоке, как и все остальные. Знаешь, что он говорит? Что он ужас как расстроен, потому что ты воспользовался тем, что он там работает. И ты знал про деньги, потому что он тебе об этом сам сказал, как другу. А еще, к слову, что это он отнял у тебя ружье. Что, кстати, подтверждает муж той женщины, в которую ты выстрелил.
Майк правда забрал ружье, Родди помнит, как он вынул его у него из рук. Но все было не так, как говорят полицейские, как будто они за него боролись, как будто Майк такой смелый.
Женщина, в которую ты выстрелил.
Вооруженный грабитель —это еще не все, есть слова похуже.
И ее глаза. И кровь.
И тот мужик в дверях. Наверное, ее муж, который видел, как Майк забрал ружье.
Даже завернувшись в колючее одеяло в красночерную полоску, которое они ему дали, он все равно дрожит.
То, что, по словам полицейских, сказал Майк, мог сказать только тот, кто изо всех сил старается выкрутиться: что Родди им воспользовался, что он в шоке, как все.
Они не отрепетировали, как быть, если их поймают, вот в чем беда. Они не думали, что их могут поймать. Но в том, чтобы Майку свалить все на Родди, как ни страшно, есть смысл. Потому что Родди уже в дерьме по уши, а Майк может спастись.
Он пожимает плечами и говорит:
– Ну и ладно.
Тот полицейский, что помоложе, багровеет и бьет кулаком по столу между ними. Родди и его адвокат вздрагивают. Он знает, как они поступают, плохой полицейский, хороший полицейский, все знают, но разве можно нарочно так покраснеть?
– Ах ты урод, что значит «ну и ладно»? Ты в таком дерьме, что и представить себе не можешь, так что никаких мне тут «ну и ладно», мразь.
– Эй, полегче, – говорит адвокат Родди. – Вы не имеете права так с ним разговаривать.
– Имею, мать его. Слушай, ты знаешь, сколько денег ты бы взял? – И он наклоняется над столом, кожа у него на шее натягивается, и жилка стучит, и вряд ли так бывает, если по-настоящему не разозлишься. – Триста сорок два доллара. Это, конечно, куча попкорна и пива для такого урода, но ты за триста сорок два доллара, которые так и не получил, застрелил человека. Что скажешь?
Майк говорил, там будет пара тысяч, может, и больше. В чем дело?
– Ты, наверное, не знал, но Дорин позвонила и велела другому продавцу отнести всю выручку, какая была в коробке, в банк. Не так, как в прошлом году, понял? Не так, как тебе рассказывал твой дружок, когда вы, двое, все это затевали?
Родди смотрит себе под ноги. Ему нечего сказать.
Конечно, полицейский зовет ее Дорин. В этом городе все друг друга знают. Может, из-за этого они с Майком так и хотели уехать: жить, чтобы никто не знал. Даже что-нибудь хорошее страшно достает. Какая-нибудь тетка останавливает его в магазине и говорит что-то вроде: «Бабушка говорит, ты хорошо учишься». Вот это их с Майком просто бесит. Или какой-нибудь мужик из ее церкви проходит мимо на улице и говорит: «Ну и прическа у тебя, парень».
Как будто кого-то касается, что Родди носит ежик, сквозь который кожа просвечивает. Крутая прическа. Клевая. Вроде с ним шутки плохи. Где-нибудь в другом месте люди посмотрят, но ничего не скажут, потому что не знают его. И папу его, и бабушку тоже не знают. Он будет свободен. И Майк тоже. Майк говорит, за ними в магазинах приглядывают, как будто знают, что они отвлекают внимание, когда воруют, но ничего не делают, просто смотрят.
Да и не брали они ничего большого и дорогого, ни одежды, ничего, что им и так покупают. Так, мелочи, и еще пару раз таскали деньги из кошельков, которые всякие богатые девчонки бросают в школе где попало. Немного денег, ничего страшного, хотя и хорошего, наверное, было бы мало, если бы их застукали. Но их не застукали, хотя директор их вызывал по одному и звонил родителям, сообщить, что могут быть проблемы. Родди сказал бабушке и отцу:
«Не знаю я, с чего они взяли, что это мы. Мистер Догерти вообще козел, и мы ему не нравимся, и те девчонки, у которых украли деньги, богатые, а мы нет, вот он и решил, что может нас обвинять».
Богатых никто не любит. Всем на них наплевать. Майк сказал:
«Непохоже, что им стало хуже», – имея в виду богатых девчонок и магазины тоже. Даже Дорин, не облажайся он, ничего бы не потеряла. «У нее же страховка, – сказал Майк. – Ей все вернут. Им это ничего не стоит».
Мелочи. Так, попробовать, вроде игры, ничего такого, ничего серьезного, хотя люди вроде бабушки Родди и отца отнеслись бы ко всему очень серьезно, если бы узнали. Если бы их поймали, бабушке было бы очень стыдно.
О господи, он опять забыл. Сидит здесь и все никак не поймет до конца, что произошло.
– Так, – говорит тот полицейский, что помоложе, проверяя диктофон и сурово глядя на Родди, как бы говоря: хватит дурака валять. – Теперь твоя очередь рассказывать. Начиная с полудня. Все, что ты делал. Шаг за шагом. Если съел бутерброд с ветчиной, и об этом рассказывай. В подробностях: с горчицей или без, с черным или белым хлебом. Понял? Каждый шаг.
Они предъявили ему обвинение? Есть какая-то разница между тем, просто тебя задержали или предъявили обвинение, но он не совсем знает, в чем она, и не совсем точно помнит, что ему говорили. Но для этого, он так думает, отец и нанял адвоката, чтобы он разбирался с такими вещами; только когда Родди на него смотрит, пытаясь получить какую-то подсказку, что делать, тот просто кивает. Серьезный дядька, немолодой, худой, не очень хорошо пострижен. Не выглядит он преуспевающим, вот что думает Родди.
И не выглядит счастливым оттого, что Родди – его клиент. Сочувствующим не выглядит. Непохоже, что Родди ему нравится и что ему вообще есть дело до того, что с ним будет.
Блин, если его адвокат так себя ведет, то что говорить об остальных? Он в этом городе больше на улицу выйти не сможет. Все будут шептаться, глазеть, будут как этот коп, который его уродом зовет. Бояться будут. Вооруженный грабитель.
Опять он забыл. Можно подумать, он будет и дальше ходить по городу. Это бабушке придется, и отцу тоже.
И Майку?
Ладно, он им расскажет шаг за шагом, что сегодня делал. Когда доберется до ужина, до того, как быстро поел, встал из-за стола и поднялся в свою комнату, что-нибудь придумает, как он попал из комнаты сразу в поле, не заходя в «Кафе Голди». Что они могут доказать?
Да, наверное, все. Кроме Майка есть тот мужик в дверях. Муж.
Может, и та женщина. Господи, он надеется, что и она.
Он озирается по сторонам, видит только мужчин, серые стены и яркий свет. Выхода нет, отсюда не выбраться. Трое мужчин напрягаются. Он чувствует, как их мышцы заполняют все больше места в комнате.
Думай. Думай.
Ладно, думает он, пошло бы оно.
Пошло бы оно, и все. Плевать, что там говорит Майк, нет никаких причин топить еще кого-то в дерьме, Родди не сволочь. Ему очень хочется не быть сволочью, что-то говорит ему, пусть только ему, что он не совсем сволочь.
Такое впечатление, что он не один, а два или три человека. Один смотрит на все как будто сверху, из угла или сбоку, другой сидит на жестком металлическом стуле посреди комнаты.
Тот, кому повезло, как они и планировали, спит у себя в комнате, ему тепло, хорошо и не страшно.
– Рассказывай, – говорит тот полицейский, что постарше.
– Ты не обязан, – говорит адвокат, хотя до этого кивал, похоже, он тоже хочет, чтобы Родди заговорил. Уже поздно. Ему, наверное, домой хочется.
Ладно, выхода нет. Молчать можно до посинения, это не поможет. И он начинает. Ему кажется, что он говорит понятно, по порядку рассказывает, что случилось за день, шаг за шагом. Он внимательно следит за тем, чтобы не сказать лишнего, но ему кажется, что это не он говорит. Его собственный голос слегка жужжит у него в ушах. Он как пьяный, только это страшнее. Пьяный, он обычно хочет спать, а сейчас он не спит, просто он разделился на того, кто говорит, и того, кто слушает. И еще одного, которого не поймали. Странно.