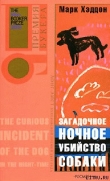Текст книги "Тяжкие повреждения"
Автор книги: Джоан Барфут
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Такие ему тоже снятся.
Но на сны нельзя полагаться. Здешний психолог, или врач, или кто она там, его к ней один раз отвели и еще нужно будет ходить, спрашивала про всякое в таком духе: хорошо ли он здесь спит, снится ли ему что-нибудь, и что. Можно подумать, он ей скажет. Можно подумать, он скажет, как пытается наяву удержать что-то, а во сне видит нечто совсем другое. Как касается во сне самыми кончиками пальцев чудесных круглых сосков этой Аликс, Сияния Звезд, и как просыпается в эти счастливые разы от чего-то вроде электричества.
Можно подумать, какой-то тетке, которой, может, уже за сорок, нужно такое рассказывать. Чтобы она ему наговорила какой-то ерунды, которая вообще тут ни к чему. Нет уж.
Она, в общем, ничего, нормальная, но, скорее всего, это у нее работа такая – казаться нормальной здешним ребятам. Он встретился с ней в свой первый полный день здесь, но потом не виделся, его привели в маленький серый кабинет, целую милю шли по серым коридорам. Она встала из-за серого железного стола, протянула руку и сказала:
– Я миссис Шоу. Здравствуй, Род, – начало было неплохое. – Я буду руководить твоим образованием и курсом терапии. То есть направлять тебя на занятия, сама преподавать не буду. Сама я занимаюсь индивидуальной и групповой терапией, так что мы так или иначе будем много времени проводить вместе.
Он пожал плечами. У нее был такой кожаный дипломат, с какими ходят в офис, она шмякнула его на стол и открыла с резким двойным щелчком. Набит битком, неряшливая куча бумаг. Она и сама такая – битком набитая и неряшливая, но у нее приятный негромкий голос и добрые глаза. Наверное, ей легко обо всем рассказывать, подумал он, хотя сам он и не станет.
Она сказала:
– Суда по тестам, которые ты заполнил, и по бумагам из школы, я бы с казала, что у тебя неплохой потенциал. Здесь это встречается чаще, чем ты, наверное, думаешь, но хорошо, когда есть с чего начать. Какое-то продуктивное направление работы. Будем надеяться, что когда ты отсюда уйдешь, у тебя все будет куда лучше, чем ты сам сейчас думаешь.
Ему нечего было на это сказать; хотя надежда не помешает. И еще ему понравилось, что она, как и Стэн в изоляторе, поняла, что он небезнадежен.
– У меня тут материалы, которые о тебе собирали для суда. Высказывания членов твоей семьи, некоторых учителей, друзей, кого-то из тех, на кого ты работал.
Он так удивился, что спросил:
– Вы обо мне с кем-то говорили?
– Нет, Род, я не говорила, другие – да. До вынесения приговора судье помогает инспектор, чтобы судья разобрался, как лучше поступить.
Так о нем разговаривали. Могли рассказывать что угодно, всякие подробности, истории, может, правду говорили, а может, и нет. Что теперь, любой может запросто влезть в его жизнь?
А Майка про него спрашивали? Смог бы Майк говорить про Родди и не проколоться, не выдать ничего? Родди отчаянно хотелось спросить у миссис Шоу: «Что сказал Майк?» И еще: «Чем он занимается? По-прежнему работает в „Кафе Голди“? Никто не замечал, что у него такой вид, как будто он что-то скрывает? Ему не было неловко, когда он обо мне говорил? Или грустно? Или он вообще ничего не сказал?»
Майка все это не мучает? Он не чувствует себя виновным? Ему не интересно, как дела у Родди, не интересно, почему Родди взялся его выгораживать?
Он вообще думает о той женщине?
Майк ничего не сказал, он не звонил, не писал и не приезжал, насколько Родди знает. Может, пытался. Может, не удалось.
Но интересоваться-то он должен. Только вот Родди не может быть в этом уверен, теперь уже нет. Их пути разошлись, его и Майка. В одно мгновение в «Кафе Голди».
– По-моему, – сказала миссис Шоу, – у тебя славная семья. Бабушка и отец о тебе очень хорошо говорят.
Да ну? Даже отец? Отец вообще что-то говорил?
– Вы с отцом переехали к бабушке, когда тебе сколько было, семь?
Он кивнул.
– Можешь мне рассказать, что ты помнишь из того, что было до тех пор? Что помнишь о том времени, когда был совсем маленьким? Где вы жили, какой у вас был дом? – она была готова слушать; но все-таки ее голубые глаза смотрели как-то расчетливо, как-то слишком широко она их раскрывала – это было неестественно.
Рассказывать было нечего. Мама смеялась, дурачилась, затевала игры и представления, а потом были дни, когда она даже не одевалась по утрам.
– Я не так много помню. Мы жили в доме, казалось, что он большой, но я же был совсем маленький, так что не знаю. Потом мы переехали.
– Когда заболела твоя мама.
Он резко покачал головой и сжал губы. Не было у него слов, чтобы говорить на эту тему с этой женщиной, вообще никаких. Она хотя бы поняла. Или хотя бы не стала на него давить. Вместо этого спросила:
– Как ты отнесся к переезду?
С ненавистью. С такой ненавистью, что орал, брыкался и сопротивлялся всю дорогу.
– Нормально, наверное. Бабушка у меня хорошая.
– Да, по-моему, тоже. А отец?
– Да, он тоже.
Она подождала пару секунд.
– Но все равно, это ведь была для тебя большая перемена: переезд в новый дом, в новом месте, без мамы. Тебе было очень сложно?
Нет, после того, как они с Майком стали дружить, а это произошло почти сразу. Тогда все стало не так плохо.
– Да нет.
И так далее: о школе, о друзьях, об увлечениях и привычках, сплошные вопросы, на которые он изо всех сил старался не ответить.
– Что тебя навело на мысль об ограблении?
Он пожал плечами.
– Не знаю. Может, по телику что-то.
В конце концов, она слегка улыбнулась, посмотрела на часы и сказала:
– Пока, я так думаю, хватит. Я скажу тебе, что, на мой взгляд, нам нужно сделать дальше: записать тебя поскорее в одну из групп, которые собираются раз в неделю. Все по очереди обсуждают свои вопросы и проблемы, то, что случается в жизни. Многим это очень полезно, хотя я поспорить готова, ты в данный момент не считаешь это слишком удачной идеей. Но ты сам удивишься тому, как часто люди узнают, что у них много общего с окружающими, и как может помочь обмен мнениями и жизненным опытом. Я для тебя это организую, а там посмотрим, как пойдет. Я в самом деле считаю, что тебе это окажется интересно. И конечно, это помогает получше узнать тех, кто с тобой рядом.
Ну нет, этого не будет. Обмен мнениями и жизненным опытом? Вот уж нет. Он, как выясняется, не из тех, кому выпадает еще один шанс. Он точно не может позволить, чтобы кто-то узнал, что ему снятся сны, тем более что он плакал. Тогда ему конец. Сидеть в кружок, болтать о семьях, преступлениях, мотивах и надеждах? О чувствах, как будто у них здесь могут быть чувства?
Бред.
Но может быть, она хочет, как лучше, может, она правда на что-то надеется.
Скорее, она решила, что он просто урод. Еще один из многих.
– Так. – И она наклонилась, протягивая ему листок бумаги с таблицей, сверху – день, сбоку – время. – Вот расписание твоих занятий. Наша задача, я полагаю, состоит в том, чтобы ты прослушал все курсы средней школы и получил аттестат к тому времени, когда освободишься. Это вполне возможно, если возьмешься за дело всерьез. Начинаешь завтра. Что ты об этом думаешь?
Непохоже, чтобы то, что он думает, имело какое-то значение, если все уже сделано, решено и завтра начинать.
– Нормально.
– Вот и хорошо. Получишь книги и все, что потребуется, когда придешь на занятия. Я думаю, ты прекрасно справишься. Как ни странно это звучит, здесь многое оказывается проще. Не сами предметы, учиться проще.
Это и в самом деле прозвучало странно, но выясняется, что она права. Он ходит на математику, историю и английский, и разница в том, что тут не прогуляешь, нет выбора. И еще тут одни пацаны, и в каждом классе есть охранник, не только учитель. Учителя приходят с воли. Им, наверное, даже нравится, что тут прогульщиков нет, и в классе все ведут себя тихо из-за охранников. Может, им не нравится, что тут многие или просто тупые, или притворяются, делают вид, что спят, или пялятся в потолок, или так сидят, даже карандаш в руки не берут. И еще, в отличие от той школы, тут столы и стулья привинчены к полу.
Занимаются они чуть больше трех часов в день. Кое-что он уже знает, учил раньше. Иногда приходится стараться, чтобы не выглядеть слишком умным. Он думает, что здесь это – не лучший способ привлечь к себе внимание.
И еще всех отправляют в наряды на хозяйственную работу, серьезную, не то что клумбу прополоть, живую изгородь постричь или пропылесосить там что-то. Он на этой неделе работает на кухне, на следующей – в прачечной. На кухне он чистит картошку, мешками, и морковку, целые горы. Жарко, воняет, кастрюли все время гремят, и голова ничем не занята, и пальцы болят, и он все время чувствует, как внимательно за ним наблюдают из-за того, что у него нож в руках. Он не понимает, почему все это делают заключенные, «клиенты», как их тут называют, почему просто не привезти все с воли. Может, считается, что это для дисциплины, или тренировки, или это наказание такое.
Он сомневается, что в прачечной будет легче или интереснее, а Дэррил говорит, что там еще жарче и пара больше.
Им с Дером одинаковые наряды в одно и то же время не достаются.
– Они хотят, чтобы все перемешивались и все время переходили с места на место, – говорит Дер. – Чтобы никаких тебе друзей-приятелей.
Дер считает, что он сам может выйти отсюда через одиннадцать месяцев; как раз перед Родди, если Родди тоже будет белым и пушистым. У Дера такая цель, «быть белым и пушистым, чтобы они были всем довольны», и он тут уже пару лет, так что должен знать, как себя вести. Родди почти сразу подсчитал, что Деру было всего четырнадцать, может, пятнадцать, когда он пырнул ножом того золотого мальчика. Сложно сказать, насколько он здесь изменился, но страшно подумать: такой пацан, ночью, на улице, и так у него все плохо, что он кого-то убил. Пацан, который подрос, стал сильнее и теперь сидит с Родди в одной камере.
С Родди они, правда, ладят, по крайней мере, он ему подсказал, что здесь и как, основные правила и порядки.
Но на третью ночь случилось нечто такое, что Родди стал думать, что, если Дэррил здесь изменится в лучшую сторону, это будет просто чудо. То же самое было и на следующую ночь, потом был перерыв, пока, наконец, вчера ночью, около полуночи, не пришел охранник, открывший камеру и велевший Деру вставать и идти с ним. В первый раз, когда Дер вернулся, у него носом шла кровь, во второй – он был весь скрюченный и хромал, а вчера его рвало, по большей части в унитаз.
Чего же удивляться, что Родди плохо спит и ему снятся страшные сны.
– Что случилось? – спросил он в первый раз и чуть язык не прикусил, так это было глупо, а может, и опасно. Да, но как он мог не спросить. – Может, сделать что? Хотя бы остановить кровь, которая обрызгала всю камеру, когда Дер покачал головой.
В общем, это не то, о чем сначала подумал Родди, чего он больше всего боялся, чего все больше всего боятся в тюрьме. Это скорее такая игра, как, в конце концов, объяснил Дэррил, но Родди она, судя по всему, не грозит, «разве что тебя решат использовать как приманку. Знаешь, как бойцовских собак тренируют на щенках, все в таком духе».
Ничего не скажешь, обидно, но обида лучше многого из того, что здесь может случиться.
Дер об этом говорил как о чем-то, что приходится делать, для него это еще одна вещь, с которой нужно смириться, этот полуночный боксерский клуб, организованный скучающими охранниками, которые, возможно, еще и деньжат получить хотят. Вытаскивают своих любимцев и тех, кого не любят. Устраивают нечто вроде ринга из столов и стульев в одной из комнат отдыха. Делают ставки, и начинается бой.
– Никаких правил, – объяснил Дер, – только убить себя не дай, и сам не убивай, а то объясняться потом.
Он сказал, это вроде уличной драки; бей, как умеешь, никаких перчаток, раундов или правил.
– Но все довольно сложно. Вот, например, ты – фаворит, а ты проигрываешь и оказываешься по уши в дерьме. Не сразу, позднее. И наверное, так же бывает, когда выигрываешь не вовремя, но со мной такого не было.
– И что, на следующий день никто не замечает, что ты весь избит?
– Блин, да все знают, может, только самые большие шишки не в курсе. И потом, падают же люди. Спотыкаются, врезаются во что-нибудь, как тут угадаешь? Думать можно все что хочешь, но наверняка не узнаешь.
Надо быть дебилом, чтобы задумываться о том, почему крутые парни с серьезным прошлым как Дэррил, например, – с этим мирятся. Здесь все дело во власти, тут все к ней сводится. У кого она есть, у кого нет. На самом верху – охранники, наделенные сиюминутной или незримой властью. Начальство, те самые «большие шишки», не в счет. И психологи тоже, это точно. Стоит посмотреть на то, как устроена власть, голая власть, без защитной окраски и лишней плоти, как она работает на самом деле.
– Я хорош, – сказал Дер, как будто он все равно гордится собой, хотя это не его выбор, – меня почти никто не может побить, – быстрая усмешка разбитыми губами. – По крайней мере, когда меня не должны побить.
– Так в этот раз должны были?
– Блин, нет, с чего ты взял? Ты бы видел того чувака.
Все это еще больше убеждает Родди в том, что самое лучшее – когда тебя не замечают. И еще у него такое чувство, что благодаря тому, что выбрали Дэррила, Родди не выберут; что он каким-то образом прячется или спрятан за востребованными кулаками Дера. Правило «по одному из камеры» звучит довольно глупо, вряд ли это правда, но кажется, что это возможно. Ему от этого довольно погано, но так спокойнее.
Кроме уроков и нарядов есть еще всякие кружки и занятия. Просто уму непостижимо, сколько острых предметов попадает в руки тех, кто как раз может захотеть ими воспользоваться. Не только ножи на кухне: Родди записался на резьбу по дереву и осваивает стамески и токарный станок. Пока он сделал только набор салатниц, одну большую и четыре маленьких, все они немножко кривоватые и грубые, но все равно вид у них самый настоящий, и пользоваться ими можно, хотя дерево сюда привозят в качестве благотворительного пожертвования, и уж явно не лучшего качества. Чувствовать, как оно превращается во что-то у него в руках и принимает форму – это круто.
Он отдал салатницы бабушке, пусть отвезет домой. Она приезжала как-то раз, одна, потому что отец был на работе. Поехала на автобусе, сказала, что попробует приезжать хотя бы раз в месяц, Может быть, два. Ей это будет нелегко. Она толстая, ей в автобусе наверняка жутко неудобно, не говоря уж об остальном. Она взяла салатницы и сказала:
– Родди, какая прелесть. У тебя хороший глаз. Я их буду беречь.
Он знает, что будет; ее легко чем-то таким растрогать.
Еще она сказала:
– С тобой тут все будет хорошо? Тебе не страшно?
– Да нет, тут все не так плохо, как кажется, честно.
Она нервничала; ей тут не место, и она, конечно, не знает, как себя вести. Немножко поболтала о людях в их городке, всяких мелких событиях, поддерживала разговор, как могла. Было не слишком интересно. Он не так хорошо знал тех, о ком она говорила, ее знакомых или знакомых отца. История про одну из ее подруг и грузовик, ехавший через город, была лучше всего. Родди понимает, что самые интересные городские новости – плохие, и все это слишком похоже на его собственную историю. Уж о ней-то разговоров было полно, и для нее и отца это было так унизительно, что тут говорить.
Перед тем как уйти, она стала качать головой, и глаза у нее наполнились слезами. Она казалась еще печальнее, чем мама в тех снах, на мосту.
– Ох, Родди, – сказала она, – как же это получилось. Я ведь даже не догадывалась, мне и во сне такое не могло присниться.
Он бы мог сказать, но не сказал, что на сны полагаться все равно не стоит. Ни фига эти сны не значат.
А сказал он вот что:
– Бабуль, ты не обязана приезжать, со мной все нормально. На автобусе так далеко ехать, а времени осталось уже не так много. У меня все в порядке.
– Родди, тебе обязательно нужно с кем-то видеться, и мне это нетрудно. Я по тебе скучаю, я хочу тебя повидать. И потом, папа меня привезет, он только в этот раз не смог. А в автобусе так интересно. Столько интересных людей.
Еще бы, подумал он: они же тоже сюда едут.
– Так что, на автобусе или на машине, но я скоро приеду еще, милый. Тебя не бросят, ты мне поверь. Ты – мое сокровище.
Что ответить, когда тебя называют сокровищем?Чем-то стоящим. Он покраснел и опустил глаза.
Сейчас он жалеет, что у него не хватило ума, или смелости или жестокости, или сострадания сказать ей чтобы она больше не приезжала. И отец тоже. И так сложно разобраться, как здесь жить, даже когда тебе не напоминают ни о чем и не дергают нежными чувствами. Он не может позволить себе утратить бдительность, он об этом постоянно помнит. Но – сокровище.Это его чуть не доконало, честное слово.
Полезная мать
На ночь ей дают что-то, чтобы она вырубилась, утром – успокоительное, делают с ее невидимым телом то одно, то другое, что-то поправляют, что-то колют, приходит анестезиолог, рассказать, как все будет, расспросить про аллергии – похоже, они ничего не знают о самом главном: времени совсем не остается. У них свои приоритеты, свои нужды, и в конце концов, а это может быть, концом, до ее приоритетов и нужд им нет дела. Как будто никто из них с ней не знаком. Они вновь заняты только ее костями, самым важным в ее теле.
Поэтому Лайлу, Мэдилейн, Джейми и Аликс разрешают к ней зайти неожиданно поздно. К тому времени Айле приходят в голову кое-какие мысли.
Ей очень не хватает возможности составить список, записать все, что нужно помнить. Сегодня это внезапно оказывается огромной потерей, даже среди потерь куда больших – как невозможность упасть в объятия Мэдилейн, обнять детей или обхватить ногами Лайла.
Что выбирают люди: когда горит дом, они спасают альбомы с фотографиями, а не драгоценности; когда приходит вражеская армия, они подтыкают юбки, хватают детей и бегут. Айла в первую очередь вспоминает, помимо надежды и ее неотвязного спутника – ужаса, о своем покинутом имуществе: вплоть до белья, старых трусов, мягких бюстгальтеров, которые она надевает, если вообще надевает, когда работает в саду или стрижет газон, – все это лежит там, в комоде в спальне, рядом с вещами получше, там, где она все это невинно и беспечно бросила, не думая, что спуск с крыльца может, в конце концов, привести к тому, что в ее вещах будут рыться чужие руки, разбирая и сортируя, что куда.
– Если ничего не выйдет, – говорит она Мэдилейн, – я хочу, чтобы ты просто вытряхнула все белье из ящика в мусорный мешок, ничего не разбирай и не откладывай. Но в шкафу у меня хорошие вещи, я думаю, их можно просто упаковать и отдать в какую-нибудь благотворительную организацию, сама выбери куда. Как ты думаешь, кому-нибудь может понадобиться ношеная обувь? Если да, то и ее тоже. Но убери все. Чтобы ничего не осталось. Времени на это уйдет немного, ты ведь не будешь возражать?
Разумеется, Мэдилейн возражает:
– Пожалуйста, даже не думай ни о чем таком. Все будет хорошо. Просто сосредоточься на том, как хорошо завтра все пройдет, как ты поправишься, и не беспокойся о мелочах.
О мелочах? Раньше Мэдилейн не говорила глупости. Возможно, она и сама это понимает. Она вздыхает, это плохо, но говорит:
– Хорошо. Если потребуется, я все сделаю, как ты хочешь, не сомневайся.
Любовь – это непросто. Становишься слишком уязвим, заботясь о том, чтобы другому было хорошо. Так приходит печаль.
И радость тоже.
– Спасибо. Мне будет легче, если я буду знать, что обо всем позаботятся. – Она обращается к Лайлу: – Мы никогда не говорили о похоронах. Я хочу, чтобы все пригодные органы – как думаешь, есть такие? – взяли на пересадку, а потом – кремация. Никаких открытых гробов, чтобы никто не пялил глаза.
Пока она говорит, не нужно думать, чьи это будут глаза, что они могут увидеть со своей, более гибкой, совсем иной точки зрения.
Если она замолчит, то от страха не сможет сказать ни слова.
Когда она смеется, все хмурятся. На этих людей не угодишь.
Аппаратура сбоку от нее, которой она не видит, начинает пыхтеть и тарахтеть в новом, убыстренном ритме. Длинные пальцы Лайла вытягиваются, прикасаются, медлят над ее лбом; но на мгновение, видя, как он поднимает руку, она подумала, что он ударит ее, и зажмурилась.
И это – безумие. Лайл в жизни ее не ударит, откуда это взялось? Увидел ли он страх, прежде чем ее глаза захлопнулись? Уловил ли сомнение?
– Никаких сомнений, – говорит она или хочет сказать.
Только он уже нарушил одно обещание. Перед ее внутренним взором встает картина: ее правая рука поднимается, замах, прямой удар, она сильно и быстро бьет Лайла в челюсть, так что у него голова откидывается. Возможно, поэтому она и хотела уклониться от его руки: страх, знание, что и он вне себя от ярости. И вообще, и в частности.
Будь это возможно, она защитила бы его, даже от самой себя, но это так же невозможно, как ему защитить ее от непредсказуемых поворотов, следующих за спуском с крыльца, за невинным входом в «Кафе Голди».
Какая тоска: по коже, по этому удивительному благу, и по всему, что оно может означать. Прикосновение – с головы до ног. Кости и плоть. Все так значимо. Все ушло.
Она вспоминает, хотя и не может этого помнить, как он был в другой больнице, рядом с другой женой, попавшей в беду. В этом воспоминании Лайл и Сандра, Сэнди, выпрямившись, сидят рядом, крепко держатся за руки, лица у них обоих вытянутые и напряженные, как на той знаменитой картине, где фермер стоит с вилами в руках рядом со своей серьезной, изможденной женой, плечом к плечу.
Насколько Айла знает, Лайлу к этому не привыкать.
– Я не знаю, сделал ты какие-нибудь распоряжения относительно собственного погребения или нет? (Он качает головой; похоже, у него нет слов.) Не думаю, что это действительно важно: где именно нас зароют. Сделай, как посчитаешь нужным, наверное, так.
Сложный вопрос этикета – решить, с какой женой тебя похоронят. Если бы лопнули его артерии, где бы она его положила?
Не с Сэнди. Хотя у его сыновей могло быть свое мнение. И потом, какая разница? Умер, значит, умер.
– Только посоветуйся с Джейми и Аликс. Но ты, конечно, и сам все знаешь. И еще, ты знаешь, что мое завещание в левом верхнем ящике стола из розового дерева, который стоит в спальне для гостей, да? По-моему, оно не устарело, разве что в том, что касается бизнеса. Оно не учитывает того, что Мартин, как мне кажется, собирается продать свою долю. Там сказано, что мою долю в агентстве следует предложить ему, а деньги вложить в трастовый фонд для Джейми и Аликс. С этим все, в общем, в порядке, но он скорее продаст, чем купит. Сделай все, как он захочет.
– Айла, пожалуйста, не волнуйся. Я все сделаю, как нужно, поверь, обещаю, – что ж, он выглядит вполне внушающим доверие. – И все будет хорошо, понимаешь? Ты выйдешь отсюда, все пройдет как по маслу.
Любопытное старомодное выражение, «как по маслу», правда? И по маслу – не всегда хорошо, разве нет? На нем может занести, можно поскользнуться.
– Будем надеяться. Но я должна быть уверена, что обо всем подумала. Уверена, через пару дней мы будем над этим смеяться.
Но она совсем не уверена и, сказав это вслух, снова пугает себя. Обещания и серьезные предсказания не приводят ни к чему хорошему, ими можно накликать несчастье.
– Просто все это как-то мрачновато, мам, – вступает Джейми. – В депрессию вгоняет.
– Меня нет. И к тому же, Бог свидетель, теперь моя очередь вгонять в депрессию.
Это вышло резче, чем она хотела. Это заставило всех замолчать, пока Лайл не сказал:
– Я знаю, что тебе нелегко, Айла. Но ты можешь рассчитывать на то, что мы сделаем для тебя все что угодно, все, что сможем. Ты же знаешь, любой из нас ради тебя на край света отправится.
Это приятно.
– Боюсь, что придется. Поскольку сама я, похоже, сделать этого не могу. – Она полагает, что это было смешно. – Эй, не бросайте меня, слышите? А то я тут внизу подыхаю.
– Позвать кого-нибудь? – взволнованно спрашивает Мэдилейн у Лайла.
– Нет! – выкрикивает Айла; а потом спокойнее и жестче: – Я знаю, всем будет легче, если меня вырубят, но мне это мало помогает. – И снова, произнеся это, она не чувствует уверенности. Ей почти кажется, что, когда она теряет связь с миром, что-то происходит, что-то, что она не может описать. И что оно делает с ней, тоже сказать не может.
Ей сорок девять лет, и скоро будет, а может быть, и не будет, пятьдесят. Когда-то она была рыжей, теперь ее волосы потемнели, поседели и стали грубее. У нее потрясающие ноги и сильные руки, но их кожа и мышцы усыхают. Она с ума сходила по худым и долговязым, но иное сумасшествие – проклятие, иное – благословение. Она блестяще делала свою работу, любит составлять списки и, бывало, гонялась да бегущими детьми с целью спасти их.
Она достаточно сообразительна, но как-то остановилась, озадаченная, перед чертой, которую провела мудрость.
Она терпелива, но не настолько.
И вот к чему все сводится: эти люди, эта сумма смятения и любви – единственное, за что она может ухватиться на этой планете. В любом случае, единственные, о ком она сейчас может думать, и кажется, что они – это и слишком много, и едва ли достаточно.
– И еще кое-что, что я хотела бы прояснить. Если я перенесу операцию, но возникнут какие-то другие осложнения, я хочу, чтобы вы все поняли, что я не хочу, чтобы меня подключали к чему-то, чтобы я просто продолжала дышать. Мы все знаем, что такое случается, поэтому на случай каких-то сомнений или споров, если такое случится со мной, говорю: просто отпустите меня. Обещаете?
У Лайла странно шевелятся губы, подергиваются и сжимаются, но это не от смеха, не как обычно. Возможно, он и через это тоже раньше уже проходил.
– Хорошо, – говорит он в конце концов, – мы понимаем. Ведь понимаем? – И смотрит на остальных.
Смелая речь; и его, и ее. И если она сомневается в своих словах, а она сомневается, то может ли она быть уверена в том, что сказал он? Она чувствует, как в горле у нее поднимается какой-то скомканный протест, отчаянное желание остаться на земле. Просто продолжать дышать, если все идет к этому.
Но в том, чтобы просто продолжать дышать, столько же неизвестности, тьмы и одиночества, как в смерти. И нужно быть смелой хоть в чем-то, нужно говорить всерьез. Только она и в этом сомневается. И надеется, что может положиться на Лайла, на то, что он сомневаться не станет.
Мэдилейн кладет худую твердую руку Айле на лоб: вселяет уверенность. Проверяет. Что-то вроде этого. Как когда Айла была маленькой и заболевала, и Мэдилейн проверяла, есть у нее жар, желая, чтобы она выздоровела поскорее.
– Тебе не о чем беспокоиться. Надеюсь, ты это знаешь.
Даже когда Мэдилейн лжет, голос у нее такой же твердый, как и рука.
Не странно ли, что думать о завтрашней гонке на полной скорости к темной, прочной стене по крайней мере проще, чем о – пожалуй, самое простое слово – «сложностях», которые ее ждут, если она останется жить? Если и так, человек может лишь до определенного момента управлять движением этих мыслей, а потом – тупик. Горе и паника завершаются сами по себе в тот же самый миг, что и жизнь, и это если и не совсем утешает, то все же устанавливает некие рамки.
Завтра. Возможно, завтра. Может ли это быть? Но ведь может.
Быть предметом скорби, утратой – это хорошо. Быть обузой, домашним инвалидом – нет.
Быть здоровой – вот что было бы чудесно.
Слишком широкий разброс возможностей, слишком они несопоставимы.
Аликс выступает вперед, в луче света ее волосы становятся нимбом:
– Именно от меня ты чего-нибудь хочешь, что мне сделать, мам?
Нет, ничего, если подумать, дети не разделяют общее бремя, освобождаются от заданий: как будто они и в самом деле дети.
– Потому что, если нет, то у меня есть план, если только ты не против. (Интонация у нее твердая, деловитая и – возможно ли? – нормальная.) – Я иду по магазинам. Так что в следующий раз, когда мы увидимся, я буду одета во все новое. Потом, наверное, напишу пару писем. В каком-то смысле – на счастье.
Если никто и не понимает, о чем она, Айла знает. И это изумительный подарок, никаких больше коричневых платьев, пропади они пропадом. Одно письмо, без сомнения, Мастеру Эмброузу. А другое, а о другом и думать не хочется. Но, возможно, это и в самом деле – на счастье.
– Тогда купи что-нибудь шикарное. И яркое, хорошо?
– Куплю. – У Аликс как-то странно напряжен подбородок, когда она склоняется над Айлой, чтобы мазнуть ее губами по лбу. – Еще увидимся, обязательно.
Она смотрит вниз еще одну последнюю, долгую секунду. А потом уходит.
Что ж, победа далась нелегко, но триумф есть триумф. Получите, Мастер Эмброуз.
В напряженной, недоуменной тишине, которую оставила после себя Аликс, Мэдилейн кладет руку на плечо Джейми, который намного выше ее. Ежится? Опирается? Сложно судить под этим углом. Сегодня она выглядит более отдохнувшей и гораздо более сильной.
– Я тут подумала, – говорит она Джейми, – вы с Лайлом не будете против, если мы с твоей мамой побудем наедине, всего несколько минут? Может быть, кофе выпьете?
Когда Лайл кивает, она смотрит на него с любовью, и когда они с Джейми уходят, усевшись на весьма востребованный стул возле постели Айлы, улыбается и говорит:
– Ну разве нам не повезло, нам обеим: мой Берт, твой Лайл. Такой удачный второй выбор.
Второй шанс.
– Но… – Мэдилейн делает глубокий вдох. – Вот что я тебе хотела сказать, хотя тебе это может показаться странным, но я почему-то не могу отогнать от себя эту мысль: я все думаю, не зря ли мы не воспитывали тебя в духе какой-нибудь веры, не жалеешь ли ты о том, что у тебя сейчас нет подобного утешения. (Она права, и это совершенно неожиданно; в этом есть даже что-то зловещее.) Если так, прости меня, но я просто не могла этого сделать. Все, что нужно знать, все истории мы тебе рассказали, я знаю, но это не та религия, ради которой люди ходят в церковь, не то, что чувствуешь сердцем. Ты прости меня, если тебе этого когда-нибудь не хватало. И сейчас я хотела бы уметь молиться.
Господи.
– Правда? Знаешь, это не слишком заряжает меня оптимизмом.
Айла хотела бы, чтобы Мэдилейн улыбнулась. Ей хотелось бы, чтобы был хотя бы слабый повод посмеяться. Все, что она получает, – это мимолетная улыбка, просто проблеск.
– Но нет, я не думаю, что религия что-нибудь изменила бы. Не для меня. Я редко об этом задумывалась.
О вере – да, о доверии, о надежде, даже о некоторых историях, но не о том, о чем говорит Мэдилейн.
– Хорошо. Тогда о том, о чем я действительно хотела сказать. Я могу не уметь молиться, но я с тобой, не думаю, что от этой ерунды что-то на самом деле зависит, – а теперь она рассержена!
– Ты знаешь, мам, если бы я собиралась помолиться или даже просто изо всех сил чего-то пожелать, сейчас я бы не знала, о чем просить. Понимаешь, о чем я?