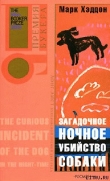Текст книги "Тяжкие повреждения"
Автор книги: Джоан Барфут
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Связаны, соединены
Врача, того молодого, темноволосого, который склонялся над ней, стоя по другую сторону кровати, напротив Лайла, судя по всему зовут Грант.
– Спасибо, доктор Грант, – говорит Лайл пресекающимся голосом, наверное, у двери, которой Айла не видит. – Я бы хотел, чтобы вы поговорили завтра с ее детьми. Когда вам будет удобно?
Милый Лайл. Знает, что для нее важно, и делает все, чтобы оно состоялось, заставляет его состояться. Она знает, хотя и не по личному опыту, что врачи очень загружены работой, а еще они не очень любят общаться с родственниками. Их можно понять. Она сама не так уж уверена в том, что хочет, чтобы Джейми и Аликс нависали над ней, внося еще большее разрушение в то, что и так странно, чудовищно разрушено. Но раз уж они – семья, полагается через все проходить вместе. Может быть, у них получится справиться, кто знает? Зависит, видимо, от того, с чем именно нужно справиться. Или от того, насколько им надоели беды и несчастья их беспокойных родителей.
Да, но теперь ведь ее очередь, разве нет?
По крайней мере, насколько она может судить, она не при смерти. Если Джейми и Аликс нет необходимости видеться с доктором Грантом до завтра, предполагается, что будет какое-то завтра, и есть о чем говорить. Ей хотелось бы знать, о чем именно. Не только Джейми и Аликс пребывают в неведении.
Ей хотелось бы, чтобы не было страшно; хотя бы не такстрашно.
Когда она произносит: «Лайл?» – это звучит отчетливо. Налицо явный прогресс, если, конечно, отчетливо оно звучит не только у нее в ушах, но и в комнате. Но если получилось, то следующее, что она сделает, это спустит ноги с кровати, встанет и уйдет отсюда.
Откуда уйдет? То есть это – явно больница, но где и какая? Лайл, наверное, вышел вместе с врачом. Ей из ее положения видна только матовая белизна, перемежающаяся хромированным металлом. Кремовые, в дырочку, плитки потолка. Неподалеку что-то мерно пыхтит, точно великан дышит. Еще у нее чем-то заткнуты ноздри, хотя дышать оно не мешает, и это непонятно. А настоящий ужас в том, что она не чувствует своего тела, кроме головы. Она не может понять, что это за состояние, когда ничего не ощущаешь, даже боли. Если она лежит, а она явно лежит, должно быть ощущение распластанности, ощущение того, на что опираются спина, плечи, ноги и руки. Если она в постели, то должна чувствовать еще какую-то тяжесть и давление, даже если укрыта всего лишь простыней.
О господи, она хочет домой.Хочет, чтобы всего этого не было, и можно было вместе с Лайлом вернуться к их сказочной жизни. Так нечестно, она только-только успела осознать эту награду, эту таким трудом добытую победу. Ей столького недодали! Она хочет домой.
Восемь лет назад, когда она впервые увидела ферму Лайла, вернее, дом и прилегающие к нему постройки – не совсем ферма, скорее загородный дом, – ей показалось, что она умерла и попала в рай.
– До чего же хорошо, – сказала она, когда грузовик, подпрыгивая, преодолел последние метры неровного проселка. – Лучше не бывает.
До встречи с ним она неправильно, как все горожане, назвала бы проселок дорогой. Она тогда еще и нервничала из-за того, что отправилась, как ей казалось, в местность, далекую от цивилизации, как в кино, как в «Освобождении» или вроде того, с человеком, которого знала всего пару недель. Потому что кто знает, что творится в душе у мужчины, когда все условности и ограничения остаются далеко позади? Лицо у него было славное, взгляд одновременно и добрый, и острый, но кто знает?
Так она и ехала с ним по длинной дороге, по проселку, заинтересованная и немного настороженная. А потом ее в самое сердце поразило то, что она увидела.
– Да, дом что надо, – согласился он.
Это было в самом начале. Айла с опаской относилась к тому, чтобы узнать друг друга поближе. Возможно, и он тоже, просто потому, что это, скорее всего, привело бы к чему-то, в чем она разуверилась, и к чему, как она себе говорила, у нее душа не лежала после Джеймса.
– Работы тут, правда, невпроворот.
Она чувствовала, с какой гордостью Лайл показывает ей дом.
– Но он того стоит. Такой красивый.
Так и было. «Красивый» не отражало сути. Даже «лучше не бывает» оказалось не совсем то. «Рай на земле» было ближе к истине.
Да, сказал он, и для него тоже. К тому времени он прожил здесь уже три года. Почти все свободное время он улучшал, сносил, перестраивал, делал дом своим. Айла уже колебалась, склоняясь к тому, что он ей нравится, но влюбилась в его дом. Насколько ей известно, он по этому поводу не ревновал и в корыстных побуждениях ее не подозревал. Она даже думала, что, не влюбись она с первого взгляда в дом, который был ему так дорог, на который он потратил столько сил, она упала бы в его глазах. Его дом был не то чтобы проверкой, но все же чем-то, что можно было и не пройти.
Вдоль проселка, склоняясь над ним, тесно росли старые плакучие ивы и клены.
– Его размывает каждый год, – сказал он, имея в виду рытвины и ухабы. – Приходится в конце весны засыпать щебнем, довольно много уходит.
И вдруг в конце дороги, за плавным поворотом возник двухэтажный дом из желтого кирпича, устойчивый и незатейливый, если не считать крыши, отливавшей медью, и узора, выложенного из кирпича по углам здания. Простые прямоугольные окна были закрыты темно-зелеными ставнями, веранда, выкрашенная в густой зеленый цвет, окружала дом с двух сторон, одна в тот момент была залита солнцем, другую затенял еще один раскидистый клен. Уютные деревянные и плетеные столы и стулья, навес от солнца, того же густо-зеленого цвета.
Сюда он переехал после того, как его жена Сандра умерла от рака груди, давшего метастазы, которые съели ее заживо, после того, как пережил вместе с уже почти взрослыми сыновьями-близнецами, которых Айла еще не видела, их переходный возраст и скорбь, после того, как снова обрел внутреннее равновесие и стал понемногу осматриваться, решая, чего ему может захотеться теперь, когда он один, – он отправился на поиски и в конце концов нашел это.
– Я твердо знал, что мне нужно, – рассказывал он ей. – После всех тех лет, что я провел в городе, мне был нужен простор. Чтобы было где повернуться. Может быть, просто хотел чего-то, чего у меня никогда не было. У тебя так бывало, что в жизни – одно, а мечтаешь совсем о другом?
Еще бы. Айла кивнула, но, хотя он сделал паузу, подняв брови, не стала уточнять, почему, или когда, или в каких обстоятельствах такое бывало.
– Пока я жил с Сэнди и потом с ребятами, я даже не представлял, как это – остаться одному. Страшновато, конечно, я чего-то в этом духе и ждал, взявшись за дело, которое требовало серьезных усилий. Но интересно. И здорово, если все получится. Риелторы со мной с ума посходили: показывали то, потом это, а я знал только, что до работы должно быть не очень далеко, и еще, что я сразу пойму: вот оно, когда увижу.
А потом позвонила одна из риелторов, сказала, что есть дом, только-только выставлен на продажу, она сама его не видела, но покупка может быть выгодная, хотя ей и говорили, что дом не в очень хорошем состоянии. Я поехал туда один, просто неудобно уже было тратить ее время впустую. Сначала не мог найти, где это, ездил туда-сюда мимо проселка, потому что у него был такой вид, как будто он вообще никуда не ведет, но потом сдался и свернул. Пару раз ударился днищем о дорогу, попрыгал на ухабах, изозлился весь, а потом вдруг раз – вот оно. Выехал из-за поворота и увидел. И наплевать, сколько он стоит, сколько труда в него нужно вложить, что нужно будет делать. Самый потрясающий момент за всю мою жизнь. Ну, не считая рождения мальчишек, но там совсем другое. Это было – мое. Касалось только меня. И все так неожиданно, я был почти в шоке. С мальчишками все было правильно, и здесь тоже, только совсем по-другому.
Айла подумала о рождении собственных детей: да, волшебство. Шок и потрясение, в самом деле.
Было столько поводов для опасений с этим все еще незнакомым мужчиной, рассказывавшим такую аккуратную историю: умершая жена, которая, наверное, со временем будет становиться все лучше и лучше; теплая привязанность к детям, о которой сама Айла знала не понаслышке; даже его восприимчивость к райским уголкам. Айла гадала, зачем он ее сюда привез, по какой причине она с ним сюда поехала.
– Вот, теперь ты здесь, – сказал он тогда. – И это тоже правильно.
Так и было. И как же ей хочется туда. Не нужно было уезжать, не нужно было спускаться с веранды, залезать в грузовик, ехать за мороженым. И они были бы в безопасности.
Вместо этого она здесь; а вот и он, вернулся в эту странную матово-белую комнату. Садится возле еще одной больничной кровати, заботливо склоняется над еще одной женой, черты его лица заострились, складки, идущие от крыльев носа вниз, кажутся глубже, чем обычно. Он, этот мужчина, к которому Айла придвигалась все ближе и ближе, пока наконец не сдалась, не поддалась, не уверовала, выглядит усталым, почти старым. Бог знает, как выглядит она сама.
– Зеркало, – говорит она.
Он явно встревожен:
– Нет-нет, не сейчас. Ты пока еще не в форме.
Не в форме,то есть не такая, как всегда, на себя не похожая. И страшная.
Он не понимает, что ей не просто хочется увидеть свое лицо, ей нужно убедиться, что у нее все еще есть лицо, что она сама еще есть.
– Зеркало, – повторяет она.
Он вздыхает, встает и уходит из поля ее зрения. Через несколько секунд он снова рядом с ней, прижимает к груди скрещенными руками круглое зеркало в зеленой пластмассовой раме.
– Слушай, – говорит он, – тебе, наверное, все покажется хуже, чем кому-либо. Слишком мало времени прошло, ты еще отекшая и в ссадинах. Отчасти из-за этих трубок. Ты не расстраивайся, ладно? Ты поправишься.
Если бы она могла, махнула бы рукой в нетерпении. Он вздыхает и подходит ближе, переворачивает зеркало, подносит его прямо к ее лицу.
Ох. Он должен был ее предупредить. Кто-нибудь должен был сказать.
Страшилище. Серая кожа, только возле ноздрей ссадины. Трубки, мерзкого желтоватого цвета, распирают ноздри над соединительной пластиковой перемычкой. Глаза, ее большие голубые глаза, сузились до щелочек в распухших, как подушки, почерневших веках. Кожа туго натянута на щеках, на подбородке, на желваках – у нее есть желваки! – как будто сейчас лопнет. Ее кудрявые, стриженые рыжие волосы, седые у корней, что под этим углом особенно заметно, спутаны и грязны. И все это зажато металлической изогнутой рамкой, под которую подложены салфетки. Теперь понятно, почему у нее не поворачивается голова и почему ей приходится смотреть прямо в это зеркало или скашивать глаза как можно дальше в сторону.
Боже. И на этот кошмар смотрит Лайл. Сколько уже? Если бы можно было сделать одно, только одно, она бы закрыла лицо руками.
– Рассказывай, – говорит она и видит, как Лайл на мгновение поджимает губы, с трудом втягивая воздух.
Ей немного легче оттого, что она видит и слышит даже такие мелочи невероятно четко, она спрашивает себя, не может ли это быть своего рода компенсацией за то, что она утратила, до чего никак не доберется. А если и доберется, и даже потрогает – все равно не почувствует.
Где сейчас ее руки? Чем они заняты? Руки Лайла где-то там, внизу, наверное там же, где должны быть и ее руки, которыми ей хотелось бы держаться за умные, умелые руки Лайла. В суде, когда должны были зачитать приговор Джейми, руки Лайла были самой сильной, самой утешительной, основательной и надежной плотью и костью в мире. Она тогда подумала: как бы ей удалось все это вынести, не поддерживай ее его рука, и что вообще поддерживало ее, пока этой руки не было рядом. Она уцепилась за нее, как он потом сказал, мертвой хваткой. Может быть, сейчас он так же вцепился в ее руку.
Она не только жутко выглядит, от нее как будто осталась одна голова. Как в старом фильме ужасов: лаборатория сумасшедшего растрепанного ученого, лишенная тела голова в банке, противостояние между гордым, но испуганным ученым и яростно работающим, разгневанным мозгом. Ученый – жертва своего кощунственного стремления быть творцом. Голова, полагающаяся на остроту ума и безжалостность, тоже жертва этого кощунственного стремления. Победителей нет. Всех губит избыток самомнения, все слишком далеко заходят.
А они всего лишь ехали за мороженым, совсем не далеко.
– Рассказывай!
Потому что страх не уменьшается оттого, что не знаешь, чем он вызван.
Позвоночник. Операция. Пуля.
Когда они ссорились, Джеймс обычно смотрел на нее, сузив глаза, поджав губы и говорил угрожающе-тихим голосом:
«Не спрашивай, если не готова услышать ответ».
Потом стало ясно, что он имел в виду. Айла сказала бы, что есть такие вопросы, к ответу на которые невозможно быть готовым, но, как с зеркалом, нет и выбора – спрашивать или нет. И еще она думает, что ее взгляд на вещи всегда был сложнее и интереснее, чем у Джеймса, который, к сожалению, мыслил довольно примитивно.
– Ты что-нибудь помнишь?
Голос у Лайла тихий, немножко дрожащий, намеренно нежный. Ну да, конечно, он ведь не может знать, что она помнит, а что нет. Он не представляет, где начинается и где заканчивается провал, и с чего начать его заполнение. Забавно, она решила, что он знает. Забавно, что ей казалось, будто он так все понимает.
Может быть, сейчас ему больше всего хочется выбежать из комнаты. Или разозлиться, или заплакать. Во всяком случае, ему не хочется сидеть здесь и смотреть на нее, казаться старым и говорить то, что она совсем не хочет слышать, но должна выслушать.
– Прости, – говорит она, имея в виду сразу все: что заставляет, отнимает его силы, время, рассчитывает на его заботу, что выглядит жутко, что стала обузой, что пока не понимает почему и что ей приходится ждать от него объяснений. Даже на это, на объяснение, он дал согласие, когда женился на ней.
Любовь сама по себе не подразумевает такой ответственности. Брак – да. Лайл и Айла связаны, соединены, необязательно навсегда, но так, что в подобных случаях этот союз, несомненно, должен действовать. Точно так же Джейми и даже Аликс, которые неотделимы навсегда, просто не могут не приехать.
– Холестерин, – выговаривает она, хотя слово произносится как-то наоборот. – Мороженое.
Даже это звучит невнятно.
– Да? Только это и помнишь?
Он снова тихо вздыхает.
Если бы на шоссе в его артериях случилась дорожная пробка, она бы вздыхала? Может быть, ей даже показалось бы, что она загнана в угол, обречена, потому что он во всем должен полагаться на нее и ее добрую волю? Сейчас она не может на него смотреть. Вдруг на его лице именно такое отчаяние?
– Доктор Грант сказал, что у тебя могут быть провалы в памяти, – говорит Лайл. – Он говорит, так часто бывает в шоковом состоянии. То есть, когда выходят из шока, ты сейчас не в шоке, конечно. Сначала провал, а потом можешь внезапно все вспомнить.
– Что еще?
– Что он еще говорит?
– Да. Что будет. Со мной.
Слова ее выматывают, она лишается сил.
– Ну, в общем, ничего. Пока ничего. Они хотят подождать, сделать еще сканирование, анализы, посмотреть, как все пойдет. Они считают, что он может сам выйти, это было бы лучше всего. Если непохоже будет, что выйдет, если анализы что-то такое покажут, будут оперировать. Операции, скорее всего, в любом случае не избежать, даже если он выйдет, тогда всего лишь будет не так сложно. Хорошо, что ты здорова. Ну, то есть, здорова… ты понимаешь. Что ты достаточно сильная. В общем, они посмотрят. Увидим. Тут хорошие врачи, и прогноз они дают благоприятный. Говорят, шансы очень велики.
Почему она раньше не замечала, что он опускает главное слово почти в каждом предложении, или это появилось только что, эта уклончивость и умолчание, как реакция на то, что случилось? Что за «он», кусок пули, что ли, о котором говорил врач? И что за «прогноз», о каких «шансах» идет речь? Она подбирает слово, которое сможет произнести, и говорит:
– Туманно.
Лайл кивает:
– Какое-то время так и должно быть. Они не любят выражаться определенно. Наверное, слишком много судебных исков или предупреждений от юристов вроде меня, что существует ответственность за сказанное. Но мы с тобой оба знаем, что это не навсегда и ты, конечно, будешь двигаться и ходить. Очень скоро. Это просто сбой, но мы с ним справимся, и ты не успеешь опомниться, как все снова будет, как всегда.
Она перестает его слушать после «навсегда», когда он доходит до «двигаться и ходить». Хотя «мы» она слышит и благодарна за это.
В его нарочитом оптимизме слышна не только недоговоренность, но и угроза. На него нельзя полагаться, что от Лайла уже само по себе воспринимается как удар.
– Рассказывай, – снова говорит она. – Сейчас же.
Она требует, и он склоняет голову и еще раз глубоко вздыхает.
Странное, далекое небо
Когда Родди привезли в этот город, к бабушке, он ревел и брыкался. Это было десять лет назад. Сейчас, когда он лежит на спине в высокой пшенице и на него смотрят две настороженные собаки и тысячи звезд, он оглушен и растерян оттого, что не сможет вернуться домой.
До него слишком медленно доходит. У него беда с чувством ритма, он вечно отстает на такт или два. Поэтому и сегодня все так вышло.
Некоторые из самых важных, хотя и не всегда лучших моментов своей жизни он провел именно так: лежа на спине, очень тихо, глядя вверх.
Именно так, когда ему было семь, он провел первую ночь в бабушкином доме, куда они с отцом перебрались так надолго. Он никогда не капризничал, но в тот день, когда они переехали, когда загруженная машина отца, в которой уместилось все, что они оставили себе, шла перед маленьким грузовичком, Родди ревел всю дорогу. Когда они въехали в город, он стал отчаянно брыкаться. Когда остановились у серого оштукатуренного бабушкиного дома, он вцепился в руль, потом в дверь, и отец сурово выволок его из машины. Он даже лягнул бабушку, которая крепко обхватила его руками.
Когда они трое наконец поужинали, он окончательно выдохся. Его отправили в его новую комнату под самой крышей, а бабушка с отцом взялись расставлять внизу вещи, которые они с отцом привезли с собой. Бабушка зажгла у постели Родди голубой каплевидный ночник, и в его слабом отраженном свете потолок казался каким-то странным, далеким небом.
Он был очень зол. Из-за того, что его вырвали из привычной обстановки, но еще из-за того, что мама, если она вернется в их маленький домик в городе, не сможет их найти.
Как-то утром мама была дома, она обняла и шлепнула Родди, уходившего в школу, на прощание, а когда он вернулся, входная дверь была не заперта, он вошел, но дома никого не было. Ну, иногда ее не бывало дома, так что пару часов ничего странного в этом не было, хотя обычно она предупреждала, что уйдет, может быть, в кино, или, как она говорила, побродить.
Обычно папа уходил утром и возвращался поздно вечером, ужинал, включал телевизор, а немногим позже Родди шел спать. Иногда он хлопал Родди по плечу или ерошил его волосы, называл его «приятель», и, если Родди что-то было нужно или ему хотелось чего-то, отец делал все так, как хотел Родди. Как-то он принес Родди первый двухколесный велосипед, хотя потом и не помогал ему учиться на нем кататься. Этим занималась мама, бегавшая вдоль тротуара и придерживавшая седло, чтобы он хоть как-то сохранял равновесие. С ней было весело. Однажды она поставила на их крошечном заднем дворе маленькую палатку, чтобы они с Родди могли устроить себе бивак, и они сидели там допоздна, она рассказывала страшные истории и показывала на холщовой стене театр теней, по-всякому складывая пальцы. В парке она взвизгивала и хохотала даже громче его, когда толкала его на качелях так высоко, как только было можно, куда выше, чем он сам смог бы раскачаться.
Но иногда она бывала грустной и уставшей и не вставала с постели или с дивана по нескольку дней.
– Прости, заинька, – говорила она. – Я сегодня сама не своя.
Только если она временами не своя, а чья-то еще, это ведь все равно она, разве нет? Это было не очень понятно, зато надежно: он знал, что мама или такая, или такая. Иногда, когда он бывал у друзей, ему казалось, что взрослые – ненадежный народ, потому что если они улыбались или разговаривали строго, казалось, что все это неправда. Как будто они в масках, как на Хэллоуин. Мама была совсем не такая.
Случалось, что она доставала отца до тех пор, пока они не шли куда-нибудь, в кино или на танцы, хотя отец обычно не хотел никуда идти. Когда они куда-нибудь собирались, у мамы всегда начинали блестеть глаза. Она казалась счастливой.
В тот день она так и не вернулась до возвращения папы, а папа не был удивлен, он принес пиццу и стал выкладывать ее на две тарелки – это тоже было странно. Он положил руку Родди на плечо и сказал:
– Идем в гостиную, сынок, я должен тебе кое-что сказать.
Родди был тощий, все говорили, что он похож на маму, она была маленькая и худенькая, и волосы у нее были почти такие же короткие, как у него, только кудрявее. В гостиной он присел на край дивана, как в те дни, когда она лежала там, укрывшись одеялом, просто смотрела телевизор или спала, в те дни, когда она не носилась по дому, ища, чем заняться.
– Я не знаю, понимаешь ты или нет, – наконец начал папа, – но с мамой не все в порядке. Ты ведь замечал, она иногда радостная, а иногда – нет?
Родди кивнул.
– Ну вот. – Папа наклонился вперед, уперся локтями в колени, свободно свесив большие ладони.
Что – вот? Папа даже не смотрел на Родди, он уставился куда-то в угол, а может быть, на экран выключенного телевизора.
– Ну так вот, оказывается, это у нее такая болезнь. Иногда ей так хорошо, как мало кому бывает, но так плохо, как ей, точно бывает немногим. Ей тяжело, когда то так, то эдак. Нам всем тяжело.
Родди покачал головой, ему не тяжело.
– В общем, сегодня день случился особенно тяжелый, и она решила что-нибудь с собой сделать, так ей было плохо. И сейчас она в больнице. Точнее, она была в двух больницах. Сначала в той, где занимались ее руками, она потеряла много крови. А потом ее увезли в другую больницу, там ее будут лечить, чтобы она больше ничего с собой не сделала. Вот, видишь, как все вышло.
Нет. Родди смотрел изо всех сил, но ничего не видел.
Для начала, откуда папа все это знает? Он же целый день был на работе.
– Она мне позвонила, – сказал отец, как будто услышал, о чем Родди думает. – Я вызвал «скорую» и приехал в ту, первую больницу. Знаешь, это хорошо, что она позвонила. Значит, она не хотела, ну, не хотела сделать с собой что-то совсем плохое. И не хотела, чтобы ты испугался, когда придешь из школы. Потому что ей сегодня было очень плохо, но она подумала о тебе, это хороший признак.
Родди сполз с дивана и встал перед отцом:
– Давай к ней съездим.
Отец покачал головой:
– Боюсь, не получится. В больнице сказали, что нельзя. И потом, ей нехорошо.
– Ее забинтовали?
– Да, но немного. Только руки.
Она нарочно поранилась? Нарочно сделала, чтобы пошла кровь? Если Родди обдирал коленки или у него шла носом кровь, мама морщилась, когда возилась с антисептиком и пластырем, или запрокидывала ему голову и заворачивала лед в полотенце. Она боялась крови. Зачем она себя поранила? Он нахмурился. Может, папа соврал? Может, выдумал всю эту историю, чтобы скрыть что-то еще, что-то похуже?
– Я хочу к маме.
– Я знаю, сынок. – Папа вздохнул. – Но нельзя. Как ни жаль, нельзя.
Лицо у него было печальное. Не как у мамы, когда она застывала, как мертвая, а как будто он сейчас заплачет. А потом он посмотрел на Родди, сделал другое лицо и сказал совсем новым, громким голосом:
– Так что остались мы с тобой вести холостую жизнь, можем делать что захотим. Чем займемся? Можем пойти в боулинг или в кино, выбирай. Или нажарим попкорна и будем смотреть телевизор до ночи. Что скажешь?
Родди сказал бы, если бы решился: «Почему ты не ходил в кино или еще куда-нибудь, с мамой, когда ей хотелось?»
Он пожал плечами.
– Без разницы. Мама когда вернется, завтра?
– Завтра – нет. Не знаю. Там будет видно.
«Там будет видно» ничего хорошего не предвещало.
А на следующий день вместо мамы объявилась бабушка с парой чемоданов. Она жила довольно близко, в маленьком городке неподалеку, и Родди она нравилась, хотя он с ней, в общем, не так много общался. Она все время обнимала Родди. Когда они смотрели телевизор, она обнимала его и прижимала к себе, к своему мягкому, как подушка, боку, и они так и сидели рядом. Но время шло, и она не часто говорила с ним о маме, и его к маме все еще не пускали.
– Я знаю, что ты по ней скучаешь, милый, – сказала бабушка. – Но ей так нехорошо, что к ней нельзя.
Он не мог понять, что значит нехорошо.Ее что, тошнит? Он все пытался придумать, как еще спросить об этом. Может быть, он просто не теми словами спрашивает, поэтому никто и не может правильно ответить.
– Нет, милый, ее не тошнит, наверное, ее быстрее вылечили бы, если бы ей было нехорошо из-за этого. Ей по-другому нехорошо, что-то в голове, а это труднее лечить.
– Она умрет?
Первый раз ему пришлось собрать все силы, чтобы задать этот вопрос, но потом стало проще, потому что ответ был один и тот же, хороший:
– Нет, от этого не умирают, не бойся.
– Это заразно?
Вроде кори или свинки, тогда понятно, почему к ней нельзя. Когда кто-то болеет тем, чем можно заразиться, к нему нельзя, можно только тем, кто за ним ухаживает. Кто ухаживает за мамой? Ей должно быть страшно, если это кто-то чужой.
– Нет, и заразиться тоже нельзя. Нет, Родди, все дело в том, что она иногда слишком радостная, а потом делается слишком грустная. Ты же сам знаешь, я знаю, что знаешь. Но вылечить это трудно, потому что врачи в этом не так хорошо разбираются, как в болезнях тела.
Разве мама не обрадуется, если его увидит?
Разве она по нему не скучает?
– Куда делась твоя мама? – спрашивали его в школе.
– Она в больнице. Болеет.
Это производило впечатление, к нему стали лучше относиться. И учителя тоже, никто не раздражался, когда он не мог решить задачу или начинал запинаться, читая вслух. Это ему даже нравилось, и он старался не выглядеть напуганным.
Из ящика буфета в столовой, где хранились фотографии, он утащил пару снимков: на одном они были с мамой в парке, на другом – с мамой и папой на фоне рождественской елки. Он прятал их под свитером, пока не смог унести наверх и засунуть под матрас. Потом он мог их вынимать и рассматривать сколько угодно, убедившись, что папа и бабушка внизу. Он не смог бы объяснить, почему никто не должен знать, что они у него, но так было нужно. Он все смотрел и смотрел на ее лицо. На обеих фотографиях она смеялась, рот у нее был чуть не в пол-лица. Не потому ли он утащил фотографии, что боялся забыть, как она выглядит. Хотелось верить, что нет.
– А папа к ней ездит? – спрашивал он. – Она хочет, чтобы я пришел?
Он был совершенно уверен, что в ответ услышит «да» и «да, конечно», так и получилось.
– Папа был у нее два раза, – сказала бабушка, – но ей пока слишком плохо, говорят, лучше пока ее не тревожить. А тебя она, конечно, хочет повидать, она по тебе очень скучает, но пока она не готова к тому, чтобы к ней приходили.
Кто это, интересно, говорит? Какие-то люди, которых он даже не знал, могли говорить, что делать не только ему или маме, но и папе тоже. Наверное, какие-то важные и серьезные люди. Но раз он их не знал, откуда он мог знать, хорошие они или нет, и есть ли им вообще до нее дело, и не делают ли они с ней что-нибудь нехорошее? Вот как по телевизору важные люди делают что-нибудь плохое с другими людьми, без всякой причины.
– Она когда-нибудь вернется домой? – спросил он в отчаянии. Он уже не думал про завтра, ему просто хотелось знать, что придет день, когда она появится с чемоданом в руке, потому что всегда нужна куча вещей, когда так надолго уезжаешь, и она засмеется на пороге, обнимет его, и рот у нее будет чуть не в пол-лица.
– Все очень стараются, чтобы она вернулась. Пробуют всякие новые лекарства, так что просто нужно подождать и посмотреть, что получится.
Этого он не ожидал. Он бы и спрашивать не стал, если бы думал, что ответ будет такой расплывчатый.
Как-то он пришел из школы и увидел перед домом объявление: «Продается». Отец сказал:
– Родди, мы решили, что пора кое-что изменить.
Бабушка обняла его и сказала:
– Помнишь Бастера? Я его, бедного, так надолго оставила с соседями, а он так будет рад тебя видеть. – И еще она сказала: – Возьми с собой все, что хочешь. Все, что тебе нужно, чтобы быть как дома.
Дело было в деньгах, так сказал папа. Он решил продать дом и еще кучу всяких вещей, потому что приходили новые счета, которых он не ожидал, и по закладной не все было выплачено.
– Что такое закладная? – спросил тогда Родди.
Потом он еще спрашивал: «А почему бабушка не может продать свой дом и переехать к нам?» и «А как же мама? Вдруг она приедет, а нас нет?». Тупо, отчетливо, беспомощно и бессмысленно повторял снова и снова: «Я не хочу ехать», или «Я не поеду», или «Вы меня не заставите». Но они, конечно, заставили.
Когда он ревел и брыкался в тот день, ему было хорошо. Это было как-то очень правильно и по делу, если бы мама так себя вела, ей сразу стало бы веселее. Бабушка прижала его к себе и так и держала, хотя он лягался и вырывался на свободу.
– Не волнуйся, – сказала она отцу. – Ничего со мной не случится. Конечно, он расстроен, а ты как думал? Лучше его оставить пока в покое.
Отец затащил в дом коробки, лампы, несколько стульев и все такое и сложил все в маленькой бабушкиной прихожей. Бабушка принесла ему пива и сказала:
– Оставь все как есть. Я понимаю, тебе сейчас нелегко, но я так рада, что снова дома.
Чуть позже из кухни донесся запах чего-то вкусного. Они поужинали, а потом Родди пошел спать в свою новую комнату под крышей, слабо освещенную голубым ночником, бросавшим отсвет на потолок. Он лежал в новой постели и злился, а потом, наверное, уснул.
На следующий день у него появились два настоящих, лучших в его жизни друга: Бастер, который его разбудил, вспрыгнув на кровать, и Майк, пришедший в гости с мамой.
А в остальном – городок был небольшой, и все всё знали. И почему они с отцом переехали к бабушке, тоже знали. Поэтому когда он пошел в школу, все было не так, как на прежнем месте. Ну, на него косились, как на психа, как будто он сейчас выкинет что-нибудь. Один наглый парень из четвертого класса подошел к нему в первый день, ткнул пальцем ему в грудь и сказал:
– Мамаша твоя – психованная. И ты небось тоже псих.
Малышня начала распевать: «Псих, псих, у него мамаша псих!» – и бегать вокруг Родди, дотрагиваясь до него на бегу и с визгом отдергивая руки, вроде как он такой страшный, а они такие смелые.
Повести себя можно было по-разному. Он сделал так: сгреб этого, из четвертого класса, который стоял и смотрел на то, что заварил, и врезал ему. Метил в нос – и не промазал. Хлынула кровь, и хоровод замер. Потом раздался визг, и все замолчали.