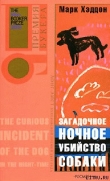Текст книги "Тяжкие повреждения"
Автор книги: Джоан Барфут
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Который спасает ее сына, как только может, и без сомнения спас бы ее дочь, если бы кто-нибудь мог придумать, как это сделать.
Джейми, выпущенный после шести ужасных недель очень дорогого лечения, больше бывал дома и иногда вел казавшиеся серьезными разговоры с Лайлом, они сидели вдвоем в шезлонгах, двое близких Айле мужчин, а между ними стояло их пиво. Она не спрашивала, о чем они говорят; Лайл не рассказывал. Еще одно проявление незыблемой честности.
Но Джейми выскользнул. Начал уходить все чаще и чаще, возвращаться все позже, лицо у него снова стало серым.
– Он колется, – сказала она Лайлу, и это был не вопрос.
– Похоже.
– Я не вернусь в клинику, – прямо сказал Джейми, когда она завела с ним разговор. – Со мной все нормально, честно. Я все понял, поверь. Я не колюсь, честное слово.
Ври больше. Она выясняла, какие еще существуют программы, что можно сделать, искала, с кем можно проконсультироваться, когда зазвонил телефон и она услышала Джейми, говорившего самым робким голоском. Арестован по обвинению в наркоторговле. Просит помочь.
Смешно, но он в результате провел в тюрьме больше времени, чем его отец. Джеймс отсидел всего полгода, когда все закончилось. Разумеется, он лишился бизнеса, хотя и по финансовым причинам, не только из-за суда или вопросов морали, так казалось на первый взгляд. А Джейми провел за решеткой больше года, и Лайл сказал, что ему еще повезло. Дело было плохо: он продавал, а не только употреблял наркотики, называвшиеся крэк, экстази и кокаин; о героине тоже упоминалось. Сыночек Айлы крался по гниющему миру иголок и ложек, озноба и рвоты, грязных комнат, опасных переулков, но на этот раз он торговал дорогостоящими удовольствиями, своими параллельными мирами потребностей, желаний и одержимости. Его поиски облегчения, если не радости, окончились полным крахом.
– Ты знала, что он торгует? – спросила она у Аликс.
– Нет, только что снова колется. Но это и ты знала.
Айла и сейчас не может вспомнить, какой тогда была Аликс, помнит только, что та была тихой, упорно работала, и у нее все получалось. Наверное, тогда и начала проявляться ее прозрачность, ее странная способность исчезать, так что другие начинали смотреть сквозь нее. Теперь эта прозрачность затронула ее кожу. Ее огромные, лихорадочные глаза.
Кто бы смог поверить, что будет столько горя?
Миссис Лот, наверное. Миссис Иов.
Лайл нашел Джейми самого опытного, самого лучшего адвоката; твердо сидел в зале суда с Айлой, когда она выслушивала мрачные сведения о тайной жизни своего сына; позволил ей ухватиться за свою руку, когда она смотрела, как тело Джейми съеживается от ужаса при оглашении приговора – два года и трехлетний испытательный срок; позволил ей плакать у себя на груди о том, что не имело к нему отношения, в чем он не был виноват и из-за чего не должен был страдать. Хороший человек. Который сказал:
– Прекрати себя казнить, я не думаю, что ты хоть что-то еще могла сделать, чтобы его остановить или помочь ему. Тут все иначе.
Айла, конечно же, не могла ему поверить; но она поверила в его упорную доброту. Его верность.
В тюрьме случилось многое, к чему Джейми был не готов. О некоторых из этих историй она узнавала сразу, о некоторых узнала только недавно. Она полагает, что было и такое, о чем она не слышала и никогда не услышит. Но в течение тех четырнадцати месяцев, которые он на деле отсидел, он бил и его били, его избивали, резали, ломали ему кости и бог знает, что еще, о чем нельзя говорить. И сам он, как рассказывали его охранники, его тюремщики, бился головой о стены, потел так, что промокали простыни, выворачивался от рвоты наизнанку. Он какое-то время провел в лазарете по разным причинам, в том числе из-за лихорадки и простуд. Ей рассказывали, что поначалу его иногда так трясло, что приходилось надевать на него смирительную рубашку. Она видела, когда приезжала на свидания, когда он мог с ней встретиться, что он стал бледным и худым, а иногда повреждения были более очевидны: разбитая губа, синяк под глазом.
Потом он стал поправляться. Глаза у него прояснились, кожа слегка порозовела.
– Я хожу в спортзал, – с гордостью сказал он ей. – Я чист, – смущенно прошептал он. – На этот раз можешь мне поверить.
И это казалось правдой, было похоже на правду. Кто ему помог? Кто-то; не она.
И опять-таки стараниями Лайла, благодаря особой программе трудоустройства бывших заключенных, у Джейми есть работа – первая и единственная настоящая работа! в его-то возрасте! – в цветочном магазине. Он в этом изысканном бизнесе занимается заказами, доставкой и немного работает с документами. Букетов он не составляет и за цветами и растениями не ухаживает, потому что для этого нужен особый талант и знания. Он говорит, что запахи иногда становятся одуряюще сладкими, даже тошнотворными, но он узнал кое-что о цветах, например некоторые названия. Он говорит, что ему нравятся люди, с которыми он работает, нравится регулярно получать деньги, правда не нравится сумма.
– Я тебе скажу, – говорит он, – когда встаешь на путь исправления, это бьет по карману.
Это шутка, но это еще и правда.
Такой работой можно заниматься в двадцать лет, подрабатывать, чтобы оплачивать учебу или квартиру, но для двадцатипятилетнего взрослого это не то. Он подумывает, пока абстрактно, о том, что когда-нибудь будет работать с людьми, попавшими в беду; скорее всего, с наркоманами.
Когда он первый раз об этом заговорил, Айла задала глупый вопрос:
– А это не опасно?
– Что, с наркоманами общаться?
Они оба засмеялись, но да, именно это она и имела в виду. Соблазн – опасная вещь, в спасении сложно быть уверенным.
Сейчас она говорит, ни с того ни с сего, обеспокоенному молодому мужчине, склонившемуся к ней, пытающемуся улыбнуться изогнутым детским ртом:
– Я так тобой горжусь.
Простые, честные, трудные слова, и она поражена тем, что глаза его наполняются слезами, слезы текут по щекам. Ох.
Люди в самом деле становятся прежними.
Может быть, и у нее получится.
– Где Аликс и Лайл?
Он смущается:
– В суде. У этого парня, ну того, который в тебя стрелял, сегодня слушание. Он вроде собирается признать себя виновным.
Ну что ж, так и надо. Должен признать.
Для него это все тоже может быть потрясением. Хотя совсем не обязательно. Может быть, он просто дурной человек.
– А Мартин?
Разве он не хочет с ней повидаться?
– Он пытался, но они пока никого не хотят пускать, кроме членов семьи.
Но Мартин – часть ее семьи: надежный, доброжелательный брат. Он остался ей верен, когда некоторые клиенты поначалу, как она и ожидала, отшатнулись от них. Сама она воспринимала Джеймса как своего рода Чернобыль, источник моральной радиации; или, может быть, некоторые клиенты считали, что он ничего особенного не сделал, ему просто не повезло, и его поймали, и в этом случае пытались избежать радиации невезения.
«Пошли они», – сказал Мартин немногословно и исчерпывающе.
Еще он помогал ей паковать вещи, когда она переезжала с Джейми и Аликс на новое место. Он крепко обнял ее и купил ей выпить, когда она наконец призналась, что существует Лайл; и хотя она не могла во всем ему сочувствовать, она осталась верна ему, когда рухнула его жизнь. Жена узнала о любовнице; любовница узнала, что жена беременна.
«Господи, Айла, они обе от меня ушли! И дети, она забрала детей».
Это было в самом деле мучительно, тут он мог рассчитывать на ее сочувствие. Хотя она не могла понять, чего он ждал; она полагала, что он надеялся, что ничего не случится, не мог себе представить, что что-нибудь произойдет. Она о таком отношении к жизни знала уже очень много. Она кормила его, наливала выпить, выслушивала. Он то же самое делал для нее, это был не то чтобы долг, который нужно было вернуть, но нечто, ценность чего она прекрасно понимала.
В последнее время Мартин намекал, что был бы не против продать агентство, по крайней мере ту значительную его часть, которая ему принадлежит.
«Я вроде как хочу получить деньги и пуститься в бега. Попутешествовать, вознаградить себя, пока не поздно. Знаешь, я устал, пытаясь идти в ногу со временем. Кругом столько перемен».
Она так и не решила, что думает по этому поводу, но теперь ей нужно сказать ему, чтобы, да, продавал, бежал, шел у себя на поводу, развлекался, делал все, чего пожелает его добрая душа. Потому что у нее не получится просто щелкнуть пальцами и вернуться к привычной жизни, как будто ничего не произошло.
Сейчас самое яростное ее желание – выбежать с визгом из собственной кожи, из собственной жизни.
Она даже с собой покончить не может. Не может палец о палец ударить, чтобы сделать хотя бы это. Кто станет ей помогать?
Джейми говорит:
– Но если хочешь повидаться с Мартином, мы попробуем что-нибудь придумать, ты не переживай.
С какой уверенностью, с каким убеждением говорит этот молодой человек. Ее очистившийся, способный сын. Может быть, и Аликс сможет спастись. Конечно, не с помощью Корпуса Умиротворения, не в качестве кого-то, кого зовут Сияние Звезд. И все же в Аликс что-то есть. Она что-то знает о вере, пусть эта вера слепа, глупа и нелепа, откуда в ней это? С таким отцом, не говоря уже о брате, не говоря, может быть, и о матери, как она смогла так тихо, так незаметно поверить хотя бы во что-нибудь?
Довольный собой и уверенный в себе незнакомец мог ей понравиться. Какой-нибудь Мастер Эмброуз, проповедующий умиротворение – что же могло быть лучше? Кто, выбирая между историей нежной Аликс с разбитым сердцем и возможностью умиротворения, плавности, невесомости и прозрачности, которые сулит Сияние Звезд, не предпочтет стать Сиянием Звезд? Отбросить грустное прошлое. Выбрать неведомое, серебристое будущее.
Теперь они с Лайлом вместе отправились в суд. Это хорошо, хотя они едва ли найдут общий язык. А Мэдилейн где-то на воде, в воздухе. У всех все складывается по-новому, и цели новые.
Сын держит ее за руку, по крайней мере, так ей кажется, и отрешенно смотрит куда-то в пространство или в окно, она не знает.
У нее вырывается что-то вроде смеха, и Джейми, вздрогнув, переводит на нее взгляд. А она вспоминает, как в те первые, страшные недели после Джеймса хотела, желала, отчаянно жаждала ничего не чувствовать. И потом было что-то похожее, уже после самого Джейми. И вот она достигла того, о чем мечтала, чего так хотела; только тогда она, разумеется, хотела не испытывать никаких чувств. К телу это не имело отношения. Желание исполнилось не только слишком поздно, оно оказалось еще и извращено до предела.
Ей нужно было обращать больше внимания не только на проводившиеся этой клиникой кампании по сбору средств на всякие медицинские чудеса, но и на истории горя вообще. Ведь в них нет недостатка, разве они не ждут сотнями каждый день у порога твоего собственного дома? Очень может быть, что какие-нибудь, скажем, жертвы пыток на самом деле молятся о том, чтобы их нервы перестали содрогаться, скручиваться и реагировать, чтобы их больше не тревожили электрический ток, провода, раскаленное железо. Ей следует знать, что где-то, в каких-то обстоятельствах, есть люди, которым произошедшее с ней показалось бы благословением. И еще следует знать, есть ли те, кто может противостоять этим обстоятельствам, и как они это делают. Так получается, что она для этого слишком заурядная. Исключительные события то и дело случаются с заурядными людьми – и что им тогда делать? Как уже на бегу понять, что делать?
У нее на то, что случилось, не хватит силы духа. Она вымоталась. Она не справится с задачей. Лайл и Аликс как раз входят в палату, появляются за спиной Джейми, когда она произносит:
– Помогите.
Она почти никогда не слышала этого от себя. Разве не странно. Что это за человек, который почти никогда не говорит: «Помогите»? Они тоже теряются.
Так, ну а что, по их мнению, она чувствует? Зависимость, это точно, обреченность и отчаяние. Ужас, вот что.
– Помогите, – снова говорит она, но она сама не знает, как они могут это сделать. Ей хотелось бы пожалеть их, почувствовать к ним нежность: они так растеряны, их любимые, не похожие ни на кого лица так озабочены, полны такого искреннего стремления сделать, что она просит, помочь ей, на самом деле помочь, но разве они могут? Кроме того, они могут, каждый, развернуться и уйти отсюда. Этот выбор у них есть, и она не может их удержать.
Ей приходится закрыть глаза, потому что было бы очень скверно, слишком жестоко, если бы они увидели, как именно в эту минуту она ненавидит своего красивого, надежного Лайла, своего сложного, слабовольного Джейми, свою мягкосердечную, нетвердую умом, невесомую Аликс. Вот вам внутренний огонь, если кто-нибудь хочет посмотреть.
И все-таки.
– Помогите, – плачет она, ее глаза снова распахиваются в попытке потребовать, в надежде убедить, но именно сейчас с желанием умолять.
Спокойный, внимательный взгляд
Она снова здесь, сегодня, когда огласят его приговор. Входя в боковую дверь зала суда вместе с четырьмя другими молодыми, нервными заключенными, Родди осматривает комнату и, да, находит ее, в третьем с конца ряду. Выглядит она так же, как неделю назад. Даже платье то же.
Ужас его стихает, хотя и не пропадает. Ожидание ее присутствия или отсутствия, заставлявшее трястись его руки, отпускает, но остается ожидание того, что с ним будет дальше, что скажет об этом судья. Ничего из этого он контролировать не может. Да, но посмотрите, что он делал раньше, когда мог контролировать ситуацию; или думал, что может.
Бабушка и отец тоже здесь, смотрят, как он заходит вместе с остальными, переживают, расстроены, хотя он и принес им столько горя, опозорил бабушку и разозлил отца. Он кивает им и улыбается изо всех сил. Бабушка улыбается в ответ, отец кивает. Но потом, он понимает, что это и дико, и ни на что не похоже, он не может снова не перевести взгляд на девушку.
Ее образ, который он всю неделю пытался удержать в памяти, оказывается верен.
Он иногда сомневался. Боялся, совсем чуть-чуть, что слишком много вокруг нее насочинял, что сделал ее, например, слишком красивой; но нет, вот эта бледная, бледная кожа, как будто она и не с Земли. Серьезные глаза, которые смотрят прямо ему в душу, видят его насквозь.
Может быть, если оказаться ближе к ней, это будет слишком ошеломляюще, будет какой-то шок; но если бы он мог дотронуться до ее кожи, просто кончиками пальцев коснуться ее груди, если бы она разрешила, и если бы она взяла и положила его голову себе на колени и смотрела бы на него своими внимательными глазами, а он бы смотрел вверх, ей в глаза, – может быть, ничего больше и не надо. Он чувствует, что это возможно. Все уже так изменилось, все непредсказуемо, так откуда ему знать, что возможно, а что нет? Вот, посмотрите на нее, на него посмотрите. Что она видит?
Звучит это почти безумно, даже про себя сказанное, но это все-таки так: он влюбился, погрузился, утонул в какой-то непонятной любви.
Он не думает, что люди именно это имеют в виду, когда говорят о любви. Если бы другие чувствовали то же, весь мир был бы освещен, воздух бы светился.
Он с этим справится.
Надо же. Он и не понимал, что не уверен в этом.
Он выпрямляется, сидя на скамье, держится гораздо прямее остальных четверых. Он невысокий, небольшой, но здесь он может занять какое-то место, может что-то значить. Хотя для нее он все равно что-то значит, в любви тут дело или нет. Он забыл.
В эту краткую, долгую неделю, между признанием вины и сегодняшним днем, он кое-что усвоил наверняка.
Что не может рассчитывать на милосердие, потому что, хотя то, что сделал, случилось так быстро, всего за несколько секунд, это было серьезно, и последствия страшные. Он не может себе представить, сколько нужно времени, чтобы уравновесить эти вещи.
Что даже если где-то шумно и полно народу, и может быть, опасно, и нужно ответить на множество вопросов, и ты занят по много часов, есть промежутки неизбежного времени, когда перед глазами встают картины. Слишком часто, хотя и не всегда, это те мгновения в «Кафе Голди», секунды, которых не вернешь, сколько бы раз они ни проходили у него перед глазами. А иногда это бабушкин дом, мощеная дорожка от улицы к покрытому серой штукатуркой домашнему уюту, и дальше, через алюминиевую входную дверь, по потертому желтовато-коричневому ковролину, по лестнице, в его комнату, к его собственным грязноватым стенам, к его собственным фотографиям сложных, переменчивых существ, приколотым к стенам, к его жизни, которая больше ему не принадлежит, как будто он умер, или должен реинкарнировать в другом обличье.
Что засыпать небезопасно. Со сном, может быть, больше проблем, чем с бодрствованием. Потому что ему снились сны, жуткие, про маму, такие же страшные, как когда он был маленьким, после того, как они с папой переехали. На этой неделе даже сны, которые начинаются хорошо, когда они с мамой, допустим, играют, или она его обнимает, они оба счастливы и молоды, превращаются в кошмары, и когда он просыпается, ему страшно, он плакал не во сне, а на самом деле. Прошлой ночью маму парализовало. Она даже говорить не могла. А парализовало ее скрюченную на ограждении, вроде бы моста, хотя он ничего, кроме ограждения, не разобрал, ни шоссе, ни железнодорожных путей, ни реки внизу. На ней было что-то сверкающее, вечернее платье, или, может быть, это была ее кожа в лунном свете. Она смотрела на него. Ее взгляд просил о чем-то, просил его помочь ей. Он не мог понять, а она не могла сказать, хотела она, чтобы он ее снял оттуда или толкнул. Он должен был решить, потому что что-то нужно было делать, было поздно и холодно, и она не могла ничего сделать, он должен был ей помочь. Он подумал во сне: «Мама». Она была такой знакомой, беспомощной и напуганной, чужой и, главное, грустной. Он пытался понять во сне, что ему сделать: толкать или тянуть. И в результате нежно протянул руку и осторожно толкнул ее, и она полетела вниз, вниз, бесшумно исчезая во тьме.
Господи. Он проснулся в слезах. Ему было холодно. И он надеялся, что спал так же тихо, как во сне вела себя мама. Он вытер глаза и щеки.
Потом он начал воссоздавать на месте сна подробности, каждую черту и линию, перемену и оттенок того успокаивающего, спасительного существа, которое он видел, которое увидело его впервые неделю назад. И теперь он видит, что видение его правдиво, оно настоящее, потому что вот оно, в этом зале, в нескольких футах: вот это единственное светлое нечто, оставшееся ему, это единственное озаренное лицо.
Что она видит этими чистыми глазами, которых не сводит с него? Вообще-то он не любит, когда на него глазеют. С чего, не так уж он хорош. Но это другое. Его кожа не останавливает ее взгляд, даже его кости не останавливают.
Если бы он еще раз услышал ее воздушный голос, что она могла бы сказать? Вина и злость ее, похоже, не заботят, он не думает, что она сказала бы: «Я тебя прощаю». Это были бы слова из прошлого. Прежде она говорила как человек, которого больше интересует будущее.
Ну, еще могли бы быть романтические, нежные слова. Это было бы хорошо, но, наверное, это было бы слишком большим чудом, слов тут недостаточно.
Тогда что-нибудь попроще, более вероятное. «Ты мне нравишься, Род». Или: «Я верю, что ты хороший человек».
Сегодня она одна, без своего худого отчима, презрительного юриста, любящего мужа, выносящего невыносимые подробности на всеобщее обозрение в этом зале с высоким потолком. Могла она прийти по его поручению, от имени всей семьи той женщины, своей матери, оборачивающейся дамы в мятом синем костюме? Или все так, как кажется, и она здесь, чтобы по-своему, задумчиво посмотреть на Родди? Зал кажется ему ненастоящим, как будто это снова сон, но теперь уже чей-то другой. Как будто он может просто ускользнуть отсюда. Все это, каждая мысль, его легкая голова и сила ее спокойного, внимательного взгляда, может показаться безумием, он это знает. Но от этого все становится похоже на то, что она сказала неделю назад в этом зале, когда никто ничего не понял, кроме него.
Когда его наконец вызывают, он, как и в прошлый раз, должен сесть рядом с Эдом Конрадом, встать, когда войдет судья, сесть, попытаться слушать. Но она там, у него за спиной. Он не знает, как ее называть даже в мыслях. «Сияние Звезд» вроде бы подходит, «Аликс» – более настоящее.
Как Родди и Род, так, наверное. Судья говорит «Род». Он говорит:
– Это был дурной, бездумный поступок. Женщина парализована, не по своей вине, из-за безответственного, преступного поведения молодого человека. Которого он сам не может объяснить. Я вот что скажу вам, юноша, я очень, очень устал разбираться с такими, как вы, с такими, кто думает, что они могут делать все, что им заблагорассудится, и которым наплевать, кто в результате пострадает, – он смотрит на Родди сверху вниз, совсем не так, как она, со злобой, хотя если кто тут и может злиться, то это она. – Вы, молодые люди, считаете, что должны получать все, чего пожелаете, не работая, не заслуживая, и не обращаете внимания на тех, кто встанет у вас на пути.
Но это неправда? Родди хочет встать и возразить. Не наплевать, если кто-то пострадает. Он бы обратил внимание, если бы ему пришло в голову, что на что-то нужно обратить внимание. Он не считает, что должен получать все, чего пожелает. Просто казалось, что все просто – и все. И еще дело было в том, что он дружил с Майком: то, что нужно было сделать, само ограбление, было неважно, но недели, когда они строили планы, все эти разговоры, все репетиции! Что-то, что они делали вместе, как всегда все делали вместе, только на этот раз их целью было вольготное, белое и никелированное высотное будущее и свобода.
– Честно говоря, я хотел бы, чтобы ваша судьба послужила примером. Чтобы такие, как вы, ясно и четко усвоили, что никто не имеет права на насилие, не имеет права брать что-либо, если он это не заработал. Но меня несколько сдерживает то, что раньше вы не привлекались и, несмотря на некоторые семейные трудности, вас поддерживают ваши родные. Таким образом, пытаясь учесть и серьезность вашего преступления, и возможность вашего исправления, я приговариваю вас к восемнадцати месяцам тюрьмы и двухлетнему испытательному сроку. Я делаю это, надеясь, что за это время вы получите помощь и образование, которые направят вас на более созидательный путь. Вам многое нужно искупить, молодой человек. И вам предоставляется возможность, которой, я надеюсь, вы воспользуетесь и которую оцените.
Родди слышит только «восемнадцать месяцев». Полтора года.
Полтора года – это вечность. Когда все опять встают, Родди оборачивается, в отчаянии ища ее глаза. Которые смотрят на него. Они успокаивают его. Как он переживет полтора года?
Эд Конрад наклоняется к нему и говорит:
– Знаешь, дело может ограничиться годом. И даже десятью месяцами, если будешь себя правильно вести. Тебе повезло, могло быть намного хуже. Этот судья, он может быть такой занозой. Тебе удалось отделаться легче, чем я думал. В любом случае, используй это время с умом, и все у тебя наладится.
Самые добрые слова, или самая доброжелательная интонация, из всего, что он слышал от Эда Конрада.
Родди повезло? Даже год – это одна семнадцатая всей его исчезнувшей жизни. Огромное, долгое время.
Охранник берет его за локоть:
– Пошли, тебя ждут в другом месте.
Родди на мгновение, на долю секунды хочется стряхнуть эту руку, прыгнуть, схватить ее за руку и бежать с ней, прыгать через скамьи, мимо всех, мимо бабушки, которая плачет, и отца, который обнимает ее за плечи, за дверь, по коридору, на солнце, через город, в поля, бежать и бежать, дальше и дальше. Он бы мог, с ней. Она была бы его щитом, чем-то вроде щита.
Он так уже делал, разве нет? Вылетел из «Кафе Голди», бежал и бежал, хотя тогда он был один. Кончилось тем, что он лежал несколько драгоценных секунд в темноте под звездами, совершенно умиротворенный и спокойный.
Ее уже нет. Когда его дотащили до боковой двери из зала суда и он последний раз обернулся, посмотреть напоследок, эта кожа, эти летящие, пылающие волосы, эта узкая прямая спина и эти всеведущие глаза уже скрылись через другие двери, те, которыми пользуются свободные, невинные люди.
На мгновение его охватывает сомнение. Она что, не знает?
Конечно, знает. Просто она старше его, и она знает, что нужно, а что нет, и последний взгляд, наверное, был возможен, но необязателен. Она, наверное, считает, что он готов, что-то вроде этого. Он распрямляет плечи, как будто он не боится и не виновен, хотя он, конечно же, виновен, и так боится того, что будет дальше, что мог бы упасть, обрушиться всеми костями на плитки казенного пола.
Вместо этого он уходит в будущее, которое должно искупить вину, наказать его за проступок, но спасти его оно не может. Кто бы поверил, скажи он, во что верит как в свое спасение; но кому он может рассказать? Только ей, тесный круг знания, только они двое, но она ушла, и его в наручниках уводят в фургон, который увезет его в другое место: не надо оглядываться, и прощаться не надо.