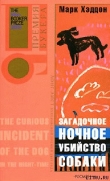Текст книги "Тяжкие повреждения"
Автор книги: Джоан Барфут
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Родди выгнали из школы на два дня. В первый же день выгнали.
– Нечего связываться со всякой мразью, – посоветовал отец.
Родди и сам так думал. Бабушка просто переживала. После того случая он научился ходить вразвалочку, широко расставляя ноги и прищурившись. Это вроде бы сработало. Никто к нему особо не приставал. Да и потом был еще Майк, и то, что они были вместе, здорово помогало.
Они с Майком почти все время были вместе, просто шатались по городу и здесь, по округе. Иногда, устав, бросали велосипеды в канаве, уходили в поле и валялись на земле, закинув руки за голову, обсуждали всякие планы и события, смотрели в небо.
Было здорово. Родди часто приходил сюда и один. Майку некоторые вещи не так интересны, как Родди. Например, пчелы, куда они летят и зачем, или улитка, ползущая по руке, или муравей, волочащий какого-нибудь жука, больше его самого, в муравейник, чтобы весь муравейник его ел. На это он мог смотреть часами. Потому что вблизи эти существа были совсем не противные и не страшные. Они были удивительные. Усики и мохнатые ножки шевелились, темные фасетчатые глаза высматривали опасность и добычу. У одного было кроваво-красное брюшко, другой был зеленый с радужным отливом. Лучше всего были те, которые со временем менялись и становились кем-то совершенно другим. У кого-нибудь, кто бегал или ползал, появлялись крылья. Хвосты отваливались. Шкурки меняли цвет. Отмершие части беспокойно шелестели, встревоженные последним мгновением жизни.
Дома он бритвенным лезвием вырезал картинки с крохотными многоногими и усатыми тварями в панцирях, с членистыми телами, из библиотечных книжек, осторожно-осторожно, чтобы никто не заметил пропажу. А еще из тех книжек, которые они с Майком крали в магазинах. Ему нравится его комната под крышей, с покатым потолком, о который можно удариться головой, если резко сесть в постели. Те блестящие фотографии из книжек он развесил низко на стенах. Из некоторых получились целые истории о том, как самые интересные существа превращались из ползающих в крылатых.
Отец говорил, что это гадость. Майк сказал: «Жуть». Но это потому, что фотографии были с большим увеличением. Бабушка сказала, что хорошо, что Родди всем этим интересуется, может, будет биологом или еще каким-нибудь ученым.
Ему нравился маленький серый письменный стол, за которым он делал уроки, бабушка говорила, что он еще дедушкин, и настольная лампа на гибкой ноге тоже нравилась. Когда он перестал злиться, бабушка сказала:
– Это все – твое, Родди. Делай с комнатой что хочешь.
Это было здорово, и пару лет назад он взял и перекрасит стены в черный цвет, и она ничего не сказала. Он решил, что так фотографии будут лучше смотреться, и потом ему показалось, что будет классно, как будто все время ночь. Бабушка промолчала и тогда, когда он увидел, что комната получилась жуткая и страшно унылая, и попробовал перекрасить все в желтый, а получилась грязь и разводы.
Бедная бабушка. Она и не думала, что к ней переедет ее сын со своим сыном и придется присматривать за ними, как будто никто не вырастал и не уезжал. Папа не слишком разговорчив, даже с ней. Правда, у них с Родди по-прежнему есть что-то вроде своего языка. Проходя мимо, он похлопывает Родди по плечу или проводит рукой по его макушке. Или еще, они смотрят хоккей, и когда бывает удачный пас или гол, он кричит: «Ай, хорошо!» – и они с Родди переглядываются и улыбаются. Родди так понимает, что в душе они в этот момент пожимают друг другу руки и хлопают друг друга по спине.
Слова, в общем, не так и важны. Бабушка говорит, важно, что человек делает. Папа работает и смотрит хоккей, бабушка печет и говорит Родди, чтобы он ел, а то вон какой тощий, и никому из них нельзя полностью доверять. А мама свалила. Серьезно, совсем свалила.
Когда Родди было четырнадцать, летом, они ему в конце концов рассказали.
– Ты уже взрослый, – сказал отец.
Может, бабушка настояла. Родди ее по-прежнему иногда доставал, все думал, что может найти мать, потому что, когда он думал о ней или вытаскивал те старые фотографии, ему казалось, что ее должно беспокоить, что с ним случилось, а может, она даже ищет его и ей плохо. По ночам, когда свет нигде не горел и он мог лежать в постели, глядя на верхушку дерева, растущего перед бабушкиным домом, он иногда представлял себе, как мама бродит по темным улицам, заглядывает в окна, останавливает прохожих, разыскивая своего сына. Он даже иногда немножко плакал, когда думал об этом.
И еще он хотел ей что-то сказать, что-то, что ее, может быть, спасет, хотя уже не помнил толком, что именно, и какая она, тоже уже не помнил, если не считать тех двух улыбающихся фотографий. И все-таки, даже если она изменилась так же сильно, как он сам и как папа, он бы ее узнал, когда увидел. А она его узнала бы? Было бы это в кино, узнала бы.
Как бы то ни было, ничего этого не произошло. Вместо этого как-то после ужина отец сказал:
– Ты уже взрослый. – И они с бабушкой уставились на него, как будто прикидывали, так ли это на самом деле.
В городе, где они раньше жили, был один мост. То есть там было много мостов, над рекой и железной дорогой, но этот был над скоростным шоссе, а не над чем-нибудь мягким, вроде воды. И туда люди шли, когда точно знали, что хотят умереть.
Мать Родди знала точно.
Больше чем за год до того, как они ему рассказали, она уже точно знала.
– Прости, сынок, – сказал папа.
– Родди, бедный ты мой, – сказала бабушка.
– Никто, – продолжал отец, хотя Родди уже не так ясно слышал, у него в голове крутились всякие слова и образы. – Никто не виноват. То ли они нужное лекарство не нашли, то ли она его не всегда принимала, и, наверное, ей было слишком плохо, она так больше не могла. Там что-то в организме меняется, какие-то вещества.
– Все пошло наперекосяк, – добавила бабушка.
Родди снова думал, что это за непонятные люди, которые решают все за других, и пробуют с ними что-то делать, и в конце концов делают не то? Если он к ним когда-нибудь попадет, остается надеяться, что ему повезет больше, чем матери.
– А почему, – спросил он, – вы ничего не сказали?
Отец опустил голову и смотрел на свои руки, лежащие на столе.
– Мы тогда думали, что не надо. Мы хотели, чтобы ты доучился спокойно, но теперь, я уже говорил, ты достаточно взрослый. Перешел в старший класс, уже можешь понять.
– Я понимаю, Родди, это тяжело, – сказала бабушка. – Твоя мама была чудесная, необыкновенная женщина, и она так тебя любила, ты даже не представляешь как. Когда ты родился, она все время брала тебя за ручку и показывала всем, какие у тебя замечательные пальчики. Она считала, что ты лучше всех. Да ты и был лучше всех. А она была очень хорошей мамой. Ты же помнишь, как она тебя любила. А с тем, что случилось, она просто не справилась. Она так старалась ради тебя и папы и так мучилась, когда ей становилось хуже. Я помню, она говорила, что, когда ей делалось плохо, ей казалось, что ей на голову натягивают черный мешок и она не может его стряхнуть. Я хочу сказать, она бы все отдала, если бы могла по-прежнему быть с тобой, и она очень старалась. Понимаешь?
Нет.
– Да, – сказал он. И потом: – Что, и похороны были?
Отцу явно было не по себе.
– Да, были.
– Ты там был?
– Да.
– А ты? – повернувшись к бабушке.
– Да. Мало кто ее помнил и пришел, но мы с папой были.
– А я где был?
– В школе.
Значит, был обычный день. И тайком от него, ничего не сказав, папа и бабушка ушли на похороны его матери. Это было чуть ли не хуже всего, то, что они могли так поступить, утаить это, так все сделать, что он даже не догадался, что произошло что-то важное. Родди встал и сказал:
– Ладно.
Он ушел к себе в комнату, лег на кровать и лежал на спине, очень тихо. В ту ночь он не то чтобы злился, он не знал, как это называется.
Правда, он знал, как это выглядело. Он видел ее, маленькую фигурку в пальто, вдалеке, медленно-медленно идущую в темноте. Видел высокий мост, на котором никого не было ночью. Внизу, на шоссе, оживленном в любое время, днем или ночью, сверкали фары, машина за машиной. Снизу слышался шум моторов и визг покрышек.
Он увидел, как она прислонилась к железной конструкции на краю моста, слушая шум, глядя, как проносятся внизу огни. Наверное, она думала – о чем?
О том, что все эти огни что-то значат, что люди едут куда-то, торопятся туда, где их ждут, с теми или к тем, кто им нужен. Может быть, она думала об этом. Стоя на мосту, там, наверху, в темноте, совсем одна.
Может быть, она скучала по сыну. Он подумал и об этом, хотя понимал, что могло быть и так, что о сыне она думала меньше всего на свете. Может быть, она совсем про него забыла. Но на сердце у нее точно было тяжело. Может быть, так тяжело, что она едва смогла вскарабкаться на железное ограждение моста. Может быть, так тяжело, что она думала, что оно сразу разобьется, когда она ударится о землю. Может быть, она так и хотела.
Он увидел, как она падает, как кукла, как манекен, как каскадер, который зарабатывает трюками на жизнь. Но что было у нее на сердце, он представить не мог. Он гадал, какой была ее последняя мысль, когда она падала. Может быть: «Нет». Может быть: «Наконец-то».
Сейчас, лежа на спине в высокой пшенице, глядя на темнеющее небо, усыпанное звездами, и на серьезные, внимательные морды немецких овчарок, которые совсем не выглядят злыми, слушая шаги, приближающиеся сквозь потревоженную, шуршащую траву и осторожно переговаривающиеся мужские голоса, Родди думает: «Нет».
Он сделал все, что мог. Пусть ничего не вышло, и этого было не избежать, он сделал все, что только смог.
«Все, что можно сделать – это стараться изо всех сил», – всегда говорит бабушка, хотя ничего подобного она не имела в виду.
И поэтому еще он думает: «Наконец-то».
А вообще, смешно. Родди считает, что все это – то, что он лежит здесь, и на него смотрят две собаки и тысячи звезд, и вокруг, наверное, копошится миллион всяких насекомых и невидимых тварей, – все это всерьез. Он думает, что это – очень важный момент, остановка между тем, что было, и чем-то еще, что будет дальше, совсем по-другому. И вот что смешно, чего он не ожидал: ему вдруг становится хорошо, ему нравится это остановившееся время. Он чувствует себя невесомым и свободным, как в космосе.
А еще ему больше не холодно.
Удивительно, как ему спокойно сейчас. Он всем доволен. Это так непривычно и здорово, хорошо бы оно так и осталось, навсегда. Он вздыхает, улыбается, глядя вверх, и в эту секунду он почти счастлив.
Сколько угодно времени
Лайл нехотя начинает рассказывать, и Айла наконец понемногу извлекает из памяти то, что произошло. Хотя то, что она вспоминает, и не совсем совпадает с рассказом Лайла.
«Прыгай в машину», – говорит Лайл, и Айла прыгает. Его пальцы исполняют коротенький номер на ее бедре, «подбираются к музыке», как он это называет. Ей по-прежнему нравится залезать в его старый, видавший виды пикап, такой большой, высокий, крепкий – настоящая рабочая машина для рабочего человека. Рытвины и ухабы проселка на грузовике с жесткой подвеской куда легче одолеть, чем на их машинах, хотя тех, кто сидит в кабине, швыряет из стороны в сторону. Айла чувствует себя в грузовике совсем крохотной, сидя на широком сиденье и не доставая до пола ногами, – как будто она снова ребенок, вернулась в детство; хотя и не в свое детство.
Проселок упирается в оживленное шоссе, иногда приходится долго ждать, прежде чем выехать на него. Удивительно, эта стремительная жизнь идет так близко от их дома и вместе с тем так далека от него. К ним приезжают гости, и даже те, кто бывал здесь прежде, рано или поздно замечают с изумлением:
«Никогда бы не подумал, что здесь может быть такое. Как будто совершенно другой мир».
Так и есть. Но до ближайшего городка все равно всего ничего, а если потом выбраться на скоростное шоссе и долго ехать, будет город, и работа, и еще один совершенно другой мир.
Они выезжают с проселка на шоссе, и остается восемь минут до городка, окраина которого, потихоньку ползущая в их сторону, начинается с автостоянок и магазинов, потом идут несколько улиц, застроенных деревянными, оштукатуренными и обитыми алюминием домиками, некоторые совсем разваливаются, другие выглядят аккуратно и чистенько. Старый центр города, деловой и жилой, выстроен из кирпича, там все основательно и, судя по всему, неизменно, по крайней мере внешне. Магазины переходят из рук в руки, дома тоже иногда меняют хозяев, то ли невыгодно, то ли денег не хватает поддерживать все в должном состоянии, создавать впечатление процветания и успеха. Но Лайл и Айла делают все, что от них зависит, покупают в местных магазинах все, что могут: продукты, инструменты, гвозди и удобрения, с которыми возится Лайл. Они примерные граждане, не то что всякие приезжие, которые жалуются на перемены.
«Мы постоянно ездим в город, – говорит Лайл гостям. – Нам нетрудно».
Они стараются поддержать местный бизнес, поэтому, когда они собрались за мороженым, не было нужды обсуждать, куда ехать, – конечно, в «Кафе Голди».
Когда-то «Кафе Голди» было настоящее кафе-мороженое, и, судя по всему, несколько десятков лет назад к нему прилагалась настоящая Голди. Теперь там продавали сигареты, газеты, марки, кое-какие товары для дома и продукты. В общем, обычный магазинчик, если бы вдоль витрины не стояли по-прежнему холодильники для мороженого – старые, большие, со стеклянными крышками, тяжелые и приземистые. Кафе уже давно нет, но подросткам, заполняющим «Кафе Голди» по вечерам и выходным, по-прежнему накладывают простые, двойные, тройные порции из глубоких контейнеров с разными сортами, которых, согласно рекламному щиту, стоящему на тротуаре у кафе, тридцать четыре. Милые старомодные детали, рекламный щит и холодильники, хотя персонал теперь с пирсингом, татуировками и волосами, выкрашенными в немыслимые цвета.
«Кафе Голди» сейчас принадлежит вдове по имени Дорин, ей примерно столько же лет, сколько Айле, но в остальном она на Айлу совсем не похожа. Она купила кафе, когда потеряла работу на оконной фабрике, на окраине города, противоположной от Лайла и Айлы, купила на деньги, полученные по страховке мужа, который умер от инфаркта, склонившись над бильярдным столом – или, как поговаривали, потянувшись хлопнуть официантку по заду, – в баре неподалеку.
«Я оказалась в подвешенном состоянии, – любит рассказывать Дорин, – не знала, что делать. А потом подумала: „Мороженое“». И это показалось решением проблемы. Проблемы Дорин это действительно решило, она превратилась из никому не известной работницы фабрики в городскую знаменитость: грубоватая, веселая тетка с острым языком, с каждым сезоном мороженого становившаяся все более заметной фигурой – не в смысле толщины, а в смысле известности.
Айле такое развитие событий кажется очень привлекательным, разве не здорово: тебя заметили, ты вдруг выросла в глазах окружающих, да и в собственных тоже! Держаться величественно у Айлы получилось бы запросто, но ей, на ее взгляд, не хватает непомерной благожелательности, без которой не обойтись, всеобщей веры в ее добросердечие, на которой держится репутация Дорин.
Айла считает себя жителем города. Хотя, скорее всего, в городе ее воспринимают как приезжую, появившуюся еще позже Лайла, к которому она, по общему представлению, в общем, и прилагается. Когда они с Лайлом стали жить вместе, и к ним начали относиться серьезно, ее спрашивали, чем она занимается, она говорила, что работает в рекламном агентстве, и это не вызывало никакого интереса. Могло быть и хуже, она могла признаться, что она – совладелец и вице-президент рекламного агентства, теперь, наверное, в городе об этом уже все знали, но даже то, что она работает в рекламном агентстве, было так далеко от их жизни, что в глазах ее собеседников ничего не отражалось, они кивали, и разговор шел дальше.
Айла думает, и без всякой снисходительности, что именно так к этому и нужно относиться. Раньше она не всегда так думала, но сейчас все иначе.
Ей было интересно, она считала, что так даже лучше: быть значительной в одном мире – по крайней мере, значительной в том смысле, что у нее в подчинении люди, и она разрабатывает смелые, дорогие проекты, – и быть здесь не то что никем, но кем-то, от кого ничего не зависит. Никто на нее не рассчитывает, разве что Лайл. Она, как ей кажется, всем нравится, во всяком случае, ей не выказывают неприязни, но если она исчезнет, никто не заметит.
Вот что она думает: если ее будут хоронить в городе, где она работает и где прожила большую часть жизни, придет много народу просто потому, что так положено, или из уважения, ей хочется думать, что многие ее искренне любят, а кого-то, кто до сих пор связывает ее с Джеймсом, приведет гнусное любопытство. Здесь все это мало кого заботит, а последнее так и вовсе никого. Здешние придут просто из абстрактного уважения к жизни и еще большего к смерти, не ради связей, о которых они, слава богу, не знают, и, в общем, не ради самой Айлы.
Она почти завидует Дорин, на чьи похороны придет искренне опечаленная толпа. Когда она упоминает об этом, Лайл говорит:
«Надо же, до чего мрачно ты иногда смотришь на вещи. Похороны!»
Иногда трудно объяснить образы и символы мужчине, тем более юристу, который все понимает в прямом смысле. Хотя, с другой стороны, его прямота для нее очень важна.
«Да нет, – говорит она. – Я о том, что похороны помогают все оценить. Подвести последний итог».
«Да, а ты обращала внимание, что те, кто подводит эти итоги, чаще всего говорят о самих себе? Можно подумать, чужая смерть – это только незначительное событие их собственной жизни».
Он прав. Но ведь она говорит о метафорических похоронах, а не о настоящих.
Как бы то ни было, разговаривая об этом, они благополучно добираются до города. Бывает так, что людям больше не о чем разговаривать? Еще как бывает. У них с Джеймсом так было. А еще бывало, что случалось всего так много и столько нужно было друг другу сказать, что слов уже не хватало. Но она не может представить, что им с Лайлом будет когда-нибудь не о чем поболтать за те примерно тридцать лет, что им остались. Вот почему речь зашла о мороженом и почему, наверное, она отвлеклась на мысли о подведении итогов и похоронах: они собирались отпраздновать появление новой надежды на эти тридцать с чем-то лет. Сколько бесед, сколько планов, сколько мелочей!
«Беги, – говорит он, – я не буду выключать мотор. Если поторопимся и оно не растает, можем поесть у реки».
«Какое тебе? Да, и сколько шариков – один, два, три?»
Такого рода мелочи.
«Три, конечно. По-моему, я заслужил большую порцию. С шоколадной стружкой. А потом, если место останется, возьмем что-нибудь фруктовое. На десерт, в общем».
В общем. А в частности, ей, в синем льняном костюме, предстоит нести две порции мороженого, двойную и тройную, и ехать пару минут до реки на грузовике. Ну и ладно. Костюм можно отдать в чистку; мужа, во всяком случае хорошего, не заменишь.
А в частности, она входит в кафе во время ограбления.
И как только она видит, что происходит, делать что-либо уже поздно. Только вошла, помахала Лайлу, повернулась к прилавку, к холодильнику, и парень с ружьем уже поворачивается к ней, уже вздрагивает, и она уже может его узнать.
Айла открывает рот, возможно, хочет его, Родди, по имени назвать. Он пострижен почти налысо, светленький, рыжеватый, живет в одном из тех оштукатуренных, не слишком ухоженных домов, в паре кварталов отсюда. По выходным мотается по городу с дружками, без всякой цели, они пихают друг друга, громко переговариваются. Обычные подростки. С точки зрения Айлы, ничего из ряда вон выходящего они натворить не могут. Так она полагала до тех пор, пока расширенные глаза Родди не встретились с ее собственными испуганными глазами и не случилось ужасное.
Она поворачивается, хотя в этом нет никакого смысла. Его палец дергается на спусковом крючке, хотя и в этом смысла нет.
Она думает, как все в одночасье становится нереальным. Как будто это кино, а не ее жизнь. Ей интересно, что люди думали, когда случалось что-нибудь, во что невозможно поверить, до того, как придумали кино; с чем тогда сравнивали это состояние.
Чем им казалось это покадровое прокручивание событий, плавное и неуловимое перемещение тел в пространстве и времени до того, как стало возможным опознать в нем замедленную съемку?
У нее сколько угодно времени, чтобы подумать об этом, пока ее тело продолжает поворачиваться, правая нога чуть сдвигается к двери, бедра слегка отклоняются влево, ее тело понимает, что все происходит на самом деле и резко начинает действовать, включает самозащиту, само принимает молниеносное решение бежать; в это время подбородок Родди вздергивается, глаза расширяются – какие же у него длинные ресницы при неказистой в общем-то внешности, – его спина выпрямляется, плечи разворачиваются, колени слегка сгибаются, он как будто чуть приседает, перенося вес на мыски, руки вытягиваются вперед и вверх, и неожиданное жесткое оцепенение страха делает его больше и выразительнее, делает его кем-то новым, огромным и чужим, едва похожим на подростка со слабыми костями и слабым характером, кем-то мгновенно и удивительно сформировавшимся.
Любое из этих двух тел, Родди или Айлы, могло упасть, поскользнуться, споткнуться, теряя равновесие, перенося вес и внимание, меняя направление. Но этого не произошло. Родди не падает лицом вниз, перенося вес на мыски; Айла не заваливается влево, продолжая поворачиваться к двери. Она видит сквозь стекло солнечный свет и бетон. Лайла она не видит и грузовика тоже, потому что они припарковались слева от входа. Она знает, что нетронутая, чистая жизнь там, за дверью, где свет, где нет испуганного мальчишки с ружьем, и сама она – не охваченная паникой женщина, чье время на исходе. Несколько минут, несколько секунд разницы, и ничего этого не было бы. Как это получается, что нечто подобное становится возможным из-за того, что раньше, днем она слишком торопилась или слишком медлила и оказалась здесь слишком рано или, наоборот, слишком поздно? Возможно, Родди тоже удивляется. Где продавец? И что хочет Родди?
Наверное, уже неважно, чего хотел Родди (а хотеть он должен был денег), как неважно и то, чего хотела Айла: те два стаканчика мороженого, которые они с Лайлом съели бы у реки. Того, что изначально собирались делать Родди и Айла, больше не существует. Им предстоит нечто новое. Она отчетливо понимает, что с Родди происходит то же самое, что и с ней, и приходит к выводу, что эта способность знать, что происходит одновременно с несколькими людьми, тоже результат воздействия кино.
Она в ярости, она очень зла. Не столько на Родди, сколько на Лайла. Она привыкла на него полагаться. Он стал совершенно незаменимым. Но когда он ей по-настоящему нужен, когда она действительно в беде – его нет рядом. Он сидит в грузовике, слушает музыку, или новости, или просто молча ждет мороженого, в любом случае, занят чем-то не тем, какой-то ерундой, вместо того чтобы быть здесь, где он ей нужен, делать то, чего она от него ждет, то есть спасать ее. Как он мог, как смел подобрать ее, поддерживать, а потом отпустить, чтобы она упала с такой высоты и так больно?
Вспоминать о Джейми и Аликс уже поздно, и, когда она о них вспоминает, это не вызывает никаких особых чувств – ни горя, ни, что, возможно, странно, прилива материнской любви. Сейчас они ничего не значат. Она ничего от них не ждет. Это от Лайла она привыкла ждать спасения, и, как оказалось, напрасно.
Он даже не дал ей переодеться. И сейчас она поворачивается, чтобы бежать, а ей мешают туфли на каблуках и облегающая синяя льняная юбка, стесняющая ее бедра.
Палец Родди напрягается. Она поворачивается, но по-прежнему видит его очень ясно, как будто у нее глаза на затылке.
«И не думай, что можешь вытворять что хочешь, если я не смотрю, – говорила ее мама. – У меня и на затылке есть глаза».
Может быть, ей это передалось.
А что передалось Родди? Желание рисковать? Мышечное напряжение, которое в особых обстоятельствах заставляет палец плотнее прилегать к спусковому крючку? Беспримесная, слепая, тупая склонность к неповиновению – духа, чувств, тела?
Она не знает этого мальчика. Ей нечего ему сказать. Кажется, что времени на всякие мысли предостаточно, но нет времени говорить.
А что, если она крикнет: «Не надо!», или «Ради бога!», или «Нет!».
Но уже слишком поздно. Только одно успевает прозвучать после того, как Айла ахает и Родди судорожно втягивает воздух, и это не слова.
Ей приходит в голову, что должно быть какое-то соответствие между значением события и его продолжительностью. Ничтожные, дурацкие дела, вроде дороги домой из города, отнимают целую вечность. На стрижку газона и прополку сада уходит чуть ли не вся жизнь. Даже кино, которое смотришь зимним вечером – в руке стакан, ноги на кофейном столике, миска попкорна между ними с Лайлом, – длится по меньшей мере полтора часа, иногда больше двух.
А сейчас – на какое-то очень долгое мгновение мир останавливается, ее тело зависает в воздухе, маленькая темная точка разрастается и разрастается, пока не остается лишь серебристая полоска света слева, а потом и она пропадает, тьма и тишина сливаются, и все сводится, все сворачивается в одно.