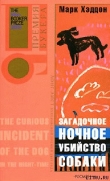Текст книги "Тяжкие повреждения"
Автор книги: Джоан Барфут
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
– Ох господи, – выдохнула Айла, – всегда может быть еще хуже.
С этим ничего нельзя было поделать. Они не могли остановиться.
– Мам! Бабушка! – мгновенно отрезвил их Джейми. Он был мрачен, как туча.
Мэдилейн успокоилась первой.
– Не сердись, – сказала она, – это просто разрядка. Нам всем иногда нужно разрядиться.
– Я ухожу.
Он развернулся. За ним захлопнулась входная дверь.
– Черт, – сказала Айла.
В кухню вплыла Аликс:
– Вы тут что, смеялись?
По тому, как она это произнесла, ясно было, что она с удовольствием не поверит своим ушам.
– Куда Джейми пошел?
– Ему захотелось пройтись, – сказала Мэдилейн. – Кушать хочешь? Я приготовила яичный салат. Мы с мамой просто разговаривали. Наверное, увлеклись и стали говорить слишком громко.
Айла не была уверена, что сможет что-нибудь съесть, чтобы ее не стошнило, но салат был хорош: вкус из детства, обычная, мамой приготовленная еда. Аликс поковырялась в тарелке:
– Ты пойдешь к папе? А то вдруг он скажет… Ну, ты знаешь.
Что он ничего не сделал, подумала Айла; наверное, Аликс имела в виду, что он может это сказать. Или что непонимание, путаница, просто зло было в чем-то другом. Или что он, папа-волшебник, может обернуть время вспять и вернуть их к относительному счастью, к чудесно скучному представлению о мире, которое было у них сутки назад.
– Может быть, – сказала Айла, не уточняя, что имеет в виду: что он скажет или что она пойдет к нему и спросит.
Бедный Джейми, сбежавший из дома, пытающийся убежать от того, что ему представлялось, от идиотского, необходимого смеха мамы и бабушки. Айла понимала, что его подтолкнуло. Если бы у нее не было его и Аликс, если бы она ни за кого не отвечала, она бы прыгнула в машину и помчалась, вдавив педаль газа в пол, через всю страну, на другой континент, куда угодно, куда могла бы добраться раньше преследовавших ее образов. Но у нее были Джейми и Аликс, она отвечала за них. Возможностей, как и картинок, представлявшихся ей, было немного. Все подчинялось Джеймсу и тому, что он сделал. Вот уж соль на раны. Она снова засмеялась, на этот раз резко и в одиночестве. Аликс и Мэдилейн вздрогнули.
Какие возможности, интересно, видит сейчас перед собой Джеймс? До недавнего времени их, должно быть, была масса, бесконечное разнообразие, полный буфет наслаждений, сколько сможешь жадно заглотить. Она неожиданно встала.
– Я еду в суд. – И, как Джейми, вышла из дома.
Внезапно стало необходимо срочно внимательно посмотреть на Джеймса. Изучить его, пытаясь связать то, что она думала прежде и что знала теперь. Она хотела бы, чтобы его можно было пришпилить булавками, как бездумные коллекционеры прикалывают бабочек, чтобы понять, как устроена их красота, чтобы понять, как устроена неуловимая, хитрая порочность – в его случае. Все дело в защитной окраске. В том, что существа меняют форму и цвет, чтобы их не замечали. Чтобы можно было делать что хочешь и тебе не мешали – теперь это было и про Джеймса, хотя звучало несколько безумно.
Женщина в справочной суда любезно помогла Айле отыскать нужный зал заседаний. Все оказалось организовано куда более по-деловому, чем она представляла: одно большое, полное народа, пространство, отведенное под определение меры пресечения. Смогла бы Айла так же легко выговаривать что-то вроде слов «определение меры пресечения»? Наверное, нет.
Она скользнула в один из последних рядов. Люди приходили и уходили. Она видела, где сидят адвокаты, и скамью, на которой сменялись заключенные, привезенные из тюрьмы, когда слушались их дела. Появлялись и другие обвиняемые, с адвокатами или без, приходившие из внешнего мира через ту же дверь, через которую пришла Айла. Зрителей было не так много, как она думала, никаких, к примеру, толп или убитых горем семей. Сам зал казался не предназначенным для церемоний, просто рабочее место. Никакого дорогого полированного дерева, резных украшений в виде весов Фемиды, просто большая, пустая, выкрашенная в серый цвет комната со скамьями и столами. Она начала понимать, как проходит слушание: называют имя, вызывают человека, как правило мужчину, зачитывают обвинение, приводят доводы за и против освобождения под залог, судья иногда подзывает адвокатов посовещаться, часто стороны приходят к соглашению без всяких совещаний, привычные, скучающие голоса следуют знакомому сценарию. Для Айлы все это было странным и чужим: вся эта жизнь, эти истории ограблений, сделок с наркотиками, тихих семейных вечеров, превратившихся бог знает во что, сошедших с рельсов. Такое жестокое зрелище, такая страшная драма! И все проходит так спокойно!
И, посмотрите-ка, вот и Джеймс; один из немногих заключенных, на ком был костюм, правда, костюм этот он не снимал со вчерашнего дня. Учитывая обстоятельства, выглядел он неплохо. Она поняла, что надеялась, что будут синяки, разбитая губа, какое-то праведное отмщение. Еще она предпочла бы, чтобы он больше сутулился, и глаза у него бегали, но он сидел прямо, спокойно, почти гордился собой. Нет, конечно, не гордился. Просто он с помощью костюма, сшитого на заказ, все еще сохранял защитную окраску. Но, однако, какое самообладание. И какая энергия нужна, чтобы хотя бы попробовать это преодолеть.
Стивен Годвин оказался холеным седовласым мужчиной, просуетившимся те несколько секунд, что ушли на то, чтобы определить Джеймсу меру пресечения и отказать в освобождении под залог. Адвокаты о чем-то быстро, неразборчиво поспорили, и все. Как заключила Айла, жизнь в преступном мире кипела, и Джеймс оказался в числе невеликих, хотя и наиболее гадких птиц.
Ей тем не менее это ничего не давало. Она могла быть потрясена, могла его презирать, но все-таки у нее была потребность, как в воздухе, как в пище, в том, чтобы увидеться с ним и послушать, что он скажет. И опять все оказалось организовано неожиданно по-деловому. Ее направили в нужную тюрьму, в нескольких километрах от здания суда. Кто бы мог подумать? Она поехала.
В тюрьме последовали формальности, связанные с удостоверением личности, предъявлением личных вещей и проходом через устройство, похожее на детектор металла в аэропорту. Обыска с обшариванием не было, и комната свиданий была просто комнатой, не перегороженной решетками или стеклом, как в кино, еще одно просто место, на этот раз там были стулья с прямыми спинками и охранник.
Джеймс, появившись в дверях, сказал:
– Айла! Слава богу.
В других обстоятельствах эти слова могли бы звучать почти трогательно. И ему лучше было бы на этом остановиться.
– Я надеюсь, ты принесла мне, во что переодеться, и бритвенные принадлежности. Поверить не могу, что меня все еще не выпустили под залог, но если у меня будут некоторые вещи, я, наверное, смогу продержаться еще несколько дней.
Какая жизнестойкость, какая способность к восстановлению сил.
Он и в самом деле был удивительным существом.
Красивый мужчина, хотя кожа под подбородком чуть обвисла и черты стали резче, чем были, но она подумала, что хорошим человеком он не выглядел. Был ли он им когда-нибудь? Было какое-нибудь преображение, которого она не заметила?
– Слушай, – сказал он, понижая голос и кивая в сторону охранника, – я не могу здесь разговаривать. Но мне очень жаль. Честное слово, я не хотел тебя огорчать, да и потом, все это такая чушь. Все это неправда, все высосано из пальца. И это не имеет никакого отношения к тебе, к моим чувствам к тебе, честное слово!
«Честное слово!» Как будто она такая дура, что не заметит, что, даже отрицая все, он признавался. Или как будто она не понимала, что за чувства у него к ней были прежде или какими стали теперь. Он всего лишь не хотел, чтобы она плохо о нем думала. Он вообще не любил, когда о нем думают плохо, но то, что было связано с ней, видимо, особенно задевало его гордость.
Об этом, как и о многом другом, он мог бы подумать и раньше.
– Это просто мелочь, и это другое. Но я тебе клянусь, оно не стоит того шума, который из-за него подняли. Очень жаль, что мне вчера не удалось об этом с тобой поговорить. Предупредить тебя. Я тебе все расскажу, когда буду дома, хорошо? Все совсем не так, как говорят, понимаешь?
Она не сводила с него глаз; потом покачала головой, не говоря «нет», просто чтобы в голове прояснилось.
– Ты удивительный человек, Джеймс. По-своему потрясающий. (Он попытался что-то сказать, но потом решил, возможно, оценив выражение ее лица, промолчать.) – Так вот, раз ты такой удивительный, может быть, посоветуешь, как помочь твоим сыну и дочке понять, что их отец насилует детей?
На лице у него отразился ужас.
– Бога ради, Айла, я не насилую детей. Как ты можешь такое говорить?
– Наверное, потому, что слышала обвинения. Те, которые уже есть. Я так понимаю, могут быть и другие. А ты как бы сказал?
Ей было любопытно. Должно быть, у них уже давно проблемы с переводом.
– Не детей, – настаивал он. Ему, похоже, казалось, что у него есть право настаивать. – Как ты могла такое подумать? У нас самих дети. Должна понимать.
– Так ты, – сказала она мягко, – поймешь, если какой-нибудь дяденька средних лет возьмет Аликс на работу года так через три, а потом накинется на нее? Это будет на твой взгляд нормально, вполне объяснимо, и это не будет насилие над ребенком? – Ее голос стал жестче. – Раз уж ты спросил, они с Джейми немного расстроены и растеряны. У них не все в порядке. Так что мне нужно к ним возвращаться.
Она посмотрела на часы. Часы с серебряным браслетом, которые он подарил ей, отдав выгравировать на них ее инициалы, пару лет назад, на Рождество. Она поняла, что начинает составлять список вещей, от которых придется избавиться. Жалко. Часы ей нравились.
– Айла, – сказал он умоляющим голосом. Прося ее о милосердии, о сочувствии, о чем-то вроде этого? Конечно, он мог придать своему голосу любое звучание, которое счел бы полезным. Или ее имя было последней привычной вещью, за которую он ухватился. Это было бы грустно.
– Мне нужно идти. Я только скажу тебе несколько слов. Первое – когда тебя отпустят под залог, который не я выплачу, домой ты не пойдешь. Второе – я тебе не слуга, так что, если тебе нужно белье и лосьон после бритья, придумай, как их достать. И третье. – Она наклонилась вперед, вглядываясь в него в последней тщетной попытке рассмотреть что-то в темноте за его глазами. – Ты понимал, что делаешь? Что в тебя вселилось? С чего ты взял, что можешь так рисковать своими детьми, не говоря уже обо мне? И какая часть твоего мозга сказала тебе, что это нормально – набрасываться на молоденьких девушек? Ты вообще понимал, что творишь? Ты кем себя вообразил?
У нее перехватило дыхание.
Он прищурился. Он тоже наклонился вперед, удивительный человек, как будто готовился к прыжку. Охранник слегка кашлянул, напоминая о себе. Они напряженно смотрели друг на друга. Ничего привычного не было. Долгая история была стерта.
– Ты поосторожнее, – сказал он медленно, твердо, с настоящей, ледяной яростью, – не спрашивай, если не уверена, что хочешь услышать ответ.
Она уже не первый раз слышала от него это, что-то в этом роде; но это был последний раз.
Она встала, повернулась и пошла прочь, остановилась в дверях и ненадолго обернулась. Ослепительно улыбнулась. Подождала ровно столько, чтобы он начал на что-то надеяться, чтобы глаза у него посветлели от облегчения, чтобы любовь – искренняя или притворная, – смягчила углы его рта.
И так, с ослепительной улыбкой она, слава богу, смогла спокойно добраться до дома.
По секрету
Отвечая на вопросы, которые казались и сложными, и по большей части бессмысленными, Родди по крайней мере может чем-то занять себя по вечерам. Форма за формой, страница за страницей, они позволяют ему отключиться от шума, от постоянного крика и ругани, от обещаний разобраться завтра, которые плывут по коридору от одного ненормального к другому и взрываются, достигая цели.
Еще хуже: время от времени – плач или громкие жалобы.
Он не может себе представить, что кто-то настолько заинтересуется им, его желаниями, склонностями и способностями, чтобы из всего этого что-то вышло. Наверное, все это просто загрузят в компьютер, и он выдаст какую-нибудь простую и ясную последовательность действий, которая, на сколько бы вопросов Родди ни ответил, на самом деле с ним слабо связана. Нет, а как иначе? Как и в школе, ответ нужно выбирать из предложенных вариантов. Как и в школе, вопросы сложнее, чем кажутся; и к тем, которые выглядят совсем невинно, он относится с большим подозрением, думая, что именно они и есть самые сложные, так что ему приходится кружить и кружить вокруг них, как собаке, которая топчется на полу, прежде чем улечься.
Ответы по большей части все равно неверные, как бы осторожен он ни был, потому что оттенки в расчет не берутся. Вот, например: «Ты бы предпочел: а) поиграть в хоккей, б) поплавать, в) посмотреть телевизор». Он бы мог ответить, что предпочел бы посмотреть хоккей по телевизору, как, бывало, с папой по вечерам, когда они сидели, не разговаривая, если только дело не доходило до красивого гола или драки, но все равно были вместе. Другой уже ближе к истине: «По телевизору ты любишь смотреть: а) спортивные программы, б) передачи о природе, с) сериалы». И все равно тут не все перечислено. Ощущение такое, что его заставляют выбирать из того, что он сам бы никогда не выбрал.
В тестах на умственное развитие полно вопросов со всякими моделями и фигурами: какое слово лишнее в этой группе? как будет выглядеть эта фигура, если ее вывернуть наизнанку и повернуть? Поезда и самолеты несутся друг на друга на разных скоростях – когда произойдет столкновение? У него хорошо получается со словами. Он может изменить фигуру в уме и понять, как она будет выглядеть, если ее вывернуть наизнанку и повернуть. С движущимися объектами труднее. Ясно одно, они столкнутся. К чему все и сводится, если вообще во всем этом есть какой-нибудь смысл.
Но по крайней мере в тестах на умственное развитие, какими бы хитрыми, сбивающими с толку или просто сложными они ни были, нужно давать простой ответ. Вопросы в других тестах, в тех, которые должны выявить, что он за человек, ему хочется пропустить – или оставляли бы место для пояснений, что ли. «Когда ты рассержен, тебе хочется: а) кричать, б) ударить по чему-то, в) ударить кого-то». Варианта «ничего из вышеперечисленного» нет, нет и места, чтобы сказать, что ему обычно хочется уйти в свою комнату, или уйти из дома, одному или с Майком, в город или в поля, по-разному бывает. Чтобы в голове прояснилось, злость выкипела, острые края сточились. А бить по чему-то бессмысленно, да и неестественно как-то; и он вряд ли кого-то бил оттого, что рассердился. Это больше похоже на то, как в воду входишь: определяешь свое место, не даешь себя свалить с ног, или закрутить, или утопить.
Некоторые орут, когда сердятся. Майк, например. Он видел, как Майк скачет, размахивает руками, выходит из себя из-за какой-нибудь ерунды, вроде спустившей велосипедной шины, какой-то мелкой неприятности. У Родди голосовые связки не так устроены, и руки у него не годятся для бурной жестикуляции. Орать – это принимать все близко к сердцу. Слишком раскрываться.
С тестами на способности тоже непросто. «Ты бы предпочел работать: а) с числами, б) со словами, в) руками». Это еще ладно. А что делать с этим: «Какое из этих животных кажется тебе опасным: а) собака, 5) леопард, в) скунс». Это вообще к чему? Разве что этот Стэн Снелл, консультант, или психолог, или кто он там, собирается учить его на укротителя или смотрителя зоопарка, иначе какая разница, какое животное кажется ему опасным?
Та женщина, думает он, работает со словами, она же рекламой занимается. Наверное, она богатая и, наверное, раз у нее такая работа, умная. Ужасно трудно быть умной и лежать неподвижно, ничего не чувствовать. Может быть, он и та женщина в очень похожем положении, у них обоих голова идет кругом, и оба они ничего не могут поделать с тем, что происходит. Наверное, кровать в больнице примерно такого же размера, как его койка в камере. Даже если Родди лежит очень спокойно, он все равно чувствует под собой жесткий матрас, грубое одеяло, которым накрыт, то, как бьется сердце, как немножко урчит в животе. Где его пятки, как у него дрожат веки, когда он напрягается, – она ничего этого не чувствует? И если у нее что-то чешется, не может почесаться? Да, но, наверное, у нее и чесаться ничего не может.
За то, что был таким идиотом и позволил всему этому произойти, он заслуживает и этой койки, и серых стен, и унитаза без крышки. Родди именно там, где и должен быть. Он на своем месте в этом мире полоумных, тупых, тех, с кем обошлись сурово и несправедливо. Не обязательно плохих – вот он не совсем плохой, и он наверняка не один такой – но каких-то переродившихся, перекрученных, каких-то полустертых. Здесь есть люди, похожие на высохших змей, раздавленных грузовиком. А есть и уроды какие-то, вроде белок-альбиносов.
Звуки, несмолкающий гул голосов, звучащих то громче, то тише, шум шагов, звон посуды, стук бильярдных шаров, орущий телевизор, даже просто шуршание страниц – это одно. А есть еще запахи. Здесь воняет дезинфекцией и заключением: безумный запах отчаяния, который всех так или иначе выводит из себя. Ночами здесь кричат, во сне или наяву, боль продолжается круглые сутки. Родди думает, что и он мог бы так, если бы решил, что так нужно, если бы захотел, если бы не был против того, чтобы другие знали, что происходит у него в голове.
Если бы думал, что им не все равно.
Теперь он лучше себе представляет, как все будет. Стэн Снелл и Эд Конрад объясняли, что после того, как ему вынесут приговор, недели через две примерно, его переведут из изолятора в исправительную колонию. Это слово, исправительная, должно бы звучать хорошо, обещать надежду и изменение жизни, какое-то улучшение, но явно не звучит.
О том, чтобы признать себя виновным, вопросов быть не может, он это сделает сегодня. Потому что он виновен; и, конечно, потому, что в ту первую ночь он признался, просто разболтал полицейским обо всем, вплоть до того, что у них с папой и бабушкой было на ужин. Обо всем, кроме Майка. Что же удивляться, что Эд Конрад все время вздыхает. Родди положился бы, если бы мог, на милость и понимание, на официальное, судебное понимание единственной, маленькой, все разрушившей ошибки.
«Надеяться ты можешь, – говорит Эд Конрад, – но я бы особо не рассчитывал».
Родди казалось, что правосудие вершится медленно, но адвокат объяснил, что все иначе:
«Признание вины все ускоряет. Это на судебное разбирательство уходит целая вечность».
Что Эд Конрад сделал для Родди, так это заключил сделку, договорился. Он очень горд собой, горд, что ему это удалось.
«Ты признаешь себя виновным в вооруженном ограблении, и обвинение в покушении на убийство снимается. Это здорово, знаешь ли, отделаться от обвинения в покушении на убийство. Я сказал, что если они будут настаивать, будет судебное разбирательство, потому что ты себя виновным не признаешь, и есть все основания полагать, что ты выкрутишься. Но если они снимут обвинение, ты сознаешься в вооруженном ограблении, и все закончится. Все сэкономят время и деньги, тебе зачтется то, что ты избавил всех от лишних процедур, и от процедуры допроса свидетелей тоже, например той женщины, так будет лучше и для тебя, и для всех. – Он усмехнулся. – Кроме меня. Для меня было бы лучше заваливать твоего отца счетами, пытаясь как-нибудь тебя защитить».
Мило.
А вообще, он, наверное, прав, он все время защищает тех, кто виновен в том, в чем их обвиняют, так что все, что он может сделать, – это вытаскивать их, как умеет. И может быть, не его это вина, что в такую работу душу не вложишь, он же делает все, что должен. Наверное, это уже здорово, достаточно здорово. Родди рад, что ему не придется давать показания и видеть, как вызывают свидетелей. Не столько ту парализованную женщину, да она и не сможет, других, например папу, ведь это его ружье. И Майка. Что бы ни сказал Майк, выслушать это будет нелегко.
А так Эд Конрад сказал, что зачитают обвинение, потом что-то расскажут полицейские, только факты, в общем «ничего страшного». Он говорит, единственное, что может случиться, это что та женщина или кто-то из ее семьи захочет сделать какое-нибудь заявление перед вынесением приговора.
«И ты начинай думать, что скажешь в суде, чтобы все поняли, какой ты славный парень, и как обо всем сожалеешь».
В голосе Эда Конрада иногда начинает звучать какой-то ржавый металл. Именно из-за Родди или ему вообще его клиенты не слишком нравятся?
«Напиши что-нибудь, – сказал он. – По крайней мере, начни». И Родди попытался. Только вот у него может получаться вычеркнуть лишнее слово из группы слов, но он заходит в тупик, когда доходит до выражения важной мысли целиком. Он написал: «Я прощу прощения». А дальше? Что еще сказать? Что он все бы отдал, чтобы все изменить? Что он этого не хотел? Слова ничего не меняют, они ничего не исправят, они недостаточно сильны для настоящей жизни.
Может быть, поэтому здесь столько крика и тех, других звуков страдания, которые еще хуже: потому что слов недостаточно. Со временем, возможно, и у самого Родди будет оставаться все меньше и меньше слов, пока, наконец, он не станет просто показывать пальцем и мычать.
Этим утром, когда звучит сигнал подъема, распорядок Родди внезапно меняется. За ним приходит охранник, и Родди не встает в очередь в столовой. Он и еще трое идут прямо в душ, а когда они выходят, им дают не коричневые спортивные костюмы, а настоящую одежду. Наверное, бабушка или отец привезли вещи. Его единственные строгие брюки, темно-серые, которые он ни разу не надевал с тех пор, как бабушка их по дешевке купила в прошлом году, «потому что будут в твоей жизни особые случаи».
Вот как раз один из них.
И еще белая рубашка, которую он раньше не видел. Новая. Специально купленная? Кто, интересно, носит белые рубашки?
Те, кого обвиняют в серьезных преступлениях, так он думает.
И в общем ему кажется, что он неплохо выглядит. Тело у него куда больше приспособлено к брюкам и белой рубашке, чем к тому, чтобы болтаться в коричневых спортивных костюмах.
Одному из трех других парней нечего надеть, кроме спортивного костюма. Ужас; никого нет, кто бы удосужился хотя бы одежду принести.
– Ты, твою мать, – говорит тот парень, – чего уставился?
– Уймись, – предупреждает охранник.
Их грузят в фургон, чтобы снова везти в суд. Это как наркотик – подышать несколько секунд горячим, вольным воздухом, глубоко вдыхая, как будто вернулся на неделю, на две назад, в те семнадцать лет, когда такой воздух был нормальным, когда им можно было дышать, и это было в порядке вещей. И еще, на секунду между воротами и фургоном на его голову обрушилась жара. В такой денек хорошо за городом. Денек, чтобы поплавать, курнуть травки, пивка попить, поесть мороженого.
Только не мороженое.
Он, все остальные и охранники поднимаются в зал суда на лифте прямо из гаража в подвале, в конце пути им не приходится выйти на улицу. Их вводят через боковую дверь и усаживают рядком на скамье. Как птицы на проводе. Бабушка и отец Родди сидят вместе во втором ряду в той части зала, где помещаются зрители, или как это называется в суде. Там полно незнакомых людей. Может, они пришли посмотреть на кого-то из других парней, а может, просто из любопытства, поглазеть, как идет суд, упиться чужим несчастьем. Его, например; он сам чувствует себя совершенно обреченным.
Господи, а ведь кто-нибудь из них, может быть, связан с той женщиной. Он не уверен, узнает ли ее мужа, если еще раз его увидит. В дверях «Кафе Голди» он был просто силуэтом, не человеком, чье лицо Родди, захваченный своей катастрофой, мог запомнить. Еще у нее двое детей, о которых говорил Эд Конрад, они старше Родди. Так что возможно, что один, два, три или двадцать человек в этом зале – члены ее семьи. Он представлял себе, как один из них встает в зале суда, вынимает пистолет и всаживает в него пулю. И это по-прежнему не кажется невозможным, хотя, с другой стороны, кажется. Он не хочет умирать. Просто дышать – это уже что-то. Интересно, той женщине тоже так кажется? Вряд ли. Она, наверное, думает, что просто дышать недостаточно.
За этими людьми хоть кто-нибудь наблюдает?
Отец и бабушка смотрят на него, бабушка улыбается и кивает, но потом они отводят глаза. Они принесли ему одежду, они платят адвокату, но они могли его не простить. Или отец мог его не простить, а бабушка выбрала, кому она будет верна.
Люди ради верности совершают большие ошибки. Попадают из-за нее в беду. Взять хоть его самого: когда дошло до дела, он чуть было не передумал насчет «Кафе Голди», но не отступил. Думал, что подведет Майка.
Это не совсем правда. Он не отступил, потому что не хотел, чтобы Майк в нем разочаровался; а это не совсем то же, что верность.
А Майка опять нет. Родди опускает взгляд, смотрит на свои ноги, на коленки, на худые запястья без наручников. Безнадежный, тоскливый, тяжелый случай, вот как все это, на его взгляд, выглядит.
На этот раз судья настоящий, в черной мантии и все такое. Когда он входит, все встают, а потом опять садятся, он осматривает зал, бросает взгляд на Родди и остальных, но ни на ком не задерживается. Возможно, для него это просто еще один рабочий день. Как отец Родди, встает каждое утро, может, это просто работа, которую нужно делать, потому что у него есть какие-то обязанности, ему о ком-то нужно заботиться. В любом случае, непохоже, что его интересуют те, кто собрался в этом зале, хотя сложно увидеть доброту или жестокость в таком толстом лице и небольшом количестве седых волос. Главное – это все равно черная мантия. Очень серьезно выглядит.
Когда объявляют дело Родди, это как выход на сцену. Его одного ведут с боковой скамьи на стул рядом с Эдом Конрадом, за одним из столов перед судьей. За другим большим столом сидит какая-то женщина и один из полицейских, которые его взяли. Тот, что побольше и постарше; он был добрее, хотя он явно не на стороне Родди.
А Родди опять делает то, что ему и во сне не могло присниться: встает рядом с Эдом Конрадом и признает себя виновным в вооруженном ограблении. Он слышит свой голос:
«Виновен», – когда судья велит ему говорить. Эд Конрад сказал, что в суде надо говорить внятно, так он и делает, и слово «виновен» отдается и разносится по всему залу, как будто он этим гордится.
Все очень плохо. Женщина, адвокат противной стороны, та, которая сидит с полицейским за другим столом, рассказывает, как все было. Потом вступаст полицейский, излагает все факты, включая то, что рассказал им сам Родди, а это значит все, кроме Майка.
Еще полицейский зачитывает заявления других людей: мужа той женщины, про то, как он сидел в грузовике снаружи, услышал выстрел, вбежал внутрь и увидел Родди. И как Родди вырвало, тоже увидел, как он отдал ружье Майку и убежал. Так стыдно это слушать: что вырвало и что сбежал.
– На сегодняшний день нам не удалось доказать, что у обвиняемого были сообщники.
На то, чтобы расшифровать это предложение, уходит какое-то время. Это значит, догадывается Родди, что они пытались еще кого-то привлечь, Майка, и не смогли, но на этом дело не закончится. Майк может по-прежнему прятаться. Может, поэтому его здесь и нет. Даже так.
Эд Конрад склоняется к нему с приветливым лицом, как будто собирается что-то спросить у своего клиента, и шипит:
– Сядь прямо. Руки положи на колени. И убери с лица это выражение.
Если он о том, чтобы Родди перестал щуриться, то это невозможно. И так плохо, что все знают, как его вырвало. Будет только хуже, если он заплачет.
Полицейский говорит:
– Пострадавшая все еще в больнице, прогноз относительно ее полного или частичного выздоровлении пока туманен.
Это значит, что Родди не единственный, кто не до конца понимает, что натворил. Так странно, что есть эта женщина, которую он при встрече, наверное, и не узнает, если только она не будет в том же синем костюме, и они внезапно совершенно изменили друг другу жизнь. Родди мотает головой, потому что она никак не прояснится. Эд Конрад откашливается, ерзает на стуле и хмурится.
Полицейский рассказывает про Дорин: что она уехала на несколько дней к сестре; что преступники, наверное, думали, что она сделает, как в прошлом году, то есть велит оставлять всю выручку в кафе до своего возвращения, только на этот раз она передумала. Полицейский говорит:
– Выбор времени преступления говорит об умысле и осведомленности. Преступление было нацелено именно на «Кафе Голди», это не случайный выбор.
Эд Конрад возражает. Он говорит, что это бездоказательное предположение, а не один из фактов, имеющих отношение к делу, которые должен излагать офицер. Судья соглашается. Эд сам себе кивает, как будто сделал что-то умное.
Когда приходит его очередь задавать вопросы, все, что делает Эд Конрад, это заводит речь о том, как отец Родди хранит ружье и патроны.
– Моему клиенту, в конце концов, всего семнадцать, – говорит он. – Окружающие его взрослые должны быть ответственнее и защищать его, если потребуется, даже от него самого.
– Это вопрос? – спрашивает судья.
– Это? – говорит Эд. – Нет. – И садится.
Если бы это не касалось самого Родди, было бы смешно. А Эд Конрад все-таки крут. Если учесть, кто ему платит, это сильно: предположить, что отец Родди тоже кое в чем виноват. Или что он дурак. По-любому.
На этом почти все заканчивается, только адвокаты, та, что против Родди, и Эд Конрад, подводят итог. Та, что против него, заводит речь про умышленное преступление, подростковое насилие, жестокость, безответственное поведение, невинную жертву, необходимость сурового наказания в назидание другим. Родди все это кажется общими фразами; как будто это не совсем о нем.
Эд Конрад ведет себя совсем по-другому. Для начала он медленно и тихо говорит о матери Родди, но что он может о ней знать? Он рассказывает о мальчике, которого выдернули из привычной обстановки и окружения из-за семейной трагедии. Трудолюбивая семья, тяжелое положение, любящие бабушка и отец, старающиеся изо всех сил; у того, кого так поддерживают, есть будущее. Беспечный, неразумный, трагический поступок, говорит он, совершенный мальчиком, в котором есть хорошие задатки, которые окончательно погубит суровое наказание.
– Он совершил ужасный поступок, – говорит Эд Конрад. – Но он не ужасный человек. Лишь однажды он пошел против своей натуры, и это не должно погубить такой потенциал.
Что, по его мнению, он знает о натуре Родди? У Родди нет четкого представления о себе самом. И о потенциале тоже. Он вообще не хочет думать об этом слове. Оно означает будущее, которого не будет. Что он мог бы сделать, что могло бы получиться, если бы у него получилось.