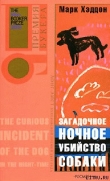Текст книги "Тяжкие повреждения"
Автор книги: Джоан Барфут
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
О чем же он размышляет сегодня, двигаясь взад и вперед под солнцем?
Раньше они приходили домой каждый со своей интересной работы, и вместе красили, стригли кусты, занимались садом и чинили водосточные трубы и навесы, вместе готовили, убирали, валяли дурака. В отсутствие детей работа по дому обрела несколько иное качество, они почти перестали воспринимать ее как работу. И гулять они тоже ходили: вдоль проселка, через поля, просто пройтись, ничего, требующего особых усилий, но теперь ей и на это рассчитывать не приходится.
Да. Еще кое-что. Иногда во время прогулок они ложились в высокие посевы на одном из своих полей, отданных в аренду, и на воздухе, в тени занимались любовью.
Боль этих утрат снова пронзает ее исподтишка.
Что ж, так и должно быть. Она это знала. Она просто не понимала, что каждый раз это будет так неожиданно.
Вряд ли она теперь соблазнительна или желанна – со своими-то вялыми конечностями и разными отталкивающими, неповоротливыми приспособлениями.
Она смотрит на весьма привлекательного мужчину, стригущего газон, и так хочет встать, подойти к нему, прижаться к его спине, обвить руками его ребра, его грудную клетку, его всего, волшебного и удивительного.
Только это желание скорее умозрительно, восстановлено по памяти.
Как бы то ни было, любовь включает в себя много всего, много форм. И много чувств, конечно, тоже.
Когда он заглушает косилку, тишина внезапна и огромна. Он стаскивает рубашку со столба ограды и вытирает блестящую от пота грудь. Смотрит из зеленой и голубой дали на нее, улыбается. Она улыбается в ответ. Раньше она могла бы пойти с ним наверх, в душ. Они бы грубо, нежно терли друг друга, внешние и скрытые поверхности. Смеялись бы, обнимались по-всякому, а потом, может быть, перешли бы, оставляя за собой мокрые следы, на кровать, повинуясь счастливому импульсу, соединившему их тела с головы до ног.
Сегодня, проходя мимо нее, он останавливается, касается ее плеча, говорит:
– Ты как, нормально? – и, когда она кивает, уходит в дом.
Она плакала несколько раз с тех пор, как вернулась домой; тихо, как сейчас. Не желая, чтобы он знал, как ей грустно. Как страшно.
Она видела это мгновение на веранде в солнечном свете, но как фотографию, как пейзаж, как некое достижение. Так оно и есть, но еще это – узкий, трудноопределимый выход к чему-то еще.
И хватит об этом.
День сегодня замечательный. И среди прочих изменений, тех деталей, о которых Лайл догадался позаботиться, в отличие от того, что им обоим только предстоит для себя открыть, есть гладкая, зацементированная дорожка от подножия пандуса, свежий путь через лужайку к проселку и новому, темно-зеленому фургончику с парковочной наклейкой «инвалид», которую она может ненавидеть, сколько угодно, но с которой, конечно же, очень удобно. Практичный, умелый, разумный, все предвидящий Лайл: просто делает что-то, устраивает все в ее отсутствие.
Гладкий цемент манит. Она стала чертовски хорошим водителем инвалидной коляски, ловко справляется с поворотами, а на спуске ей просто нет равных, она обнаружила, что получает настоящее удовольствие от занятий на парковке реабилитационного центра, передвигаясь и разучивая маневры. Она сейчас одна. Через секунду, подоткнув плед потуже и развернув коляску, такую легкую и устойчивую, она скатывается, не разбирая дороги, по пандусу вниз, щелкает выключателем и с жужжанием мчится к проселку. Потом разворачивается и, жужжа, на полной скорости мчится обратно. Даже ветер подняла! Как здорово. Ей бы хотелось отправиться куда дальше и быстрее, и, может быть, она вскоре научится ездить на задних колесах, если на коляске так можно, но пока она просто исполняет свой маленький каприз, оставшись одна.
Взад и вперед, как Лайл с косилкой, каждый раз, доехав до конца цементной дорожки, она сдает назад и разворачивается.
И начинает казаться, что вполне можно добраться до проселка. Небольшое путешествие, только часть пути, просто рывок на короткую дистанцию по твердой земле и гравию. Терпение, время, приличная поверхность – и на инвалидной коляске можно добраться куда угодно. Она могла бы доехать до города. Отправиться дальше в поля. Она полагает, что тащиться вдоль скоростных шоссе запрещено законом; иначе она могла бы стартовать всерьез.
Просто, чтобы это сделать; не для того, чтобы сбежать.
Да, тут сплошные ухабы, и нужно ехать медленно, и не сводить глаз с дороги, высматривая рытвины и крупные камни. Рулить на неровной поверхности, конечно же, труднее, и, наверное, коляска потяжелее не прыгала бы так своевольно. Но как кружит голову то, что она может это сделать! То, что она знает, что может убежать, хотя она не хочет убегать, просто выяснила, что ей очень нравится знать, что она это может.
И еще может вернуться, когда захочет. Там, где проселок изгибается, она поворачивает медленнее, осторожнее, зная, что здесь дорога идет под уклон, и останавливается. Вот он снова, тот первый вид. Изуродованный пандусом и дорожкой, это да, но это тот же основательный кирпичный дом, та же обнимающая его веранда, те же обступающие, защищающие дом деревья. Что ж, она дома.
И вот на веранду выходит Лайл, одетый в брюки цвета хаки и голубую рубашку, волосы прилизаны после душа; он оглядывается по сторонам, смотрит в ее сторону, начинает смеяться, заметив ее, машет ей.
Она машет в ответ.
Из этого что-то может выйти.
Она берется за дело и осторожно катится вперед. Он спускается с веранды. Они встречаются на новой цементной дорожке. Она чувствует, что разрумянилась, она чувствует себя почти победителем. Он, как ей кажется, впечатлен. Как интересно производить впечатление. Раньше это, наверное, было для нее привычно, там, в большом мире, но теперь – опять нечто новое.
– Привет, – говорит он. – Пустилась в бега?
Хорошо, что они почти перестали беспокоиться из-за болезненных ассоциаций, которые могут вызвать слова. Например, «в бега». Тяжкий был труд: вся эта цензура, смущение из-за постоянных промахов. Наблюдать чужую неловкость, тем более наблюдать, что сама она стала как-то чересчур чувствительна.
– Ага, – говорит она. – Пытаюсь выяснить, как далеко моя ласточка может доехать без подзарядки.
Каждую ночь, когда она укладывается, коляску ставят на подзарядку. Эта – ее учебная модель, вторая уже заказана. Им с Лайлом, как он говорит, очень повезло, что они небедные. Ей повезло, это ее деньги, та чрезвычайно приятная сумма, которую они с Мартином получили, продав агентство, именно из нее оплачивается домашний уход, физиотерапевт, коляски. Лайл профинансировал переделки в доме. Одна эта отвратительная ванная обошлась в небольшое состояние.
– Я подумывала, не доехать ли до дороги, чтобы погонять по-настоящему. И научиться поднимать коляску на задние колеса, ты знаешь, как это делается?
– Понятия не имею. С мотоциклом, да, я так однажды свалился, когда еще пацаном был: нажал на газ, и мы с мотоциклом оба полетели. Причем совершенно случайно, я вообще-то собирался ехать прямо вперед, а эта тварь взяла и встала на дыбы.
– Ты ушибся? – Ей приятно, что пока еще остаются неизвестные моменты в истории, что они еще не все знают друг о друге.
– He-а, слишком испугался.
Да, шок от происходящего: полезное, мгновенное обезболивание. Она знает.
– Слушай-ка, ты не собираешься подняться в дом и начать готовиться? Они скоро будут, пара часов осталась.
Собираются отмечать ее возвращение домой. Мартин, сыновья Лайла, и Джейми, и Аликс тоже. Мэдилейн и Берт. Лайл постриг газон, нанял людей привести дом в порядок и привезти еды, хотя будет всего человек девять-десять, зависит от того, приведут ли кого-нибудь с собой мальчики Лайла. Разумеется, придет время, когда Айла освоится с домашней работой и на кухне, и все у нее будет получаться так ловко и гладко, что они с Лайлом без проблем осилят прием десяти гостей, как раньше. Может быть, единственное, что ей будет трудновато делать, это вытирать пыль с верхних полок. Она научится стричь кусты с низко висящими ветками, срезать цветы с длинными стеблями. Они с Лайлом войдут в новый ритм и снова смогут здесь вместе работать и развлекаться.
Но не сегодня.
Ей нравится, что он не предлагает покатить ее коляску вверх по пандусу. Он не нависает,как нависал бы над ней кто-нибудь, считающий, что она или поглупела, или ничего не может. Честно говоря, Мэдилейн немножко нависает. Может быть, просто сказывается, в конце концов, возраст. Может быть, дело в том, что Айла – ее дочь. Но все же она приезжает пораньше, чтобы помочь Айле одеться. Айла, конечно же, наденет одно из новых длинных, скрывающих все летних платьев, из которых теперь большей частью и состоит ее гардероб; это – бежевое с голубыми и желтыми цветочками, оно элегантнее прочих. По стилю все это близко к тому, что носила Аликс в Корпусе Умиротворения. Прямо жаль, что она их повыбрасывала, могли бы пригодиться.
Предполагается, что сегодня Аликс приедет с Джейми, потому что она не может позволить себе машину. Он стал таким надежным и внушающим доверие, что рискует докатиться до почти тревожащей солидности. Дети у нее, так Айла считает, не приемлют полумер, хотя, коль скоро она сама обнаружила, что полумеры ей ненавистны, не ей их осуждать.
С Аликс новая история. А то как же. Похоже, она метнулась от умиротворения прямиком в хаос. Это, конечно, не совсем так. На самом деле она сменила Корпус Умиротворения на двухкомнатную квартиру с ванной где-то в городе; свежий воздух – на грязь и копоть; придурошные духовные искания на придурошную общественную работу. Но это, опять-таки, если рассуждать легкомысленно. Если честно и всерьез, то Айла относится ко всему этому с большим уважением, хотя и с недоверием.
Ее дети поставили перед собой серьезные цели. Джейми ближайшие три-четыре года будет изучать психологию, социологию и то, как работает мозг в прямом, физическом смысле. Больше никаких цветов. Он делает все, чтобы осуществились его планы работать с наркоманами, но теперь кажется, что сам он не сорвется, даже в очень плохой компании. И Аликс, невесомая Аликс больше не носит прозрачные платья, и внимание ее переключилось со старых уголовников на молодых. То бишь с мерзкого Мастера Эмброуза на мерзкого мальчишку, который стрелял в Айлу.
И таких, как он.
Айла старается, чтобы ее мысли не склонялись к раскаленным сковородкам и кострам. Слишком просто, это во-первых. Во-вторых, это, может быть, неверно. У Аликс прорезался голос, и он оказался очень убежденным, даже громким. Как, например, когда он зазвенел однажды вечером в новостях по телевизору, выражая перед правительственным зданием в окружении кучки сочувствующих крайне потрепанного вида громкий протест против закрытия какой-то программы для малолетних правонарушителей.
«Глянь-ка, – сказал Лайл в палате Айлы в реабилитационном центре, подавшись вперед, – это там не Аликс?»
Она самая.
Она ездила к этому мальчишке, к Роду, в выходные, раз в две недели.
«Я пытаюсь его понять, – объясняла она. (Айла подумала, но не сказала, что затея та еще: понять парня, который стрелял в твою мать.) – Я знаю, что это ужасно прозвучит, но он действительно по-своему милый. Он не знает вообще ничего».
Как будто это одно и то же. Посещая его, она встречалась и с другими людьми: с семьями малолетних преступников, с их подружками, с самими малолетними преступниками – судя по всему, с дружками Рода.
«Я хочу знать, как это получается, – сказала она. И, прозрачная, как всегда, проницательно добавила: – Потому что то, что случилось с тобой, ужасно. Надо выяснить, как сделать, чтобы такое не случалось с другими».
Ну, оно ведь не просто случилось, так? Это, Аликс, твой милый Род нажал на курок, вряд ли тут можно говорить о пассивном участии. Но да, было бы здорово, если бы другие милые мальчики больше не палили по окружающим.
Аликс немножко зарабатывает, работая в центре трудоустройства для молодежи, подбирая учебные программы и работу для трудных подростков. Еще она на общественных началах подвизается в приюте для беспризорников, хотя, как Айла понимает, мальчишка, который в нее выстрелил, вовсе не был беспризорником, он, поганец, был вроде деревенского дурачка. Она выступает перед старшеклассниками, и, если на то пошло, на перекрестках, и перед правительственными зданиями. Она страстно борется за искоренение преступности в зародыше.
«Потому что, – говорит она, – подросткам все может казаться таким унылым.Рабочих мест мало, зато тупой работы полно, никакого будущего. Им нужна мечта.Им нужно чего-то хотеть, они должны к чему-то стремиться, а им редко помогают найти что-нибудь такое. Им нужна надежда».
Да. Что ж. В этом они не одиноки.
Говорит ли о чем-нибудь то, что дети Айлы, ни один, не посвятили себя проблемам инвалидов, парализованных, тех, кому достаются пули наркоманов и лишенных мечты?
То, как резко и полностью Аликс переключается на что-то новое, тревожит и даже нервирует. Она даже не вернулась на ферму Корпуса Умиротворения за вещами, просто потому, что, как она выразилась, «там нет ничего, что сейчас имело бы значение».
«Твой Мастер Эмброуз сердится?» – спросила Айла. Она надеялась, что да. Но Аликс посмотрела на нее с недоумением:
«Он никогда не сердится».
Ну уж.
«Он знает, что я найду свой путь к умиротворению. А я знаю, что не смогла бы это сделать без него. Он понимает, что, работая над собой, вырастаешь из привязанностей».
Айла в этом сомневалась. Она сомневалась, что Мастер Эмброуз думал, что его оставят.
«Тогда ты молодец, – сухо сказала она. – И он тоже».
Аликс, бедная глупая зайка, просияла.
Нет, вовсе она не бедная глупая зайка, она просто не знает, что делать со своим огромным, все еще работающим вхолостую сердцем. Айла беспокоится и об Аликс, и о Джейми, которые где-то там, далеко, общаются с опасными, отчаянными людьми. Они могут не знать, насколько это опасно, ни один из них не пережил того, что пережила Айла в «Кафе Голди»: изысканное па-де-де насилия, которое она станцевала с Родди, молодым другом Аликс, объектом ее усилий, задачей, над которой она работает.
Сегодняшний сбор был идеей Аликс и Джейми: отметить всевозможные мамины победы. Айла помнит, было время, когда праздники не вызывали двойственных чувств, но она так часто бывала центром внимания за прошедший год, печального внимания, что теперь относится к этому куда спокойнее. Но мероприятие само по себе, то, что несколько человек строят планы и договариваются, чтобы собраться в одном месте, в одно время ради нее, – это действительно очень трогательно. Даже Мартин, который в самом деле отправился путешествовать, когда они продали агентство, и только пару дней назад вернулся из Индии, даже он придет. Всем будет что рассказать, народ соберется не только для того, чтобы поздравлять и обласкивать Айлу.
Она представляет себе другую картину. Она думает, как через много часов сможет осмотреться вокруг, когда все уже откидываются на спинки стульев, и в беспорядке стоит грязная посуда, и что-то пролили на стол, смеркается, на лица падает тень, и они теряются в тени, все довольны, всем хорошо, – и она будет счастлива оттого, как все прошло. Оттого, что вокруг нее собрано почти все, что на сегодняшний день что-то значит в ее жизни.
Кроме Джеймса, конечно, но она очень даже может пережить его отсутствие.
А так, все, кто что-нибудь значит, будут здесь. Еще одна картинка на память, вроде той, прежней: она сидит на этой веранде теплым и светлым днем – и эта тоже стала реальностью.
Как замечательно: ждать чего-то с нетерпением, предвкушать какие-то события и надеяться. Она улыбается Лайлу:
– Да, ты прав, пора. Я поехала собираться. Мама скоро будет здесь.
Она может заехать прямо под душ в новой ванной на первом этаже, подтянуться на сиденье в душевой кабине, оттолкнуть коляску, только осторожно, чтобы можно было дотянуться, повернуть краны, намылить голову; и она может сделать это сама, без постороннего присутствия, усилиями своих рук, и только – роскошь, которую она даже не заметила бы год назад.
Вот такого рода вещи и нужно постоянно держать в памяти. Не благодарность; но уважительный кивок в сторону частичных благословений.
Принимая душ, она слышит, как звонит телефон. По-прежнему странно ощущать, как горячая вода течет только по половине тела, и только видеть, как она льется по остальным его частям. Как будто остальные части принадлежат кому-то другому.
Лайл заглядывает в ванную, когда она выключает душ.
– Это была Аликс. Хочет, чтобы ты ей перезвонила. – Лицо у него мрачное и недовольное.
– Она не приедет? – Айла мгновенно видит дыру в картине с обеденным столом, которую она себе нарисовала. Все разваливается.
– Нет, я думаю, она будет. Но ей, в самом деле, нужно с тобой поговорить. И пока я только могу сказать, что особого восторга у меня это не вызывает, но решать тебе.
О чем бы ни шла речь, когда Лайл отказывается что-то передавать, это, скорее всего, означает, что он не хочет ни в чем участвовать. Он набирает номер Аликс и протягивает трубку Айле.
– Мам, – говорит Аликс, и выясняется, что она тоже нарисовала себе картину, но она резко отличается от той, что представляется Айле.
Такое могла придумать только Аликс – просто дух захватывает. Пару мгновений Айле на самом деле трудно дышать.
– Я знаю, это непросто, мама, но ты лучше всех, когда дело касается чего-то непростого. И чего-то хорошего тоже, я так думаю.
Прозрачна, как ее платья Корпуса Умиротворения. До чего же Аликс безрассудна, до чего странные у нее надежды, до чего безнадежно несбыточные мечты. Пара христиан, в глупом неведении входящая в Колизей, полный львов.
В этом есть нечто привлекательное.
Она вдыхает так глубоко, как только может, считывая, что ее грудная клетка все еще зловеще похрустывает, и уже не та, что была раньше.
– Мне вообще-то кажется, что «непросто» не отражает сути. И еще мне кажется, что ты серьезно переоцениваешь мою готовность быть «лучше всех».
Возможно, Аликс, оптимистически настроенное дитя, все еще ищет идеальную, безупречную мать. Вот этого она явно не получит; да и слишком она для этого взрослая.
– По-моему, – медленно произносит Айла, – ты от меня слишком многого ждешь.
– Не жду. Мне бы хотелось, чтобы ты могла найти в себе силы сделать это, но тебе решать, я понимаю, и ты, конечно, можешь не согласиться. Ты одна знаешь, что ты чувствуешь, я могу судить только по своим впечатлениям, ну и есть какие-то соображения. Я бы не стала просить, если бы не думала, что это важно. Я хочу сказать, для всех, не только для тебя.
Лайл тихо ушел. Айла слышит, как он достает тарелки из шкафов на кухне. Она может помочь накрывать на стол, если он просто будет класть тарелки и приборы, по несколько штук, ей на колени. Она может колесить и колесить вокруг обеденного стола, раскладывая ножи, вилки, ложки, бокалы для вина, салфетки.
Сандра, он это сказал давным-давно, даже умирая, осталась светлым человеком. Айла это помнит; и помнит, как думала, что ей это не дано. Что она бы стала бороться и причинять окружающим боль. Что если умирать, оставаясь светлым человеком, означает смириться, то ей бы света прискорбно не хватило.
Тяжело ли Лайлу оказалось жить с женщиной, которая даже собственному сердцу не дает спуску? Он обнимал Айлу, когда она плакала, и сам тоже плакал; он молча слушал, как она выплескивает гнев, и гневался вместе с ней. Он был удивительно сдержан и не сказал ничего о том, как чудовищно разрушены оказались его собственные надежды, планы и картины, которые он себе рисовал. Это – совсем не та жизнь, о которой он думал, с этим неуклюжим пандусом, обезобразившим веранду, с женой, которая больше не может быть его партнером, так же как не может быть партнером Мартина. Только Мартин мог убежать.
И Лайл мог. Не убежал, но мог.
Надо же. Она даже не сознавала, насколько велики ее сомнения.
– Но он ведь уже наверняка, – говорит она Аликс, – сказал нет?
– Предоставь это мне. Меня интересуешь прежде всего ты. То есть я хочу, чтобы у тебя все было хорошо.
Айла вздыхает. Это будет не тот день, которого она ждала. Картина, которая стоит у нее перед глазами, очень сильно меняется по сравнению с той, которую ей так хотелось увидеть. А с другой стороны, она понимает, что как раз ее это удивлять не должно.
Она за рулем
Родди возится с галстуком, который у него никак не завязывается как надо. Его пальцы свело какой-то судорогой, да и вообще он с галстуками не очень умеет, вот и получается все время какая-то фигня, надо развязывать и начинать заново.
Пока он не начал мучить галстук, тот был очень даже ничего, темно-синий, шелковистый такой, хотя и не шелковый, с мелкими белыми галочками, вроде как чайки летят. Это Аликс его принесла, потому что она говорит, что он лучше будет себя чувствовать, если будет выглядеть как положено.
– Я знаю, это глупо звучит, но одежда действительно может сделать человека внутренне сильнее. – Она это поняла, благодаря тем платьям, которые она и другие девушки носили в Корпусе Умиротворения. – Я могла оглянуться вокруг и увидеть, что я на своем месте, я – одна из нас, где бы мы ни были, в городе или на ферме. То есть я не одинока. Мы – одно целое, и мы вместе.
Тогда это не так, как с тюремной робой. Все одеты одинаково, но это не значит, что каждый на своем месте или все ощущают себя одним целым.
– Но, – говорит Аликс, – все дело в том, сам ты это выбрал или нет. Я сделала выбор сама.
Как скажешь. Ему кажется, что Корпус Умиротворения – это довольно стрёмно, но она, наверное, права, она сама сделала выбор. И наверное, это как-то повлияло на то, какая она: сильная, чистая, щедрая и, ну, он про себя называет это милая,но не как это обычно говорят, такими фальшивыми голосами, что аж тошнит. Милая, в смысле по-честному хорошая.
Он в долгу перед Аликс. Он ей всем обязан. Она приходила, приходила раз в две недели по воскресеньям, ждала в комнате для свиданий, и у нее было такое открытое лицо и глаза, стремившиеся вобрать все, что попадалось на пути. Она его спасла. Не потому, что сказала что-то особенное, из-за чего все изменилось, но просто она приходила, и казалось, что ей хочется слушать, что она выслушает все, что он может сказать. Разве оттолкнешь кого-то, кто так себя ведет? Кого-то, кому так легко причинить боль, судя по этим широко раскрытым глазам, этому желанию слушать, только этот кто-то не боится, что ему сделают больно, но и не слишком удивится, если это произойдет.
Поначалу он не знал, как с ней разговаривать, что говорить, что она хочет услышать. Поэтому вместо него говорила она. Она рассказывала ему про свою жизнь. Рассказала про своего отца, это было хуже всего. Нет, ну хуже всего была, конечно, история про ее мать, но ему это рассказывать было не нужно. Еще она рассказала про своего брата, у которого одно время были проблемы с наркотиками.
– Он тоже сидел в тюрьме, – сказала она. – Но меня к нему не пускали. Я была еще слишком маленькая.
Странным и самым лучшим в этих рассказах было то, что она как-то не говорила, что она в связи со всем этим чувствовала, просто рассказывала, что произошло. Даже о прощении речь не шла. Еще и поэтому она сидела напротив него: потому что о прощении речь не шла.
У психолога и на групповых сеансах терапии все должны были распространяться о том, какие чувства у них вызывало то да се, и, когда доходило до этого, жалеют ли они о том, что сделали, ощущают ли вину и так далее. Некоторые такие истории выдавали! Про всякие вещи, с которыми он даже не сталкивался, типа, как их отцы лупили, не то, что его отец, тот просто тихо бродит по дому, и все; или матери их из квартиры выгоняли, пока занимались сексом с чужими мужиками, за деньги, не то что у него – просто бросилась посреди ночи с моста, и все.
Он на этих занятиях большей частью молчал, и не потому, что, как ему казалось, решил ничего про себя не рассказывать, чтобы никто не лез. Больше оттого, что стеснялся своей жалкой истории, стыдился глупых и мелких мотивов своего преступления.
Некоторые люди на самом деле страдают. И Аликс, вовлекшая его в свою жизнь и свою работу, не даст ему об этом забыть.
Навещая его, она говорила о Корпусе Умиротворения, о том, как однажды в городе встретила Мастера Эмброуза и его людей, всего в нескольких кварталах от своей нынешней квартиры, и о том, что она увидела в выражении их лиц, в том, как они двигались.
– Они были такими спокойными и уверенными. Как будто что-то знали. Или знали, как это знать. Все вместе они производили очень сильное впечатление. И он в центре. В нем чувствовалась мудрость, понимаешь? Не любовь, потому что она, в общем-то, не имеет отношения к умиротворению. Скорее то, что он понимает глубины успокоения. То, что он на своем месте. Это сложно объяснить.
Потом она ушла от них, от мужика, которого называет Мастер Эмброуз, вообще ушла.
– Чему-то учишься, – легко сказала она. – Потом я подумала, что мне нужно двигаться дальше. Не только из-за мамы, но еще и потому, что когда что-то так сильно меняется, все другое тоже меняется. Я подумала, что в Корпусе Умиротворения можно узнать, что такое привязанность и как от нее освободиться, но тут, возможно, получается замкнутый круг: я слишком привязалась ко всему этому, и, если я хочу достичь полного освобождения, нужно уходить, – в этом был смысл, хотя и очень туманный.
Во всем был смысл, когда она говорила, а Родди слушал и смотрел на нее так внимательно, что казалось, что он не дышит.
– Я думаю, Мастер Эмброуз понимает. Ведь он – учитель.
Родди, правда, потом все думал: поймет ли на самом деле этот ее Мастер Эмброуз?
– Тебе нравится, когда тебя зовут Сияние Звезд? – ему это было очень интересно. Ему нравилось, что она зовет его Род, но тут другое, это ведь все-таки его настоящее имя.
– Да, очень, я хочу это сохранить. Потому что звезды так далеко, и их так много, и в ясную ночь, когда смотришь на небо, чувствуешь себя таким маленьким, что кажется, что на самом деле очень немногое имеет значение – знаешь, как это бывает? Все, что происходит, такое маленькое, просто пылинка, меньше пылинки, во вселенной, и тебе становится или как-то не по себе, потому что ты явно ничего не значишь, или намного легче, потому что что-нибудь значит каждая пылинка, но ты – это еще не все, не центр мироздания? Ну, что-то в этом роде. Мне казалось, Сияние Звезд – это так прохладно и далеко, свет, но на расстоянии. Да, мне нравится быть Сиянием Звезд. Это заставляет задумываться. Многое осознавать.
Осознавать —это слово Аликс любит.
Может показаться, что, когда чувствуешь себя пылинкой в космосе, пусть даже и хорошей пылинкой, от всего начинаешь отстраняться и смотришь на все безучастно. Он выяснил, что это не так. Аликс относится к тому, что связано с ее пылинкой, очень серьезно. Если она чего хочет, вот как сегодня, непохоже, что она чему-то позволит встать у себя на пути.
Она сейчас тоже как раз одевается. Наденет длинное, легкое платье, в общем, не сильно отличающееся от платья Корпуса Умиротворения, в котором он ее первый раз увидел, давно, в тот невероятный день в суде, только оно бледно-голубое, и на нем такие белые цветочки, типа чаек, или кто они там, на его галстуке. У нее теперь есть джинсы и майки, обычная одежда, но, это уже навсегда, носит она по-прежнему в основном длинные летучие платья.
Из-за того, что будет сегодня, уже начались проблемы. Ее должен был подвезти брат, но когда он услышал, что она задумала, он сказал – ни в жизни. Вообще-то он сказал (Родди слышал, потому что он прямо орал, когда говорил с ней по телефону):
– Господи, Аликс, ну нельзя же так, ты спятила, что ли?
Квартирка у Аликс совсем маленькая. Тут отовсюду почти все слышно. Родди слышал, как ее брат бросил трубку.
– Так, значит, так, – сказала она, улыбаясь. – Придется взять машину напрокат.
Она очень бережлива, у нее денег-то всего ничего. То, что она собирается разориться, взяв на день машину, говорит о том, насколько для нее все это важно.
Родди тоже сказал – нет. Ни за что. Но вот, пожалуйста, сражается с галстуком, который купила Аликс. Еще на нем будут бежевые брюки и голубая рубашка.
– Одет без претензий, – определила это Аликс, – но в то же время демонстрируешь уважение.
Он не уверен, что понимает, что она имеет в виду, в чем тут уважение. В том, что он потрудился быть чистым и выглядеть нормально – так, наверное. Странно, он и в самом деле выглядит нормально. Но чувствует себя совсем иначе. Ему так хочется сбежать; только тогда он не сможет вернуться. Нет, Аликс этого не говорила. Просто он не сможет смотреть ей в глаза.
Он не представляет, как справится со всем этим, но не видит выхода. Он отчасти рассчитывал, что мать Аликс скажет, что это невозможно, что об этом и речи быть не может. Он бы даже не возражал, если бы она сказала, что это – предательство и вообще отвратительно. Он не уверен, что это – не отвратительное предательство, но вот оно, как бы то ни было, и деваться некуда. Неудивительно, что он снова дергает галстук и начинает все сначала. Вероятность катастрофы очень велика. Он теперь задумывается о таких вещах, он учитывает вероятность катастроф. Сегодня у него в голове все время выстраивается возможное развитие событий, на несколько фильмов хватит; и хорошего в них мало, ни один не заканчивается хэппи-эндом.
Аликс, какой бы она ни казалась, совсем не наивна. Она сказала;
– Я с ними не заговорю об этом до последнего. А там, что бы они ни решили, передумать уже не смогут.
С ним она об этом заговорила уже много дней назад. Она по-разному общается с разными людьми; значит, она все продумывает и высчитывает. Она, наверное, поняла, что если сразу выплеснет ему все, он просто сбежит, даже не думая о том, к чему это приведет. Вместо этого она его уговаривала, и убеждала, и даже прибегала к грубой лести, и, в конце концов, оросила ему вызов:
– Ты должен знать, в чем дело. Иначе все это так и будет тебя преследовать, и ты никогда над этим не поднимешься. Всегда будешь знать, что оказался недостаточно зрелым, чтобы сделать то, что нужно было сделать. А жить с этим всю жизнь – ужасно, так мне кажется.
Да, его ангел бывает суров.
Но ее уверенность так умиротворяет. В ее голосе нет суровости. Не то что психолог, который вдруг срывается, или делает вид, что срывается, начиная орать на какого-нибудь несчастного упертого придурка:
– Думай! Думай! Думай! Ты что, хочешь, чтобы вся твоя жизнь была такой? Не можешь уяснить, что если делаешь то-то, происходит то-то? Собираешься всю жизнь быть кретином?
Психологи, они всегда так делали, как скорости переключали: то тихие и понимающие, то крутые, почти жестокие. Жестокие, но не так, как некоторые охранники, по-другому, по-своему.