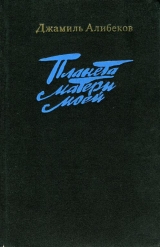
Текст книги "Планета матери моей"
Автор книги: Джамиль Адил оглы Алибеков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 44 страниц)
23
Как хорошо, что темная ночь накинула на землю милосердный покров! Можно представить, будто рядом со мною прежняя Халлы, которая не побоялась испортить нежные ручки стиркой грязного белья, лишь бы заработать немного денег и помочь другу. Та Халлы, которая бесстрашно открыла мужу в брачную ночь тайну сердца и повторила клятву принадлежать не ему, а только любимому…
Помню, когда в нашем детстве цвела алыча, школьницы-подростки становились шалыми от сладкого весеннего воздуха. На их лицах пламенели рыжие веснушки. Я слонялся в ту пору возле дома Халлы, поджидал, когда она соберется в школу. Однажды, чтобы занять праздные руки, стал мастерить чучело: подобрал брошенную тряпку, накинул ее на крестовину из двух кольев. Калитка скрипнула, но это была еще не Халлы. Калитку боднула белолобая собака. Я и собаку эту обожал, приметив с вершины холма, как она ластится к Халлы, а та треплет ее и гладит. Халлы за ошейник потянула собаку обратно во двор. Я захотел помочь, но собака рванулась, и от внезапного испуга я швырнул в нее ситцевым мешком с учебниками. Однако оскалившийся пес проскочил мимо меня и вцепился в чучело.
– Алабаш, сюда! Алабаш, не смей!
Потом Халлы задумчиво говорила:
– Почему он не тронул тебя? Странно, Алабаш готов разорвать чужих в клочья. Знаешь, это чучело похоже на одного… ну у которого рот до ушей.
– На Фараджа?
Она кивнула.
– Он часто к нам приходит. Липучка противная!
– А ты?
– Сразу поворачиваюсь и ухожу в дальнюю комнату.
– Смотри: походит, походит, ты и привыкнешь к нему.
– Я? Никогда!
…И вот мы уже давно взрослые. Стоим на темном дворе, молча смотрим на звезды. Они счастливчики, эти звезды! У каждой неизменное место в небесном доме. Гуляют тоже не по одиночке, и никто не в силах их разлучить!
– Мензер-муэллиме, почему вы молчите? Побраните меня, только не наказывайте молчанием.
– О чем нам еще говорить, Замин? Напрасно ты поспешил вернуть перстенек. Или боялся, что замужняя женщина не отлипнет от тебя? Бросит мужа и побежит следом?
– Какие злые слова!
– Не словами силен человек, а поступками. Я честь погибшего мужа буду беречь до гроба. А ты оказался просто трусишкой.
– Ничего я не испугался. Мать убивалась, что нечего подарить тебе на свадьбу. Я вручил этот перстень через нее с намеком, что моя любовь не погаснет и не остынет с годами! Мне казалось, ты поймешь…
Я не мог различить в темноте черты ее лица, но мне показалось, будто губы Халлы тронула горькая улыбка. Амиль выглянул в дверь.
– Гага, ужин остынет.
– Иду. Закрой дверь. Прости, Мензер, – добавил я торопливо. – Ты сегодня ждала меня возле роно? Но, знаешь, как попал на автобазу, так уже не смог вырваться. Не сердишься?
– Нет.
– Может, зайдешь к нам? Выпьешь чаю?
– Думаешь, откажусь?
– Вот и хорошо! – обрадовался Амиль. – Он вам, наверно, про войну рассказывал? Я бы тоже послушал. Будь я на фронте, без золотой звездочки не вернулся бы!
– Ты думаешь, там звезды даром раздавали? Цена каждой была жизнь, братец.
– А я все равно…
– Полно, – строгим учительским тоном прервала Мензер. – Попробуй пока стать находчивым на уроках. Большего от тебя не требуется. А что касается твоего брата, то Замин никогда не любил драк. Он станет героем мирного времени. Вот увидишь.
– Эй, Мензер! – раздался внезапно скрипучий хнычущий голос. – Зачем шататься в позднее время по соседям? Собаки и те сидят по своим конурам… О аллах, нет нынче на женщин узды!
Мензер закусила губу и молча пошла прочь. Вскоре две женские фигуры, расплываясь очертаниями, растворились во тьме.
Я продолжал смотреть на звездную пыль Млечного Пути. Что же мне оставалось еще? Некогда под этими небесными огнями двигались аравийские караваны. По ним паломники находили путь в Каабу, чтобы очиститься от грехов. Но за какие грехи тиранила старая Гюльгяз безропотную невестку?
24
Со стеснившимся сердцем я переступил на следующий день порог школы. В двух классах шли экзамены, коридор был пуст. Я отворил дверь директорского кабинета, приставил руку к виску и по-армейски щелкнул каблуками.
Мензер смущенно вскочила, не ожидая увидеть меня именно сейчас. Около нее сидели несколько учителей.
– Добро пожаловать в нашу школу, Замин!
– В вашу? И в мою. Я ведь тоже здесь учился.
– Разумеется, разумеется. Мы хотим, вспомнить, за какими партами сидели будущие фронтовики. Ты свою парту покажешь?
Халлы была приветлива. Она улыбалась, поминутно оглядываясь на учителей, словно приглашала их разделить радость.
– А зачем эти парты?
– Посадим за них отличников.
Я смотрел неотрывно на Халлы и не заметил, как учителя по одному покинули комнату. Какой красивой казалась она мне сегодня! И как нарядно одета!
– Значит, парту не нашли… – пробормотал я. – Словно меня и не было здесь вовсе?
– Ты оставался в сердцах, Замин.
– В чьих, разреши спросить?
– Оглянись хорошенько, тогда поймешь. А впрочем, зачем тебе это? Чужая душа – потемки. Ступишь в нее и, чего доброго, свалишься в пропасть.
– О чем ты? Какая пропасть?
– Потерянная любовь. Попытаться вернуть ее значит накликать на себя новую беду. Что ты так смотришь?
Мне хотелось чем-нибудь рассмешить Халлы, взгляд ее потускнел и застыл.
– Я уже вчера говорила: я честная вдова. Неужели я смогу учить добру детей, если поколеблю к себе уважение их родителей? Нелегко мне это далось. Не скрою, сердцу больно, оно до сих пор… – оборвала себя Халлы на полуслове и страстно докончила: – Об одном прошу: не уезжай далеко! Я должна тебя видеть хоть изредка, должна говорить с тобою. Женись на ком хочешь. Я буду учить твоих детей. Видно, моя судьба – радоваться чужому счастью. Но будь рядом! Чтоб мои глаза тебя видели!
Наверно, это можно назвать благородным отречением от своего счастья. Должно быть, она решила, что прежние чувства к ней во мне остыли. Но она ошибалась, жестоко ошибалась, решая свою и мою судьбу.
Старшая сестра с Амилем настойчиво хлопочут о моей женитьбе, знакомят с подросшими соседскими красавицами. Но ни одна из них не приглянулась. Мать держится в стороне от марьяжных планов. Ей больше по душе, если я серьезно возьмусь за учебу. К Мензер она относится ласково и уважительно, но, когда мы рядом, не поднимает на нас взгляд. С ее уст ни разу не сорвалось ни слов одобрения, ни слов отрицания.
Отвечая своим мыслям, я произнес:
– Поступлю так, как велит мать.
За дверью внезапно раздалось словно птичье щебетанье. Вбежала целая ватага ребятишек с букетами цветов, которыми богат склон Каракопека. Комната сразу украсилась, запестрела, наполнилась благоуханием. Молоденькой учительнице Мензер представила меня, пряча лицо в букет шиповника:
– Наш выпускник. Сражался на войне. Приглашаю его вести в школе уроки физкультуры.
Девушка стрельнула взглядом по орденской планке.
– Откуда у вас столько?
Я ответил ей в тон:
– Нам при отъезде дарили на память.
Халлы поднялась и, протягивая цветы, сказала с примирительной улыбкой:
– А вот еще один подарок от будущих сослуживцев.
Ее рука легла на мою, и Халлы, будто забывшись, не отнимала теплой ладони. Все это уже было, было! Только в тот раз охапку шиповника со склонов Каракопека протягивал ей я.
– Я могу идти? У меня двое остались на осень. Хочу успеть поговорить с родителями, – спросила молодая учительница.
– Если не сумели сделать это в течение года, теперь уже поздно. Недавно у меня был такой случай. Председатель колхоза ругал кладовщика за плохое хранение зерна. Я вмешалась, сказала, что и сын его нехорошо учится. Оба посмотрели на меня так, словно я, не зная, что в котле, поспешила зачерпнуть ложкой. А между тем, если мы поднимаем шум из-за потерянных килограммов зерна, то как же надо взыскивать за пропажу человека?
Я с уважением посмотрел на Халлы. Когда непоседливая учительница ушла, я сознался:
– Профессия педагога представлялась мне раньше не очень-то обременительной. Отбарабанил урок, выставил отметки, вот, пожалуй, и все. Только сейчас до меня, кажется, дошло, что, уча детей, вы подготавливаете будущее.
– Слишком громко сказано, Замин! Лучше не употреблять попусту таких слов. Сперва следует заработать на это право. Например, ты заработал его на фронтах.
– Зато сейчас моя жизненная роль более чем скромна, – возразил я с улыбкой. – За баранкой грузовика великих дел не совершишь! Ты прости, но я не буду работать в школе. Я не уйду с автобазы.
– Что за глупое мальчишество! Как ты нелепо бросаешься собственной жизнью! Работая в школе, можно подготовиться к поступлению в университет. Я тоже начала учиться заочно.
– Прости меня, Халлы. Я в жизни умел только одно, хочу в этом признаться: любить тебя. На большее меня никогда недоставало.
Она вдруг рассмеялась, звонко и молодо.
– Представь, мне этого было вполне достаточно. Чтобы тебя любили, надо самому любить в десять раз больше.
– Знаю, ты заслуженно снискала себе уважение. О тебе повсюду отзываются с почтением и благодарностью. Рассказывают, как ты помогала воспитывать сирот, хлопотала о постройке домов, не позволяла наивным дурам сбиться с пути…
– Хватит! Хватит!.. Я обыкновенная учительница. Просто вокруг живут хорошие люди. Не я им, а они мне помогали.
Я опустил голову.
– Может быть, ты права, Мензер-муэллиме.
Назвать ее Халлы у меня впервые не хватило духу. Халлы осталась далеко позади. Она бегала босоногой девчонкой по ущельям Дашгынчая, склонялась над кипящим котлом в прачечной. Но ее больше нет!.. Передо мною сидела умная проницательная женщина. Мензер-муэллиме мне предстоит открывать для себя как неизвестную страну. Неизвестно, как эта женщина отнесется к человеку, который никогда не продумал до конца ни одного своего поступка, многое решая по наитию.
– Прости!..
– Я ничего не скрыла от тебя, Замин.
Мне вспомнились стихи Сабира:
– «Увы, постарел я и выронил палку из рук…»
– Зачем так! – отозвалась она. – Впереди у тебя еще много счастливых дней.
От начала разговора у меня было впечатление, что я, подобно каменотесу, ударил молотком по скале, осколки гранита больно ранили лицо, но камень не оживал. Искры, которые сыпались от ударов, были ярки, но холодны. Я дернул пуговицу на вороте и отвернулся к окну. Что это? Два черных пылающих глаза в обрамлении глухого платка впились в меня. Я зажмурился на мгновение. А когда снова раскрыл веки, узнал за окном бледное лицо бабушки Гюльгяз. Она что-то шептала запавшим ртом.
25
Лето выдалось знойным. Целыми днями жар струился с побелевшего неба.
Колхоз заключил с автобазой договор: когда грузовики идут к железнодорожной станции порожняком, попутно брали мешки с зерном для заготконторы. Такая простая мысль об обоюдной выгоде осенила впервые именно меня. Уж слишком трясло пустую машину на ухабистых дорогах. Все байки мы с Алы-киши переговорили и молча томились в раскаленной кабине.
Сам Алы-киши не потерял для меня интереса. Каждый день я открывал в нем что-то новое. Однажды мы подсадили пассажира: кузов просторный, почему не подвезти? У въезда в поселок тот забарабанил в окошечко. Прощаясь, встал на подножку и дружески похлопал меня по груди, поблагодарил.
– Какой тут труд, – отозвался я. – Не на плечах несли, машина везла.
Уже на станции я обнаружил в нагрудном кармане сложенную пополам денежную купюру.
– Чьи это деньги? – спросил растерянно.
– Не мои же, если очутились в твоем кармане, – безразлично бросил Алы.
– Но откуда они взялись?
– Видишь, парень, – философски изрек Алы-киши, – кабина грузовика для ловкого человека вроде денежного дерева. Пятерки и трешницы сами на нем вырастают.
– Значит, это пассажир сунул? Я думал, он от чистого сердца благодарит. А он как извозчику, как слуге, как побирушке…
– На трассе все знают, что я не беру. А ты новенький. Не огорчайся! Возвратим подачку.
На следующий день спозаранку Алы-киши свернул с дороги в поселок и засигналил у одного из домов. Хозяин тотчас показался на пороге и, узнав нас, пригласил в дом.
– Раненько вы поднялись. Как раз поспели к завтраку. Жена, угощай!
Яичница плавала в масле, уютно разместившись на сервизной тарелке. Хозяйка щедро посыпала ее сверху толченым сахаром и корицей. В вазочке отливало рубиновым цветом вишневое варенье. Алы-киши нахваливал еду и уплетал за обе щеки. А когда мы поднялись, возле двух наших тарелок лежало по денежной бумажке.
– Зачем это? – ошарашенно спросила хозяйка.
– Спроси у мужа, – подмигнул Алы. – Долг.
Густо покраснев, хозяин прикрикнул на жену:
– Занимайся своим делом!
– Нет, почему же. Пусть и она знает: меня обидели, я ответил тем же. Если я на государственной машине могу брать деньги, подвозя попутчика, то почему же тебе не взимать плату за домашнее угощение?
Когда мы выбрались на шоссе, Алы-киши нажал на газ, прибавляя скорость.
– Опаздываем, грузчики ждут, – сказал я. – И когда ржа-корысть в людские души закралась? До войны такого не было. Проще жили, честнее.
– Меня учили профессии, – сказал я через минуту, – тратили деньги. Мне скоро двадцать три года. А сижу в кабине вместо балласта, прохлаждаюсь, точу лясы…
Алы-киши взглянул на меня, словно впервые увидел, поджал губы и завертел руль так быстро, словно тот жег ему ладони. Отозвался не сразу, решая что-то про себя:
– Понимаю. Тебе нужен хороший заработок. Несколько лет твоей жизни унесла война. Но вокруг все понемногу налаживается. Вот только голодный не скоро насытится. Возникает вечное желание поднакопить, обезопасить себя на черный день. Нужно уметь сдерживать себя, иначе корыстолюбие станет чертой характера.
Алы-киши совсем не понял мою мысль.
– Во время войны я прошел несколько стран, иногда мы задерживались в одном месте по месяцу. Было время понаблюдать, поразмыслить. Там каждый живет как бы в одиночку, и это в порядке вещей. У нас другой образ жизни. Нет, я не только о заработке хлопочу. Хочу быть по-настоящему полезным, вот в чем дело!
– Что собрался делать? – отрывисто спросил Алы-киши.
– Можно поехать в Баку. Или поискать другую работу здесь, на месте.
– Баку… – фыркнул он. – Как на это посмотрит твоя мать? Хорош хозяин, у которого в двух домах горит свет!
Возможность оставить автобазу Алы-киши обсуждать вообще не захотел. Я решил переменить тему.
– Попутная загрузка дала прямую выгоду нашей транспортной конторе, – сказал я. – И колхоз доволен: погашает задолженность, вовремя сдает зерно. Но наша грузовая коняга могла бы брать груза вдвое больше.
– Это как же?
– Ездить с прицепом. На фронте мы иногда к одной машине по два и по три лафета прицепляли. Такой автопоезд у нас прозвали «змеей».
Алы-киши с силой хлопнул себя по колену.
– Золотая у тебя голова! Конечно, надо попробовать. Лафеты обычно за тракторами тянут. А чем наш богатырь хуже?
На следующий день торжествующий Алы выбежал из кабинета начальника.
– Я его взял за грудки! Как, говорю, нет прицепов? Звони, проси, добивайся. Это твоя обязанность. А если не справляешься с работой, уступи место более умелому. Ну он и завертелся. Получил от него бумагу, тогда перешел ко второму вопросу. О тебе заговорил. Парню, говорю, цены нет, он без настоящего дела истомился. Вот-вот уволится…
– Нескромно как-то выходит… – начал было я.
Алы не дал договорить:
– Надо бить по горячему! Он и сообразить не успел хорошенько: подписал приказ. Теперь ты будешь за главного, первым поведешь «змею». А я возле тебя поучусь. Кто мужчина, пусть с нами поборется!
Дело действительно завертелось очень быстро, и уже через неделю в городской газете появилась статья о новом почине.
Алы-киши возил с собою целую пачку этих газет и раздавал их направо и налево. «Здесь про нас написано, – твердил он. – Заметьте, дело стоящее. Как в сказке, одна машина в две превращается!»
Но наедине со мною в кабине машины он засомневался:
– Боюсь, что только наш драндулет такое и выдюжит. Да станет моя тетка жертвой, если ошибусь!
– Что же ты, дядя Алы, так легко теткой жертвуешь? Не любишь, что ли, старушку?..
Он смеялся до слез.
– А ты считаешь, дядюшкой пожертвовать лучше? Ах, Замин, с тех пор, как ты вернулся, я словно помолодел. Люблю тебя, как родного сына… Поэтому позволь спросить: что у тебя… с овдовевшей учительницей?
От неожиданного вопроса я так нажал на тормоз, что он взвизгнул. Прицеп качнуло в сторону.
– Откуда тебе известно о Мензер?
– Какая же это тайна? Стоит лишь взглянуть на обоих, когда вы рядом. Послушай, не канителься ты с нею. Разве девушек мало? Вдова, она и есть вдова, будь хоть первой красавицей.
Я повернулся к нему с гневом и обидой:
– Женщина не рождается вдовой! Ее война обездолила. Как можно над этим смеяться?
– Да не смеюсь я, что ты, парень, – смущенно пробормотал Алы-киши. – Война – ошибка людей. Кто остался в живых, тому и поправлять…
В обеденный перерыв я поспешил в селение. Притормозил у школы, попросил вызвать Мензер-муэллиме.
Она показалась на пороге в накинутом на плечи пальто, ей в этот знойный день было зябко. Узнав меня, обеими руками схватилась за горло, стягивая воротник. Пальто было длинновато, оно скрадывало некоторую полноту фигуры, делало ее стройнее.
– Ты по делу, Замин?
– Нет, просто по пути.
– Хотел что-то сказать?
Я не ответил. Мензер подошла ближе и посмотрела на меня, запрокинув голову. Лицо ее показалось совсем иным, нежели вчера: поблекшим и печальным. Она как-то поникла, словно бабочка с намокшими крыльями.
– Мне пора, тороплюсь на экзамен, – сказала она, не трогаясь с места.
Мы стояли сейчас друг перед другом, не решаясь сделать первый шаг навстречу.
А чего, казалось бы, проще! Ей сказать, что за бессонную ночь она решила не отрекаться больше от нашей любви, а мне попросить ее забыть слово «вдова», как колючую изгородь разобрать его и сжечь на костре, чтобы дым взлетел до вершины Эргюнеша! Взявшись за руки, мы пошли бы одной дорогой…
Вместо этого я лишь неопределенно пробормотал:
– Видишь ли, Халлы…
– Не называй меня так.
– Почему?
– Ученики могут услышать. Неудобно.
Мне стало по-настоящему обидно. Ведь это я ее так окрестил. Она как бы тогда вновь родилась с другим именем и для меня одного.
– Мензер-муэллиме, садитесь в кабину, – вежливо попросил я. – Поедем в ваше роно. Если я им понравлюсь, можно еще переиграть насчет учителя физкультуры.
Нежная краска облила ей щеки и лоб, будто под кожей зажглась розовая лампа. В растерянности она оглянулась и поманила к себе мальчугана, который сидел под абрикосовым деревом с раскрытым учебником на коленях.
– Передай Аббас-муэллиме, что меня неожиданно вызвали в город. Пусть начинает экзамен без меня.
Мальчик еще не успел повернуться, как Мензер скинула пальто и уселась в кабину.
– Поедем скорее!
Но в пути она держалась настороженно, косилась в сторону. Неожиданно спохватилась:
– Куда мы едем? Роно совсем в другой стороне.
– Ну и пусть.
– Что ты затеял?
– Ничего особенного. Хоть немного побыть с тобою без чужих глаз.
– Но зачем ты заманил меня сюда? Мое место в школе. Ребята за партами – моя единственная гордость и надежда. Они станут оправданием моей жизни…
В кабину влетела заблудившаяся пчела и напрасно торкалась в зеркальце. Над горами и долинами она свободно находила дорогу, а теперь ее обманывало треснувшее стекло.
– Посмотри, Халлы, на упрямое насекомое. Не хочет облететь препятствие. Будто в жизни нет ничего, кроме прямых линий!
Я осторожненько взял пчелу за крылышки и выпустил за окно.
– Видишь, как все просто?
Халлы беззвучно плакала. Я остановил машину, ждал, что она прижмется ко мне, ответит на мой ищущий взгляд. Я поцелуями осушу ее слезы… Но нет. Она оттолкнула мою руку.
– Живому так просто унизить мертвого! Не касайся меня, слышишь!
Любовный угар понемногу оставлял меня.
– Прости, Халлы. Ударь меня, если тебе станет от этого легче. Я забыл, что чувства надо держать под замком. Давай вернемся, и я прочту твоим деткам лекцию под названием «Любить строго воспрещается!».
– Ты-то можешь любить, кого вздумаешь.
– Нет, не могу. Моя половина – ты. Я буду ждать одну тебя.
– Я тоже подожду.
– Чего?
– Когда старая Гюльгяз отведет исплаканные глаза от дороги, по которой может вернуться ее сын. До той поры я не вдова, а жена. Только Селим может отпустить меня на волю. Любовь его всегда была благородной. А Гюльгяз тиранит и ревнует меня, но не любит. Едва я вошла в дом, она сразу сказала: «У тебя поступь тяжелая». Каждой мелочью стремится привязать меня к постылому дому, принизить, заставить согнуться перед ней. Да что там! Праздничную одежду заперла в сундук: муж вернется, наденешь. Окна на улицу занавесила черной юбкой: от света глаза болят! На старости лет стала проворной, прыгает через канавы, хоронится за колючими кустами – все выслеживает меня!
– Если мы уедем отсюда, это глупое шпионство прекратится. Городов много. Найдется местечко и нам.
– А Гюльгяз?
– Ей без тебя будет лучше, поверь. Твой вид только растравляет ее рану.
– А твоя мать! Ты тоже спокойно оставишь ее?
Такого вопроса я, признаться, не ожидал. Мое бегство было бы для матери тяжелым и неожиданным ударом. Ведь я никогда не говорил с нею о своих чувствах к Мензер. Она могла вовсе не знать об этом. А если и знала, то хранила догадку глубоко внутри. Но скорее всего она искренне верила, что наша детская привязанность так и не перешагнула черту братских отношений. Последнее время мать все чаще и безбоязненнее оставляла нас с Мензер наедине.
– Моя мать уедет с нами.
– Ты плохо ее знаешь. Она человек стойкий в своих принципах, даром, что они нигде не записаны. Житейская мудрость заменила твоей матери целый университет.
У подножья холма я затормозил.
– Выходи, Халлы. В последний раз полюбуемся вместе на прежние места. Кто знает, придется ли еще?..
Рука об руку мы взбирались на вершину.
– Смотри, селение как на ладони. Вот наш дом. А там школа.
– Отстали мы со школой. Новое здание надо давно строить, – пробормотала Халлы.
– Повернись-ка сюда, – продолжал я. – Здесь будет Дашгынчайское море, и вся теперешняя стройка уйдет под воду. Зато окрестные селения получат свет.
– А тебе что до того, если какие-то люди получат свет?
Я оторопел.
– То есть как что? Для чего же я тогда живу и работаю?
– Вот видишь, – живо подхватила она, – почему же ты удивился, когда я сказала, что вкладываю силы в учеников и что другого существования для себя не мыслю?
– Под одной крышей нам не работать.
– Окончательно решил?
– Окончательно. У меня нет педагогического образования. На тебя же потом шишки полетят. Лучше останусь за рулем.
– Зохра-хала жалуется, что ей боязно разжигать очаг: ты вечно в бензине, как бы не вспыхнул.
– Мать шутит. Не так важно, чем занимается человек, лишь бы честно трудился – вот ее заповедь… Твое учительство, бесспорно, почетная работа. Но разве в других городах нет школ? Уедем, Халлы!
Она покачала головой:
– Ты опять не понял, Замин. Учительское дело особое. Дети все замечают и ничего не прощают. Завоевать их доверие труднее, чем начинить головы знаниями. Взрослые, возможно, оправдали бы в конце концов мое бегство. Но для учеников оно навсегда останется предательством. Расскажу тебе одну маленькую историю. Я была тогда классным руководителем и разучивала с ребятами песню. Один из старых опытных педагогов отвел меня в сторонку. «Дочка, скажи, дети охотно разучивают эту песню? Поют от сердца?» – «Нет, не сказала бы. Спевка почему-то не клеится». – «Выбери другую». – «Почему?» – «В этой говорится, что все на свете прекрасно и небо безоблачно. А твои ученики еще хлеба досыта не наелись, они помнят войну, у их матерей заплаканные глаза. Время беззаботным песням придет попозже».
Я горячо отозвался:
– Это и верно и неверно. Разумеется, у войны свои законы. Но война кончилась! Вдова – не пожизненное звание.
– Таков удел многих женщин. Учительница, у всех на виду. Мой долг служить примером.
– Но я-то за что наказан, Халлы?!
– Начни все сызнова.
Она отступила на два шага и, заломив руки, сцепила пальцы на затылке. Стояла передо мною, вытянувшись в струну, недосягаемая, гордая.
Мензер не сводила очарованного взгляда с расстилавшейся у наших ног долины. О чем она думала сейчас? Чего ждет от меня? Чтобы я вечно был подле нее без надежды на обладание? Обожать – и не прикоснуться?
– Знаешь, что мне сейчас представилось? Будто протекли годы, мы стоим на пороге твоего дома, и твой ребенок теребит меня за край платья, пытается выговорить: «Мензер-муэллиме…» Я целую его глазки и шепчу: «Называй меня просто Халлы, дорогой!»
– Ты большая фантазерка.
– Поздно, – услышал я.
И не сразу понял, что ее слова относятся уже не к нашему разговору, а к наступающему вечеру.
День в самом деле близился к закату. Солнце над Эргюнешем стало будто золотое яблочко, подвешенное на нитке. Невидимая рука то медленно опускала блистающий плод, то рывком продергивала его сквозь слои сизых и румяно-розовых облаков…








