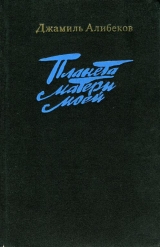
Текст книги "Планета матери моей"
Автор книги: Джамиль Адил оглы Алибеков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц)
Часть вторая
КАК В САМОЙ ЖИЗНИ
1
Как давно я не взбирался на перевал Атадага! От многочасового сидения за рулем машины мышцы одеревенели, тело затекло. С наслаждением прыгаю на землю, поднимаю крышку радиатора. Пар вырывается со стремительностью птицы, обретшей свободу, он слегка обжигает мне лицо, что вконец прогоняет утреннюю сонливость. Я приближаюсь к краю обрыва. За спиной остается верный грузовик, который шел без передышки из самого Баку и теперь, подобно усталому волу, предается отдохновению.
На мгновение ощутил сожаление, что один любуюсь раскинувшейся внизу долиной, что нет со мной приятеля-горожанина, которому можно показать с высоты родное селение, рассказать о каждом его жителе. Впрочем, последнее едва ли возможно. Даже небольшое селение – целый мир со своими законами и страстями. И как же я тоскую временами по этому оставленному мною родному мирку!
Всякий раз, покидая селение – в начале войны, когда уходил на фронт, а потом перебравшись в город, – я думал, что надолго и до отказа напитался видом родных мест. Однако многие мелочи постепенно улетучивались из памяти. Даже очертания Эргюнеша как-то расплылись перед внутренним взором.
Зато всегда живым и неизменным звучал во мне материнский голос.
С волнением я следил с высоты за извилистым течением Дашгынчая. Отсюда был хорошо виден весь путь реки до ее впадения в Аракс. В детстве мне чудилось, что Аракс и есть край света. А гусиные стаи, которые с гоготанием проносились над головой, есть небесные тропинки, по которым можно, не касаясь земли, перевалить гору и сразу очутиться по другую сторону хребта.
В моем воображении одна за другой оживали картинки детства, проведенного у подножья Каракопека.
Осень… Луга в пожухлых травах, жнивье желтеет. С опаской заглядываю в овраг, который казался когда-то бездонным. Но как со временем уменьшаются холмы, так мельчают и пропасти! Раньше, чтобы дотянуться до гнезд синиц, которыми испещрены края глинистого обрыва, мы, мальчишки, громоздили пирамидой плоские камни да еще взбирались друг другу на плечи. Теперь, встань я хоть на дно оврага, до края не так уж и высоко. Что же случилось? Холмы словно присели на корточки, а пропасти засыпались?..
Было жаль детских впечатлений, я поспешил уверить себя, что дело просто в ракурсе: я стою слишком высоко над селением. Вот и кажется, будто горы постепенно тают.
Но ведь и мать моя словно бы тает! Сгорбилась ее спина, не так проворен шаг. Мать – самое неизменное, что у меня есть. Если ее черты истончились, а вся она пригнулась к земле, почему то же самое не может случиться с горами? Говорят, старея, жемчужина медленно истаивает. Не трескается, не раскалывается, а именно тает, уменьшается в размере. Этого не заметить человеческому глазу. Но остановить ее исчезновение нельзя.
Неужели в грустном увядании матери виноват именно я? Может быть, ее гложет постоянная тоска по старшему сыну? Принять мой городской быт она не в силах. Ей душно и невыносимо в городе, она брезгует покупной едой, смотрит с подозрительностью на толпы людей, заполонивших улицы.
А если мне самому вернуться навсегда к родному очагу? Сидеть, как когда-то, на расстеленном паласе подогнув ноги, принимать еду из материнских рук, вести немудреные беседы с соседями и, наконец, жениться по материнскому выбору на девушке, которую она облюбует для меня. Станем ли мы оба от этого счастливее?
Много раз, наверно, менялся лик окружающей местности. Материнская забота о сыновьях остается прежней. Из века в век они оделяли детей лучшим куском, стелили постель в самом сухом и теплом углу, сватали им красивейших невест. Их добрые наставления достойны того, чтобы, подобно самоцветным серьгам, никогда не расставаться с нашими ушами. Материнское терпение – залог мира и благоденствия на земле.
Однако, как далеко ни уводили меня общие размышления, проблемы реальной жизни не могли разрешиться сами собой. Если бы дело заключалось лишь в том, чтобы вернуться из города обратно в селение и сменить не любимый матерью автомобиль на допотопную арбу, – все решилось бы двумя-тремя словами. «Мама, я снова здесь, – сказал бы я, появляясь на пороге. – Весь в твоей власти. Поступлю, как ты велишь».
Но будет ли она довольна таким поворотом дел? Примет ли подобную жертву? Кивнет ли согласно: «Вот и хорошо, мой разумный мальчик. Бросай город, бросай все. Живи потихоньку, как жили предки…»? Нет, таких слов она не произнесет ни за что! Моя мать вовсе не чуралась нового. Разве не из ее рассказа я узнал о появлении в селении первого трактора?
Вот как это произошло. Артель только что организовалась, и на общий двор каждый тащил что мог. Кто гнал волов, кто вел на веревке яловую корову. А у других не было за душой ничего, кроме сохи да старого хомута. Люди не стыдились бедности. Ими владела вера, что сообща можно прожить лучше, чем порознь. Дружно посеяли, подоспела на артельном поле и жатва.
Вскоре разнесся слух, что в помощь колхозникам из города присылают машину-самоход. Это в селение, где железный плуг и то был до сих пор в диковинку! Само слово «трактор» знало всего два-три человека из местных всезнаек. Встречать «самоход» вышли далеко за околицу, с любопытством сгрудились вдоль дороги. Ох как всполошил всех рев мотора! Словно небеса разверзлись или началось землетрясение. Трусоватые прятались за чужие спины. С писком разлетались из-под железных колес скворцы и воробьи. На следующее утро комсомольцы говорили: «Это только первый трактор, будут и другие машины. Советское правительство обещает помогать колхозам, таково завещание товарища Ленина. Он говорил, что трактора всех перетянут на сторону коммуны!» Один из противников колхоза Шафигула стал настырно расспрашивать: «Говорите, что без волов и без коней передвигается? А где человек? Наверху сидит? Что же, он плетью машет или голосом пугает, чтобы «железка» ехала?» Ему разъяснили, что тракторист поворачивает руками небольшое колесо, величиною с сито. Куда повернет, в ту сторону и колеса едут. Шафигула расхохотался: «Так я и знал! Хитрость шайтана. Под железкой спрятан обыкновенный бык; парень в него тычет, вот бедняга и тащится куда велят».
Пришлось подогнать трактор к самому порогу. Сзади прицепили арбу, куда полным-полно набилось детишек, и среди них затесался седобородый дед, из самых бесстрашных. Старику так понравилось катанье, что он, сидя в тележке, заявил о желании вступить в колхоз. К трактору постепенно привыкли. Лишь упрямый Шафигула никогда не называл его иначе как «железякой шайтана».
Когда мой младший брат Амиль, размечтавшись, сказал матери, что станет летчиком, и обещал поднять ее на самолете выше седьмого неба, она лишь улыбнулась: «Меня летающей машиной, как Шафигулу трактором, не испугать. Любую машину делали человеческие руки, значит, она подвластна человеку. Твой старших брат водит грузовик. Если у тебя больше ума, поднимись на самолете. Я не прочь, чтобы соседки считали меня счастливицей».
Если матери была не по нраву моя шоферская профессия, то скорее всего из-за запаха бензина, от которого ее мутило, и от вечных пятен машинного масла на моей одежде. «Жил бы дома, я хоть смогла бы обстирать тебя», – сокрушалась она.
Я успокаивал ее как мог. Заверял, что теперь у меня специальность механика: свободно могу разобрать и собрать весь автомобиль по винтику. А если по-прежнему сижу за рулем, так это потому, что люблю быструю езду и смену впечатлений. К тому же на новом месте хорошо начинать с низов, чтобы все видели, что я не страшусь никакой работы.
Мать при мне несколько раз хвалила трактор: ячменя он не просит, не упадет в борозде как загнанный конь, две арбы тащит и не охнет. Я это тоже оборачивал себе на пользу: мой грузовик, говорил я, родной брат твоему трактору!
И все-таки моя мать постоянно удивляла меня.
Помню, как-то в детстве, когда еще было в новинку смотреть на работающий трактор, мы, мальчишки, бежали за стальным трезубцем его лемеха, который рыхлил пашню, вырывая с корнем колючки, и собирали эти корешки, потому что знали, что жарко горят они зимой в печи.
Мать окликнула меня. Я поискал ее глазами за пыльным облаком. «Иди сюда, – позвала она. – Наглотаешься дыма, будешь кашлять. Колючки соберешь после. – Подумав, добавила: – Давай-ка возьмем несколько длинных корней, посадим у нас во дворе».
Я понял так, что она хочет, чтобы колючки росли вдоль забора, как добавочная ограда. Чем менять каждые два-три года высохший кустарник, пусть колючки станут нашим вечно живым забором. Но, к моему удивлению, мать велела посадить колючки посреди двора, ровными рядками, как саженцы яблонь.
– Зачем нам эти колючки? – спросил я недоуменно. – Другие их выбрасывают, а мы привечаем, будто важных гостей?
Прищурившись, она посмотрела куда-то вдаль, поверх моей головы.
– С тех пор как мы здесь живем, на этом поле всегда росли колючки. Они поднимались вместе с первыми всходами и часто глушили их. Жнецы, собирая колосья в снопы, ранили себе руки и тратили время, вытаскивая из ладоней иглы. Но ведь трактор подрезает кустики под корень. Через год-два ни одной колючки здесь больше не останется.
– Ну и пусть! – сердито воскликнул я. – Ты хочешь, чтобы надо мною смеялись товарищи, что я развожу дрянь и мусор?
Мать покачала головой.
– Совсем не мусор. Из отвара колючек готовят лекарство при кожных болезнях. Если что-то вылезло из земли, нельзя его истреблять с корнем, сынок, запомни. Каждое растение чем-нибудь полезно и может понадобиться в свой час. Отвар колючки хорошо добавлять в краску, тогда шерстяная нить впитывает цвет накрепко. Случается, что палас уже истрепан до дыр, а краски его по-прежнему свежи. Уничтожить очень легко. Трудно уберечь.
Я слушал мать, невольно соглашаясь с нею. Разве не видел сам, что в недоступных переплетениях иглистых стеблей вили гнезда иволги? Накормив птенцов, сладкоголосая птичка вспархивала и заливалась трелью. Под шатром колючки, прильнув к корням, спокойно дремали днем зайцы. А если от стада отбивалась овца или теленок, их владелец бежал к нашему деревенскому доморощенному чародею Фати-киши и тот «завязывал волку пасть».
Я спросил у матери:
– Как он это делает? Не ловит же волка?
Мать подумала. На каждый мой вопрос она отвечала с серьезностью.
– Потеряв корову, человек сильно переживает. Ночью помочь делу ничем нельзя, и добрый Фати-киши своим наговором просто старается успокоить встревоженного владельца. Но если корова забрела в заросли колючек, серому не так-то легко к ней подступиться. Она становится задом к колючкам и выставляет вперед рога. Вполне может защитить себя.
После нашего разговора я стал относиться к колючим кустикам с почтением. Насмешки соседских мальчишек больше не задевали. Мне всегда хотелось научиться смотреть вокруг себя такими же внимательными и умными глазами, как мать.
Одно мне казалось тогда странным: почему мать не велела дышать чадом от трактора? Чем он мог навредить мне? Разве мы сызмала не привыкли к дымным очагам? Каждая вязанка хвороста дорого ценилась в морозную зиму, никто не хотел выпускать наружу вместе с дымом тепло и без жалоб терли слезящиеся глаза.
Много лет спустя, когда на лекции в техникуме преподаватель начертил химическую формулу ядовитого выхлопа, я лишний раз подивился правильному чутью матери. Как догадалась она, неграмотная селянка, что дымом от сухих корневищ колючек можно дышать без вреда, а тракторный выхлоп опасен?..
Я немного отдалился от матери за последнее время. Город меняет людей, здесь все делаешь в спешке, мысль не успевает угнаться за вереницей дел. Немудрено, что мать ощущала себя временами одинокой. Когда она приезжала навестить меня в город, я не хотел, чтобы в наши отношения вмешивались посторонние, и избегал задушевных разговоров.
Не заходила у нас речь и о Халлы. Я даже не знаю, по-прежнему ли они дружны? Может быть, скрытая ревность подтолкнула мать на внезапный приезд и знакомство с Халимой?
По понятиям моей матери, если девушка приходит в дом к мужчине, она решается на опрометчивый, даже зазорный поступок. Я и сам прежде так смотрел на вещи. Но с тех пор многое изменилось. Город приучил меня к иным нормам поведения. Мужчины и женщины обращаются здесь друг с другом более вольно, не вкладывая в это никакого постыдного смысла. Сколько раз я брал Халиму под руку, что вовсе не накладывало на меня особых обязательств. Напротив, если бы я не поступил так, то обидел бы девушку и выглядел в глазах горожан сущим невежей. Не возьми я ее на улице под руку, мы могли бы просто-напросто потеряться в толпе…
Я ехал из Баку в родные места, но теплая радость от скорого свидания с ними понемногу остывала, как тускнеет вынутый из горна раскаленный кусок железа. Так случалось уже не впервые. Я спешил, умирая от нетерпения, а возвращался поникшим и разочарованным. Все чаще меня вместо радости переполняли досада и печаль.
Кажется, стало бы легче, если бы домашние встретили меня без всякой приветливости. Мать в сердцах крикнула бы, что ей не нужен неблагодарный сын; старшая сестра не поспешила бы со мною повидаться; Амиль ехидно процедил бы, что, мол, хорош любимчик, возле которого мать не смогла прожить трех дней и поскорее отправилась в обратную дорогу, длинную, как ее подол; а младшая сестренка Садаф, сморщив нос, не захотела бы даже полить мне на руки воды.
Я признавал свою вину: не помогал заработком семье и ушел из селения, потерявшего за войну столько рабочих рук. Со стороны мои поступки выглядели не очень-то красиво: отвернулся от прошлого и ищет выгод только для себя.
Как хотелось по-прежнему вбежать во двор, обнять мать сзади, пропищав тоненьким голоском: «Угадай, кто?» Впрочем, она не любит плоских шуток. Но намерение подкрасться оставалось. Мне хотелось знать, как она коротает без меня дни. Ведь никогда не пожалуется в глаза, будет твердить: «Всего у нас вдосталь, не тревожься». Ее заботы только о других.
Однажды, еще в первую зиму войны, я пришел с работы, и она попросила: «Знаю, что ты устал, сынок, но прошу, зайди к соседке Ханпери, наколи дров. Возле нее не осталось ни одного мужчины в папахе, как управиться одинокой?»
Пока я рубил дрова, мать набрала полный подол щепок, разожгла соседке печь. Опуская возле очага охапку, я вежливо осведомился о вестях с фронта.
– Шафигула нигде не пропадет, – отозвалась Ханпери о муже. – Чинит в тылу дороги, лица войны еще не видал. Зато прислал фотографию с шашкой на ремне!
– А ваш сын Гашим?
У женщины навернулись на глаза слезы.
– Он такой мерзляк! Весь холод мира словно ждал его в эту зиму на фронте! Кто упомнит подобные морозы? Как просила: возьми, сынок, толстые шерстяные джурабы, пригодятся. А он ушел налегке. Любит пофорсить, бедняжка. Боюсь, как бы ног не отморозил…
Мать делала мне знаки, чтобы я приободрил плачущую женщину. Я принялся шутить, хоть и не очень складно:
– Лучше представьте, тетя Ханпери, что он сидит сейчас в землянке у теплой печки. Да не один, а с кудрявенькой медсестрой. Я тоже на днях ухожу в армию. Может быть, встречусь с Гашимом… А вы уж, пожалуйста, утешайте мою мать, если долго не будет писем, как она сегодня утешает вас.
Пригласив нас в дом, Ханпери хотела поджарить яичницу, но я отказался.
– Наверно, у вас припрятаны где-нибудь сушеные абрикосы? Охотно бы полакомился.
Тетушка Ханпери понемногу развеселилась.
– Попроси мать, чтоб сосватала тебе ордубадскую девушку: там растут лучшие абрикосовые деревья. А уж приготовить из них варенье – дело пустое!
Когда мы уходили, она снова завздыхала:
– Кажется, близка оттепель? Хоть бы моему Гашиму не мерзнуть…
На обратном пути мать сказала:
– Единственный он у нее. Как не сокрушаться? Проклятые фашисты отняли сыновей, загасили наши очаги…
Она живет в постоянном беспокойстве обо мне: где сплю, что ем, не устаю ли на работе? Разве просто управлять тяжеленным грузовиком! Еще опасение: на ком женюсь? Родителей будущей невесты она не знает: станут ли они друзьями или побрезгуют деревенским родством?..
2
Крупная автобаза, на которой я теперь работал, находилась в прямом подчинении у Министерства автотранспорта. Во время войны машины обслуживали нефтеразведчиков. От банки консервов до гигантских вышек – все перевозилось на наших колесах.
Службу нефтеразведки расширяли и после войны. Нефть стала еще необходимей для страны. Недаром фашисты изо всех сил рвались к нефтяным скважинам. Нефть качали всю войну, снабжение ею армии на две трети шло из Баку.
Нынче буровики вели поиск по всему Азербайджану. На цветущей земле Гянджи, на привольной карабахской равнине возникали палатки геологов, а следом за ними шагали нефтяные вышки. В самые отдаленные места буровое оборудование доставлял автопарк нашей базы. Вблизи моего родного селения тоже приступили к разведке. Толки об этом начались тотчас по окончании войны. Были они самыми разноречивыми. Кто-то сетовал, что придется ходить по уши в мазуте, дворы провоняют и запакостятся. Демобилизованные солдаты, повидав свет, напротив, обрадованно твердили, что нефть приведет нас к благосостоянию. Селение полностью преобразится, к нему проложат хорошие дороги: уже не придется зимой вязнуть по колено в грязи, пока выберешься на большак. Сельские дети присмотрятся к нефтяному промыслу, освоят новые профессии.
Мать, как всегда, рассудила здраво и разумно.
– Землю, полную сокровищ, люди научатся лучше беречь, – задумчиво сказала она. – Пусть и у нас откроется такое потаенное окошечко в глубь земли! За войну женщины научились самостоятельно управляться с полевыми работами. Что же, их мужьям сидеть теперь по домам, как кули с мукою? Надо находить новую работу для рук.
У подножья Атадага дорога раздваивалась. Узкая спускалась к нашему селению, более наезженная, огибая холм, вела к Ахар-гелю, где я должен был выгрузиться, а потом уже со спокойной душой заночевать дома.
Но сколько я ни вглядывался, не мог разглядеть знакомых примет: над дорогой висела сплошная пелена пыли. Каждая проходящая машина оставляла за собою густой серый хвост, словно невидимое стадо взрыхлило и истолкло копытами землю.
У одинокого раскидистого дерева я свернул влево, в сторону Карабахской равнины. За все время пути навстречу мне не попались ни пешеход, ни арба. Лишь на бережку арыка промелькнули молодые зайцы, уже притерпевшиеся к постоянному фырканью моторов, да на проводах электроопор, которые вели в сторону разведочных скважин, сидели, будто частые бусины, иссиня-черные галки.
Стосковавшись по живому лицу, я очень обрадовался, завидев издали юркие фигурки буровиков. С этого расстояния их можно было отличить от высоких железных бочек с черными тенями на песке только по движению.
Меня окружили, стали расспрашивать о столичных новостях, под навесом шалаша угостили чаем. Когда я уже взобрался на подножку кабины, собираясь в обратный путь, ко мне протолкался плотный парень, на ходу вытирая о тряпку черные руки. Его рукопожатие оказалось слишком долгим, он никак не хотел выпускать мою руку, тряс ее и прижимал к пухлой груди. Такая сердечность заставила меня приглядеться к нему повнимательнее. Лоб, брови, даже щеки были в пятнах мазута и глины. Естественный вид сохраняли только белые, как молоко, зубы. Один глаз он хитро прищурил, словно нацелился им в меня. Второй показался мне несколько косоватым.
– Не узнаешь, дядя Замин? – весело вскричал он. Потом с некоторым сомнением добавил: – Ведь ты Замин, сын тетушки Зохры?
Я кивнул и спустился на землю.
– Мы-то думали, Замин станет большим начальником и нас возьмет под свое крыло. А он даже не здоровается!
– Не сердись. Скажи, чей ты? Я ведь давно ушел из селения.
– Ладно, не утруждай память. Гашим я, сын Ханпери.
Мы обнялись.
– Конечно! Как сразу не сообразил? Мне хорошо запомнилось: ты подстригал себе волосы на лбу и отхватил бровь. Но почему назвал меня дядей? Разве ты младше меня? На фронт мы ушли почти одновременно. Как поживает тетушка Ханпери?
Гашим странно взглянул на меня прищуренным глазом.
– Поезжай в селение и сам ее спроси. Заодно собственную мать не позабудь проведать.
Последние слова хлестнули меня наподобие пощечины. Вспомнилось, что приезжавшие в Баку земляки при самой беглой встрече тоже не забывали ввернуть словцо о моей матери: давно ли навещал ее да чем помог?
Я виновато пробормотал:
– Заработался совсем. Рейсы без передышки. Только-только за место зацепился. Надо было показать себя с лучшей стороны…
– Я и толкую про зацепку, – многозначительно подхватил Гашим. – Нашел, кого нужно? Принимаете меры?
– О чем ты?
– В самом деле ничего не знаешь или притворяешься?
Сердце у меня упало. Во рту стало сухо.
– Сельчане ее не оставят, – продолжал Гашим. – Как говорится: дома и стены помогают.
– Да что случилось? Говори же! – Меня напугал собственный хриплый голос.
– Ну если не знаешь… Сель у нас прошел, поля задел краем, зато начисто смел куроферму, где работала твоя мать. Составили акт. Только не все сходилось. Ты ведь знаешь тетю Зохру? Старательная, неугомонная. Пестовала колхозных кур – ну и достаточно с нее. Трудодни идут. Нет, стала приставать к председателю: купи несколько хороших гусей. Река под боком, корм они сами себе найдут… В общем, к осени от этих гусей стало бело на берегу! Расплодилось гусиное стадо величиной с хорошую отару. Никто не догадался тогда их переписать. А тут сель, беда. В одну ночь все подчистую подмел. Кур-то собрали со всего селения: от кого петух, от кого пара цыплят… А с гусями явная недостача. Ее покрыла из собственного кармана будто бы учительница Мензер. Уж больно она обхаживает твою мать. Не знаешь почему?
– Уголовного дела не открыли?
Гашим обиделся:
– За кого ты нас принимаешь? Честь свою в землю втопчем, что ли? Тетя Зохра хотела корову продать, соседи и то не позволили. Надо будет, по домам соберем. – Он переменил тон: – Хороший урожай в этом году! На трудодень еще по полпуда пшеницы начислили. Благодать! Свадьбы одну за другой играют. Из наших сверстников в холостяках один ты да я.
– Ах, Гашим, не обо мне речь. Бедная мама! Столько страдала в жизни, теперь еще это…
Гашим сочувственно вздохнул:
– Не унывай, братец. Говорят, аллах прибавляет бед тому, кто жалуется. Надо перетерпеть, и все переменится, придет постепенно в норму. Сегодня папаха на голове у Али, завтра – на голове Вали… Так-то.
Гашим хлопнул широкой ладонью по бочке.
– Вот моя работа! Видишь эти холмики словно из толченого кирпича? Не одну тонну перекидаю за день. «Ох» не скажу. Ищем для страны нефть, черное золото. Неделю копаю без передышки, потом в материнском доме неделю отлеживаюсь и отсыпаюсь.
Я слушал его вполуха. Гашим положил руку мне на плечо.
– Возвращайся домой, Замин. Денег можно у нас сейчас заработать побольше, чем в городе. К чему суетиться? Или городскую подружку завел? Тогда молчок. Понимаю.
Я сердито сбросил его руку. Он сверкнул белыми зубами на чумазом лице.
– Задел за живое? В селении кто-нибудь тебя дожидается? В общем, нужна будет помощь, деньги, то да се – помни, у тебя есть друзья. – Он снова переменил разговор: – Говорят, бакинским шоферам сотенные уже складывать некуда? Возят левые грузы на московские базары – зелень, фрукты. Продают втридорога.
– Откуда ты это взял?
– У пьяного секреты выпытывают в кабаке, у шофера можно узнать всю подноготную возле бензоколонки. Повадились они к нам сворачивать с дороги, за бесценок баки наливать доверху. А потом шастают по сельским садам, загружаются яблоками, грушами, всякой скороспелкой. Хочешь, и тебе левый бензин устрою?
– Благодарю покорно, – едко отозвался я. – Нефть еще не нашли, а бензин государственный уже разбазариваете?
Гашим обиделся:
– Лучше, по-твоему, на землю выливать, как делают многие шофера?
– Зачем же выливать?
– А вот считай. Отсюда до города километров пятнадцать. Привезти-отвезти рабочих – всего тридцать. Сколько заплатят за такой мизерный прогон? И какой болван останется тогда здесь работать? Вот в путевках и записывают километраж в пять-шесть раз больший. Соответственно выдается и бензин. Если шофера вернутся с полным баком на базу, вся эта шитая белыми нитками махинация станет явной. Понял теперь, грудной сосунок достопочтенной тетушки Зохры, как устраиваются умные люди на белом свете?
– Интересно… Лиса стала начальницей над курами? Но это же форменное воровство!
– Полегче! Знай себе помалкивай в тряпочку. Сколько людей этим кормится. Не вздумай отнимать хлеб у сирот.
Я уже катил по проселку, оставляя за собой облако плотной пыли, а из мыслей все не выходил оборотистый сверстник. В школе был застенчивый мальчик, проказничал исподтишка, натворит что-нибудь, а сам в стороне. Когда отхватил ножницами с чубом левую бровь, от стеснительности перестал ходить в школу. А нынче бойко держится. Когда рассказывал об истории с селем, а потом хвастался своим трудом и предлагал дармовой бензин – все будто ждал от меня одобрительного жеста, движения готовности…. Неужели он смотрит на старую дружбу как на базарную сделку? Или попал под влияние опытных аферистов, для которых нет ничего святого, а смысл жизни в купле-продаже?
Тяжесть на сердце словно передавалась моим рукам, которые судорожно сжимали руль. На повороте у подножья Атадага руль словно сам собою крутанулся влево, и грузовик свернул в сторону Эргюнеша.









