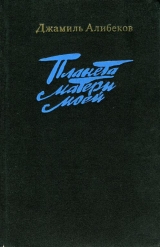
Текст книги "Планета матери моей"
Автор книги: Джамиль Адил оглы Алибеков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 44 страниц)
25
Нет смысла распространяться о том, как я попал в больницу и провел там несколько суток без сознания. О происшедшем на горе рассказ мой показался бы тоже слишком бледен и сух. Гораздо подробнее описал аварию Дадашзаде. Газету с его очерком принесла Халима, уже когда я медленно пошел на поправку.
«…После статьи о новаторе Вагабзаде, – писал он, – редакция получила множество откликов. Читатели полностью поддерживали передовую инициативу и предлагали распространить метод удвоения на другие области народного хозяйства. Многие спрашивали о самом Замине Вагабзаде. Я хорошо знаком с ним, но разговорить этого скромного человека чрезвычайно трудно. Однажды он обмолвился: «Наш век вошел в мир на плечах машин». Я спросил, что он имеет в виду. Вагабзаде задумался и продолжал с явной неохотой: «Жизнь человека не учебник, чтобы листать на любой странице. Есть моменты, о которых не хочется оповещать других. Вы знаете лишь небольшую часть моей трудовой биографии. Я расскажу вам кое-что еще, но, чур, не для печати». Я намеревался никогда не нарушать своего обещания. Но недавно меня вызвали в городскую прокуратуру. Каково же было мое удивление, когда следователь разложил на столе все статьи, так или иначе связанные с именем Вагабзаде! Что могло заинтересовать в них следственные органы? «Так вы ни о чем не знаете?» – «Нет. А что случилось? С Замином что-нибудь произошло?»
Он отозвался не сразу. Придвинул к себе затейливую китайскую зажигалочку в виде гарпуна, нацеленного на человека-рыбу. Стоило нажать на рыбий хвост, как вылетал язычок пламени. Мы оба закурили. Изображение сказочного существа почему-то напомнило мне давний рассказ Замина о своем детстве, когда тот был поражен рисунком крылатой девушки на старинном граммофоне…
«И давно вы знаете Вагабзаде?» – спросил следователь. «Несколько месяцев». – «А если точнее?» – «Тогда еще меньше. То есть мы знакомы лично совсем недавно. Но уже несколько месяцев я интересуюсь его работой». – «Значит, встреча произошла лишь в связи с вашей профессией газетчика?» – «Именно так, если это важно для вас». – «Для меня все важно. Вы видитесь с ним во внеслужебное время, ходите друг к другу в гости?» – «Без труда отвечу, но прежде хочу знать, к чему все эти вопросы?» – «Как вы думаете, чем мы занимаемся в прокуратуре?» – «Чем-то, что сродни журналистике: человекознанием». – «Хорошее слово!» Следователь сел поудобнее, показывая тем самым, что разговор предстоит долгий, доверительный. Словно он нуждался в моей помощи и рассчитывал на нее. Я продолжал: «Человек лучше всего раскрывается в сфере труда, в сфере применения своих сил на общественном поприще. Убежден, что любое новаторское движение возникает в определенно обусловленное историей время. Скромная на первый взгляд идея Вагабзаде о ликвидации порожних рейсов грузового транспорта не могла никому прийти в голову тридцать лет назад, когда разъезжали сплошь на арбах. Но нынче земной шар держится не на золотых быках, а на резиновых автомобильных колесах. Шофер – самая ходовая профессия. Грузовик – та экономическая ниточка, которая связывает далекое и близкое, большие города и горные селения. Поэтому пустые прогоны оборачиваются сотнями миллионов рублей, потерянных для народного хозяйства!» – «Справедливое суждение. Теперь мне понятно, почему вы так высоко оценили инициативу Вагабзаде. А что вы скажете о нем как о человеке?» – «Придерживаюсь мнения, что хорошее дело делается благородными людьми». – «Не слишком ли вы превозносите его? На месте Вагабзаде мог оказаться всякий другой». – «Не спорю, что другой, но отнюдь не всякий! Иному сподручнее думать не о государственной выгоде, а о собственной пользе. Ведь, по сути, мало кто возвращается порожняком. Левые грузы тоже грузы. Только оплата идет в карман водителя. Замина Вагабзаде отличает бескорыстие. Его почин должен был получить широкий общественный резонанс». – «А если задней мыслью у него и была жажда славы, известности?» – «Вагабзаде человек без задних мыслей. Он постоянно твердил, что хочет остаться в тени. Зато охотно называл своих товарищей». – «Гм… Ну, а странное имя Халлы вам что-нибудь говорит в связи с Вагабзаде?» – «Разумеется. Мне известно, кто такая Халлы. Однако это сугубо интимная история, и я не вправе касаться ее. Еще раз настойчиво прошу объяснить: что произошло с Вагабзаде?» Следователь пожал плечами с некоторым раздражением. Видимо, у него были отработанные методы ведения дела. Вот что я узнал от него. Вагабзаде попал в аварию во время очередного рейса и, находясь в шоковом состоянии, повторял лишь два имени – своей матери и некоей Халлы, перед которой он считал себя глубоко виноватым. Несколько раз следователь слышал его бред, который навел его на мысль о каком-то сокрытом преступлении. Возможно, имеются сообщники, которые попытаются проникнуть в больницу, чтобы заставить Вагабзаде замолчать. Ниточкой становилось имя Халлы. Но никто из окружающих Вагабзаде не мог объяснить, кто это такая. «Занимаясь расследованием, – продолжал следователь, – я все глубже вникал в дела автобазы и все больше изумлялся. Не отдельным жульническим проделкам, которые встречаются повсюду. Нет! Меня поражала вся «модель отношений», если можно так выразиться, возникшая на этой «банде-базе», как ее давно прозвали в городе. Эта модель абсолютно во всем противоречит нашему, советскому образу жизни, напоминая злокачественную опухоль, которая грозит перекинуться на здоровые организмы. Если это произойдет, одним уголовным делом болезнь будет уже не пресечь! Вот что меня встревожило по-настоящему. Я пытаюсь разомкнуть все звенья морально-преступной цепи. Добраться до начальной нитки клубка. Видите, передо мною папка? Она почти полна. А вот ее последняя страница. – И он прочел хорошо поставленным голосом, привыкшим к обширным аудиториям: – Во время очередного рейса на Боздаг машина «АЗМ 19—27» совершила умышленный наезд на другой грузовик. В результате аварии водитель транспортной конторы тысяча первой Вагабзаде Замин Зал оглы был тяжело ранен и помещен в железнодорожную больницу… – Следователь развел руками с непривычно виноватым видом. – Мне сказали, что положение Вагабзаде почти безнадежно. Операции он не выдержит. Верите ли, выйдя от хирурга, я несколько часов бродил по улицам. Неужели придется на этой странице дописать: дата смерти такая-то?»
Дальше в статье Дадашзаде шло короткое изложение истории, которую следователь рассказал ему более подробно и полно, а я узнал спустя много времени уже от самого журналиста с его разъяснениями.
Следователь вновь явился в больницу на следующий день и спросил у главного врача:
– Положение Вагабзаде за эти сутки не ухудшилось? Может быть, следует решиться на операцию?
Главврач, человек солидный и обстоятельный, снял очки с толстыми стеклами, похожими на лупу, в золотой оправе. Потер переносицу с красным рубцом. Белоснежным платочком осушил влажный лоб. Выражение его лица было явно озадаченным. Тяжело вздохнув, он сказал:
– По существу, пациент уже мертв. Он дышит лишь потому, что у него крепкое молодое сердце. Человек может возложить оплату всех своих земных долгов на других лиц, кроме одного долга – долга сердца. По этому счету надобно расплатиться самому. И пока главный долг не уплачен, душа не может покинуть тело. – Главврач слегка усмехнулся. – Я выражаюсь, разумеется, иносказательно, но больного в самом деле что-то томит. И сердце-должник не может остановиться.
– На нем нет никакой вины, – быстро вставил следователь. – Я провел кропотливое расследование.
Главный врач прервал величественным жестом:
– Мы, врачи, не отказываем в праве жить никому, даже отпетому преступнику.
– Повторяю: он не преступник! Против него нет ни одного свидетельства. Ему выпало сиротское детство, но семья была честная, трудовая. Он нетерпим к темным делишкам – это так.
Главный врач едва дослушал. Выражение легкой иронии и недоверия не покидало его черт.
– Дорогой мой, я не прокурор! У меня совсем другая профессия. Но я слишком много повидал, чтобы остаться легковерным. Убедиться, что человек не уголовник, – это еще не значит узнать о нем все. О мертвых плохо не говорят. Они уже не могут ни смыть, ни загладить свою вину. Но бывает, что пятно ложится и на живых.
– Вам известно что-нибудь определенное?
Врач раздраженно дернул плечом.
– Следствие ведете вы, а не я.
– Вот я и прошу вас помочь, если вы что-то знаете.
– Допустим, знаю. Или предполагаю. Но мои сведения не из тех, которые подшиваются к протоколу. Они не послужат ни к обвинению, ни к оправданию. И не оживят мертвого.
– Вагабзаде еще жив.
– Да. Мы сделали все ради этого. Но останься он даже в живых, ему не исправить свою прежнюю роковую ошибку.
Главный врач покосился на дверь и произнес, понизив голос:
– Здесь была девушка. Вы говорили с нею?
– Девушка? Из практиканток?
– Нет, нет… сестра больного.
– Допрашивал, как же!
– Допрашивать было незачем. Просто поговорить, расспросить о матери. Любопытнейшая личность их мать, знаете ли!
По мере того как почтенный доктор воодушевлялся, интерес следователя к нему угасал. Разговор представлялся пустым и малозначительным. Поскольку версия о преднамеренности аварии, видимо, отпадает, то какая надобность копаться в прошлом пострадавшего?
– Каждый из нас в долгу перед матерью, – рассеянно проронил следователь, ища благовидного предлога, чтобы распрощаться.
Главный врач, казалось, этого не заметил.
– Вы правы! Я думаю, что если бы природа допускала обратный ход времени и у детей сначала отнималась мать, а потом снова была им возвращена… О! Как они берегли бы ее тогда! Как почитали и любили!
Зазвонил телефон. Подняв трубку, главный врач сначала отчитал кого-то, потом смягчился и терпеливо разъяснил, что, нет, никакой телеграммы он не посылал. «Но то, что вы приехали, – добавил он, – прекрасно! Вас пропустят к нему, не тревожьтесь».
Окончив разговор, он посмотрел на следователя со странно торжествующим видом. Даже потер от удовольствия руки.
– Сейчас вы убедитесь, мой дорогой, что люди в белых халатах небесполезны в детективных происшествиях. Возвращая человеку жизнь, мы может иногда посодействовать и возвращению его доброго имени. Короче: к Вагабзаде кто-то приехал. Какое-то новое неизвестное лицо. Сказать по правде, я сам велел его сестренке оповестить родных и знакомых о критическом положении. Иногда сильные встряски вызывают у больного перелом к лучшему. Особенно при безнадежном состоянии.
Оба поспешно собрались – следователь взял с собой пухлую папку, главврач надел халат и медицинскую шапочку. В конце длинного коридора они нагнали двух молодых женщин. Одну из них следователь узнал без труда – она была дочерью бывшего учителя и друга Вагабзаде. Очень кокетливая девушка с высоковзбитыми волосами. Настолько уверенная в собственной неотразимости, что не считала нужным следить за манерами, говорила грубовато и свысока, хотя в то же время посылала каждому зазывную улыбку.
Зато другая… То, что она выросла на свежем воздухе, выдавал румянец щек, бледно-розовый, как осенняя роза. На ней был скромный дорожный костюм. Стоя спиной к окну, так что свет обрисовывал лишь контуры фигуры, но оставлял в тени лицо, она тихо и настойчиво спрашивала о чем-то у врача. Тот отвечал, избегая ее прямого взгляда.
– Барышня проводит вас в палату, – сказал наконец он, кивнув на Халиму. – Но помните: у больного мало сил, а он занят важнейшей работой.
– Работой? – удивилась незнакомка. – Но нам сообщили…
– Его работа – бороться за собственную жизнь, – несколько высокопарно отозвался главврач. – Простите, я спешу. Если завтра сможете зайти еще раз, буду рад с вами побеседовать подробнее.
Она глядела на него глазами, полными слез. Эти слезы вызвали у следователя смутное ощущение сада, окропленного дождем. Показалось даже, что в воздухе разлился слабый аромат мокрых трав.
– Не плачьте, дорогая ханум, – мягко сказал главный врач. – Пройдите в мой кабинет, успокойтесь. Слезами ни болезнь, ни смерть не испугать.
Он пытливо вглядывался в ее лицо и вдруг, круто повернувшись, зашагал прочь. Что-то необычное было в этом поспешном уходе. Через секунду, уже в пальто, он покинул кабинет, а потом и больницу, ни разу не оглянувшись.
Халима с удивлением смотрела ему вслед. Затем, словно опомнившись, дотронулась до плеча приезжей:
– Пойдемте. Я провожу вас. Зачем плакать? Я всякий раз ухожу отсюда с надеждой. А кем вы приходитесь нашему Замину?
Возможно, приезжая ответила слишком тихо, и шепот затерялся в стуке каблучков по свежепротертым половицам больничного коридора. Или вовсе промолчала? Следователь не услышал ничего и медленно двинулся следом.
В палату первой вошла быстрым, решительным шагом Халима. За нею, словно запнувшись у порога, незнакомая молодая женщина.
Пока Халима брала в свои руки безжизненную ладонь больного, похожую на перебитое крыло ласточки, и, подержав немного, опустила ее, незнакомка, шатаясь, подошла к кровати, рухнула на колени и припала головой к ногам неподвижного Замина.
Ее порыв был так естествен, так неодолим, что снова вызвал у следователя представление о стихийных силах природы. Будто он смотрел на снежную лавину, когда бесшумное грозное сползание снега рождает иллюзию движения самой горы. Шевеля плечами, гора медленно раскачивается, грозя обрушиться и увлечь за собою следом все живое. Горестное раскачивание этой женщины напоминало странное колдовство, при котором следователь с Халимой оказались лишь случайными зрителями. Глухие рыдания сотрясали ее тело и отдавались в голых стенах палаты эхом дальнего грома. Она приблизилась к Замину вплотную, приложила его безответную руку к своему лицу.
Ресницы больного дрогнули. Он беспокойно заворочался, силясь приподняться. Непослушные пальцы слабо дотронулись до омоченной слезами щеки.
– Халлы… – прошелестел вздох, и веки его снова сомкнулись.
– Замин… мой Замин! Во всем виновата только я. Я сделала тебя несчастным… я тебя погубила! Ответь мне хоть что-нибудь! О, помогите, умоляю…
Такова была первая встреча дотошного следователя с таинственной особой, которую он тщетно разыскивал.
Дадашзаде тоже несколько раз навещал больного. Тот был уже в сознании, но говорить с ним не разрешалось. Они здоровались одними глазами, и журналист бодро показывал жестами, что доволен сегодняшним видом друга. Тот, в свою очередь, вяло шевелил большим пальцем, пытаясь подтвердить, что дела идут «на ять», тогда как его налитое свинцом распростертое тело оставалось неподвижным.
Обычных посетителей в палату пока не пускали. У кровати сменялись только родные.
Дадашзаде, однако, повидался почти со всеми участниками рейса на Боздаг. Как ни странно, подробностей аварии ему не мог поведать никто. Машины шли друг за другом с интервалом и растянулись на большом расстоянии. Все сходились на том, что Замин свернул с дороги сознательно и сам подставил свою машину под потерявший управление прицеп Гуси, стремясь предотвратить другую, более грозную аварию. Ведь грузовик Гуси пятился к обрыву и готов был рухнуть прямо на нефтяную скважину. Струя нефти вырвалась бы тогда наружу, что неизбежно вызвало грандиозный пожар. Потоки горящей нефти, устремляясь по склону в долину, губили бы все на своем пути. Уже не только Гуси, но весь караван и жители долины подвергались смертельной опасности.
«Таков последний мужественный поступок шофера Вагабзаде, о котором просили рассказать наши читатели. Он не пожалел собственной жизни, чтобы заслонить собою товарищей и спасти государственное имущество. Больше прибавить к этому нечего» – так закончил свою статью Дадашзаде.
26
Наконец-то я переплыл реку смерти, по выражению главного врача, и вновь очутился на берегу жизни! Все вокруг казалось мне обновленным, вызывало острый интерес. Я уже с трудом мог вспомнить тот страшный миг, когда силы мои полностью иссякли и я готов был сдаться.
Черная пелена поплыла у меня тогда перед глазами. Лишь внутренний взор приобрел провидческую зоркость. Казалось, я мог уловить даже слабое свечение керосиновой лампешки в пастушеской хижине где-нибудь среди скал, на краю земли. Но и этот утлый огонек погас! Все стало черно, беспросветно вокруг меня. Померкшие зрачки не замечали ярких больничных ламп.
Врач и медицинская сестра пытались задержать меня на краю бездны. Укол следовал за уколом. Мне растирали заледеневшие ступни ног. Сжимая запястье, ловили ускользающий пульс. Я лежал спокойный и безразличный ко всему. Болеутоляющие лекарства больше не радовали меня; я не ощущал ни боли, ни тревоги. Хотелось даже улыбнуться врачу и уверить его, что мне совсем не страшно… Из опасной апатии меня вывела мысль о матери. Бедная мама! Я со всеми распростился мысленно. Оставалось попрощаться с нею.
И тут зрение стало понемногу возвращаться ко мне. Я уже смутно различал лицо склонившегося надо мною врача, видел напряженное биение жилки на его шее. Затем уставился в черные ночные стекла. Как хотелось дождаться рассвета! Порадоваться солнцу, будто теплу материнской руки…
Когда я очнулся на больничной койке, первой увидел ее. «Миленький, как ты?» На матери был обычный темно-фиолетовый платок-келаган, один конец которого спускался на грудь. Она молитвенно обернула взгляд к окну: «Слава аллаху, жив!» Шероховатая ладонь гладила мой лоб. Эти прикосновения были так приятны, что, повернув голову, я слегка прижал ее руку к подушке. Уютно, радостно было лежать голове на ее пальцах. Боль понемногу уходила, и теплота разливалась по затылку. Словно я ребенком примостился на сухой, прогретой солнцем доске. Сладкая дрема сомкнула веки. Уже сквозь сон я ощущал, как мать ощупывает мои ноги начиная со ступни, сильно сжимая щиколотку, чтобы понять, не потерял ли я чувствительность.
Когда я открыл глаза, она прошептала:
– Да буду я твоей жертвой! Ноги у тебя целы, сынок.
С этого момента началась моя отчаянная, хотя и незримая борьба за жизнь. Умри я – и вместе с собою унес бы навечно скупую улыбку матери, ее благодарные светлые слезы. Ту силу духа, которая поддерживает многих односельчан. Да, селение лишилось бы тогда прежней Зохры, помощницы и советчицы для каждого, которая умела удерживать человека у самого начала дурной дорожки. Без ее мудрого наставления возникнут неурядицы, покачнутся многие дома: там опрометчивый джигит породнится с недостойной семьей, там забывшая стыд вдовица зазывным хохотом насыплет горячих углей в постель постороннему мужчине или же очерствевший душой отец семейства покинет больную жену, польстится на молоденькую. Некому станет усовестить и одернуть людей вовремя. Лишившись тетушки Зохры, селение потеряет совестливость..
Клянусь, что первой мыслью, выплывшей из глубины моего затуманенного мозга, была именно мысль о матери. Я тихо порадовался тому, что, умерев раньше нее, буду избавлен от той жгучей тоски над материнской могилой, когда потрясенная плоть готова рухнуть на свежий холмик и вместе со слезами впитаться в черную землю. Боюсь, что отчаяние смело бы ту сдержанность, ту многотерпеливость, которые день за днем воспитывала во мне моя бедная мать.
Да, в этом тоже есть своя удача – отойти в иной мир раньше матери. Своеобразная жизненная награда преданной сыновней любви. Разве легко было бы мне услышать поздний упрек усопшей, когда кто-то посторонний, заботливо поднимая меня с колен от надгробия, с ворчанием скажет, что вот-де ушла неразумная женщина и оставила после себя беспомощных детей, не приспособленных к житейским испытаниям.
Эти странные мысли постоянно осаждали мое больное воображение. Будто шкодливые телята, они забредали в чужой огород и без разбору – спелый овощ или нет? – хватали все подряд мягкими губами, топтали резвыми копытцами.
Понемногу я начинал осознавать, что мое существование на земле не только дело моего личного хотения. Множеством нитей я связан с судьбами других людей. Например, с жизнью Халлы. Моя кончина отняла бы у нее последнюю искорку надежды на счастье.
Халлы… Ее лицо, вторым после материнского, я увидел возле своего изголовья. Что переживала бедняжка, трудно даже вообразить. Должно быть, корила себя за то, что когда-то в юности толкнула меня поступить на шоферские курсы, покинуть родное селение? Останься я в колхозе, ходил бы мирно за плугом, жал и молотил. Что мне могло угрожать? Самое большое огорчение, что лемех врежется в куст, сойдет с борозды, оставив на пашне огрех, а горсть невзошедших семян склюют птицы. Или, срезая пшеничный сноп, неосторожно взмахну остро отточенным серпом и пораню руку? Лист подорожника быстро уймет кровь, остановит нагноение. Все эти мелкие невзгоды никак не могли бы идти в сравнение с теперешней бедой. Они переносятся легко, на ногах.
Погоня за удачей на автомобильных скоростях укладывается в один день вместо десяти лет, которые понадобятся для того же самого, если трястись на быках. Но и теряется схваченное на лету счастье во мгновение ока…
Однако честно ли уйти мне из жизни именно сейчас? После того, как, неприметно оставив позади обездоленное детство, прошагав не хуже других суровые военные дороги, выбравшись, наконец, на шумливые бакинские улицы, я окунулся с головой в проблемы злосчастной «банды-базы»? Достойно ли покидать тех людей, которые поверили в меня и готовы плечом к плечу бороться за справедливое будущее? Стоит мне навеки смежить глаза, как над свежей могилой поползет ехидный шепоток: «Видите, чем всегда кончается подобное баранье упрямство? Лез на рожон и вот дождался…» А я уже не смогу отозваться ни звуком. Меня просто не будет больше нигде – ни на земле, ни на небе!.. То-то раздолье клеветникам! Кто помешает тому же Галалы называть черное белым? Подумать только, перед сколькими людьми окажусь виноватым я, мертвый! Какой вред принесет моя безвестная кончина. Оказывается, и горсточка семян нужна на ниве жизни?
Хорошо. Взглянем теперь на вещи по-другому. Что я сам потеряю, покинув до срока земную юдоль? Халлы! От нашей любви останется лишь невнятное и безымянное предание о солдатских вдовах, которые умели отказывать себе в искреннем поцелуе любви, блюдя до седых волос честь погибшего мужа.
Ах, кто знает, останься я в живых, куда поведут нас обоих житейские дороги?! Ныне мы запнулись на перекрестке; разойдутся наши пути или сольются в один общий? Окажемся мы выше людских пересудов? Сможем ли переступить через собственные сомнения и предрассудки? Темно… темно…
Так же темно, как за больничным окном, заслоненным крылом неотступного ангела смерти Азраила. Всю долгую ночь за преградой стекла не вспыхнул ни один беглый огонек. Тоскуя по свету, я не умер и дождался утра.
В который раз, разлепив ресницы и уловив наконец слабое серенькое свечение, я догадался, что это уже не отблеск ночника, но наступление нового дня.
Вместе с рассветом вернулась прежняя боль. Палатный врач обрадовался ей как доброй помощнице. Он тоже провел бессонную ночь, но его движения были проворны, а все существо излучало жизнерадостность.
– Все идет великолепно, – сказал он. – Мне и надобно, чтобы тянуло жилы и разламывало косточки. Без боли нет жизни. Терпи, злись, жалуйся… Поболит – пройдет. Зато я буду знать точно, где притаился враг, твоя болезнь. Ты сейчас – как поле без боя. В теле сокрыто невидимое воинство защитников. Им бы только указать правильное направление, они и кинутся на врага! А мы со своей стороны подкинем боеприпасов, снабдим техникой и горючим – вот что такое наши уколы и лекарства, браток!
Я подпадал под магию этих бодрых слов; тело послушно выполняло команды. Но температура держалась по-прежнему высокой, к вечеру не ниже тридцати девяти.
По ночам ко мне никого не пускали. Лишь палатный врач частенько оставался в больнице до утра. Жена привозила ему завтрак из дому, и он закусывал прямо у моей постели. Однажды оставил на тумбочке банку меда. Сказал, что это целебный кельбаджарский мед, который лучше всяких таблеток.
– Ничего, браток, – повторял он, – проклятая война поневоле двинула вперед восстановительную хирургию. Мы славно научились сращивать косточку с косточкой. Недавние хромые у нас нынче без палок ходят.
Значит, я хромой? Значит, могу вообще не ходить?..
Эта ужасная мысль вытеснила все остальное. Я как-то начисто позабыл, что первое время не мог приподнять голову от подушки навстречу матери, что Халлы сама брала мою омертвелую руку. Нечеловеческая боль пронзила позвоночник, и от этого ощущения раскаленного прута я потерял сознание.
Очнувшись, видимо, очень не скоро, увидел перед собою Халиму. Она тоже осунулась, бедняжка. Румянец полностью сбежал со щек. Веки припухли и покраснели.
– Что, Замин? – Халима ласково дотронулась до моей руки.
– Я что-нибудь сказал?
– Мне так показалось.
– Пойди отдохни. Сколько дней дежуришь возле меня? – Я начал слабо перебирать ее пальчики: – Один, два, три?..
– Скоро меня сменит Мензер. Тогда отдохну.
Но вместо Халлы пришел Билал. Он и раньше появлялся у моей постели. Смотрел на меня издали и, не сказав ни слова, исчезал. Губы его были закушены. Казалось, скажи я ему: «Видишь, что со мною сталось?» – и он безудержно разрыдается.
На этот раз Билал остался в палате дольше. Халима, не отпуская моей руки, проговорила прежним беспечным, шаловливым тоном:
– А ну-ка, потягаемся. У кого в руках больше силы?
– Ты думаешь, я совсем калека? Меня беспокоят только мои ноги.
– Ну! Ты будешь еще футбольный мяч гонять!
– Хорошо бы.
К Билалу Халима обернулась только тогда, когда тот подвинул к кровати табурет.
– А, и вы здесь? Мы заговорились с Замином…
– Тебе лучше? – Он смотрел на меня с жалостливой улыбкой. – Все верят, что ты скоро поправишься. Только моя мать льет слезы…
Халима метнула на него сердитый взгляд. Но было уже поздно. Добрая тетя Бояз! Сердце у нее вещее… Мы все трое примолкли, утеряв нить разговора. Я заговорил первым, чтобы показать, что не потерял самообладания:
– На Боздаге нам как-то попался трупик зайца, которого накрыл грязевой поток. Я возмутился: где же были его быстрые ноги? Не бойтесь, друзья, я по-заячьи не умру. Даже если суждено прожить инвалидом, найду себе занятия по силам. В ремонтных мастерских Икрамова пригодятся мои руки. Главная школа у человека – его детство. А меня жизнь учила сызмала крепенько! Так что и из этой передряги выйду победителем.
Оба смотрели на меня с нескрываемым беспокойством. Возможно, они подумали, что я начал бредить.
Билал, пряча глаза, бесшумно поднялся и вышел за дверь. Должно быть, звать дежурную сестру.
– Прекрасный парень! Только мы с ним никогда не поймем друг друга. Слишком мрачно смотрит он на окружающее. А чтобы побеждать, нужна толика бесшабашности. И еще больше – веры в жизнь и в самого себя. Окажись Билал на моем месте, он не вынес бы неизвестности впереди, не смог лежать неподвижно, прикованным к постели.
Халима, явно гордясь тем, что не поддалась малодушию и осталась спокойной, примирительно сказала:
– Он очень предан тебе, Замин. Ты говоришь, что он ни во что не верит? Ошибаешься… Он верит тебе.
– А тебя любит. Ты догадывалась об этом?
Халима порывисто вскочила с места, низко склонилась надо мною, взяла мою руку и, прижав к своей груди, стала поглаживать, как мать грудного младенца.
– Для меня существуешь только ты, Замин! Я люблю в тебе все: твое беспокойство и твою наивность. Зачем мне жизнь на всем готовом? Сама хочу заработать свое счастье. Я добуду тебя у судьбы и никому не отдам!
Меня бросило в жар от ее горячечных слов. Лоб покрыла испарина. Стало совестно, что я ничем не могу ответить. Пробормотал неуверенно:
– Не обижай Билала, Халима. Ведь я…
– Что? Останешься калекой? Пусть! Здоровый или нет, но ты мой! Я сумею стать твоей опорой, сиделкой, поводырем. Мои руки станут твоими костылями. Ведь эти бедные деревяшки тоже знают: стоит больному выздороветь, и их без жалости отбросят прочь. Я буду служить тебе, как они, даже без надежды на простую благодарность!
– Халима! Что ты говоришь?! Ничего подобного мне не приходило в голову…
Раздался негромкий стук в дверь. Обычно так стучится палатный доктор, когда у меня есть посетители. Он никогда не входит без стука. И в самом деле, в дверь просунулся какой-то резиновый хобот, а доктор, пригнувшись, нырнул под него, переступая порог. Он широко улыбался.
– С грузовиком-медведем ты уже поборолся. Теперь на очереди слон. Хотим на тебе первом испытать новый аппарат.
Пришлось распахнуть дверь настежь, чтобы ввезти громоздкую машину на колесиках. Вилку воткнули в розетку. Двое мужчин – белые халаты сидели на них мешковато, явно показывая, что они не привыкли носить подобное одеяние, – двигали мою кровать взад и вперед, отыскивали лучшее положение. Доктор вынул у меня из-под головы подушку. Смена положения тотчас отозвалась колющей болью в спине. Я тихонько охнул.
– Чувствительно? – тотчас встрепенулся доктор. – Ничего, сейчас успокоим.
– Нет, доктор, прошу вас, не надо больше уколов. Мне пора привыкать к боли. От всех этих наркозов и успокоительных инъекций я чувствую себя одурманенным, погружаюсь в приятные грезы. А мне ведь жить не в сновидениях, а наяву.
Он внимательно посмотрел на меня:
– Хорошо. Только ведь и мне придется мучиться, глядя на страдающего пациента. Думаешь, я это заслужил?
– Обещаю вести себя спокойно. Я умею терпеть.
Врач с сомнением покачал головой, и блики его очков, подобно солнечным зайчикам, прошлись по потолку. Однако возражать больше не стал. Техники начали подготовку к процедуре.
Я вытерпел боль. Лежал с закушенными губами. Прибор гудел, скрежетал, как будто толкали вагонетку по ржавым рельсам. Звук был отвратительный, леденящий.
Когда доску из-под меня вынули и техники удалились, врач, отдуваясь, проговорил:
– Ну, Замин, теперь я верю, что ты полностью выздоровеешь и добьешься в жизни чего пожелаешь. С такой-то силой воли, как у тебя!..
– Вы это серьезно, доктор?
– Разумеется. При условии, что твои планы будут в пределах разумного. Судьбу определяет характер. А он у тебя есть. Но никогда не желай себе судьбы другого!
– Чужая судьба – ноша, которая никому не по плечу, – согласился я.
И в ту же минуту увидал заплаканные глаза Халимы; она притаилась в уголке и теперь выглядывала из-за «хобота». Ее сотрясала нервная дрожь. Должно быть, она приняла последние слова на свой счет.
Врач проследил мой взгляд и, заметив Халиму, нахмурился. Выразительным движением бровей дал понять, что недоволен ее присутствием. Девушка не вызывала его симпатий, я давно это заметил. Зато с какой предупредительностью он относился к Халлы! Возможно, выпытал у моей простодушной сестренки Садаф кое-что о нашем прошлом.







