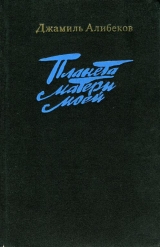
Текст книги "Планета матери моей"
Автор книги: Джамиль Адил оглы Алибеков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
2
Первый рабочий день внес заметные коррективы в намеченный мною ранее план действий. Думалось, что начать следует с подробного ознакомления с экономикой района, обследовать отдельно пахотные угодья, виноградники, пастбища. А пришлось с ходу принимать посетителей и разбирать жалобы.
До самых сумерек поток в приемной не иссякал. Сейранов, помощник первого секретаря – с этого дня мой, – безотлучно находился в кабинете. Он разбирал письма и вслух зачитывал на выбор некоторые из них. Отдельно лежала стопка конвертов из села Чайлаг. Сельчане уповали на скорую помощь райкома. Но в чем? Они пеклись отнюдь не о том, чтобы наладить колхозное хозяйство и повысить общественные доходы. Душераздирающие вопли касались сугубо личных, даже семейных дел. «У меня шестеро детей, а мужа сбили с правильного пути». «Клянусь партийной совестью, в этом деле моей руки нет!» «Мне угрожают, если стану работать кладовщиком и приму колхозный амбар, сжечь дом вместе с детьми…»
На каждом письме я делал пометку, в какие органы его направить и когда доложить мне о принятых мерах.
Райком опустел, и уже вечером я придвинул стопку писем, чтобы вновь перечитать некоторые из них повнимательнее. Сейранов нерешительно заерзал на стуле.
– Вы свободны, товарищ Сейранов, – сказал я. – Меня дожидаться необязательно. Я буду вынужден какое-то время задерживаться после рабочего дня. Да и ночевать поеду в селение к матери. Вы и прежде проводили столько времени в четырех стенах?
– Что поделать… – Он пожал плечами. – Работа такая – сидячая.
Сейранову было за пятьдесят. Возраст выдавали круглая лысина на макушке, обильная седина в густых усах и резкие морщины, избороздившие его лицо вдоль и поперек. Такие глубокие, выразительные борозды свойственны обыкновенно умным или жестоким людям. У него были кустистые брови, нависавшие над глазами и скрывающие половину лба.
Хотя он держался вполне корректно и был исполнителен даже в мелочах, какое-то постоянное скрытое неудовольствие не оставляло его. Любое самое беглое мое замечание он непременно заносил в блокнот, а каждый наш разговор заканчивал одной и той же сдержанной фразой: «У вас ко мне больше ничего нет?»
Сейранов занимал свою должность еще до войны, больше двадцати лет, состарился на ней и собирался благополучно дождаться пенсии. Любимым его присловьем было: «Скольких первых секретарей я уже перевидел!» В сущности, это неплохая характеристика служебным качествам. Непросто срабатываться с людьми, обладающими совершенно разными характерами, неукоснительно выполнять их распоряжения, а затем, когда происходила смена руководства, оставаться со средним районным звеном по-прежнему в наилучших отношениях. В Эргюнеше с Сейрановым считались, его уважали, это нетрудно было заметить.
Я обращался с ним с особой предупредительностью, надеясь в дальнейшем на его опыт и помощь. Отодвинув пачку писем, спросил без обиняков:
– Как по-вашему, наши с вами решения по этим делам правильны?
Он прищурился, но его глаза из-под век странно блеснули. Я успел уловить этот огонек и пожалел, что обратился с таким простодушным вопросом.
Сейранов быстро взял себя в руки. Должно быть, он уже собрал обо мне кое-какие сведения. Моя манера поразила его только в первую минуту. Он отозвался с невозмутимостью:
– Обыкновенно так все и делалось. Мы направляем письма в другие инстанции. Разбирать каждую жалобу самостоятельно у райкома нет возможности.
– Сколько писем в год мы получаем?
– Год на год не приходится. Восемь-девять тысяч…
– Значит, ежедневно около двадцати?
– По понедельникам близко к сотне. Вопрос о письмах неоднократно ставился на бюро и на пленумах райкома. Письма требуют кропотливой и серьезной работы. За каждым стоит живой человек…
Сейранов отвечал осторожно, общими словами, обтекаемо, но я видел, что он отлично понял смысл моего вопроса: почему поток писем растет так стремительно, если райком правильно реагирует на каждое из них?
– Так в чем же все-таки дело? Почему люди вынуждены обращаться вновь и вновь по одному и тому же поводу? – Я не выдержал и встал с места.
Сейранов слегка усмехнулся с понимающим, умудренным видом. Сколько раз, должно быть, он слышал подобные гневные вопросы из уст вновь испеченных первых секретарей! Выдержка ему ни в чем не изменила. Он лишь выразительно посмотрел в сторону неплотно притворенной двери, как свойственно бывалым чиновникам, которые не хотят, чтобы их откровенное слово дошло до посторонних ушей.
Лицо его покривилось с несколько юмористическим видом, словно он хотел изобразить зубную боль. Малых и больших морщинок прибавилось вдвое, но почему-то это вовсе не испортило его черты. Напротив, лицо как-то осветилось изнутри и показалось мне уже не только умным, но и располагающим.
– Простите, отнимаю у вас время, – смиренно произнес он.
– Оставьте, товарищ Сейранов! Пока вы не выложите мне все, что у вас накопилось на сердце, я все равно от вас не отстану. Нам предстоит вместе работать, и хочу, чтобы мои принципы были ясны с самого начала. Предупреждаю, я не стану слушать наветы на отдельных людей, тем более на прежних руководителей района. Мне это неприятно, я считаю это непорядочным. Но если мой вопрос касается не личностей, а дела, то утаивание правды заставит меня относиться к такому человеку впредь с недоверием. Будем разговаривать начистоту?
– Извольте, если настаиваете… Я не все знаю о вашем предыдущем жизненном пути. Вы ведь родом сельский, но получили столичное образование? Как говорят, ум не в возрасте. И седая голова может оказаться пустой… Теперь никто во дворцах не обретается, мы все вышли из гущи жизни. Каждого из нас настигают временами их удары или скупая, короткая благосклонность…
Я заметил, что он чувствует некоторую неловкость оттого, что сидит, тогда как я стою перед ним, и пододвинул к себе стул.
– Значит, начистоту… – повторил задумчиво.
Лицо его вновь изменило выражение. Оно стало серьезным, с долей страдания и решимости. Словно человек долго повторял заученные слова, но вдруг восстал против самого себя и прервал свою гладкую речь стоном потревоженной совести.
– Люди моего поколения никогда не расстаются с памятью о войне. Вы сами знаете, как мы тогда жили! В селениях пекли просяной хлеб, дети неделями тосковали по миске кислого молока. Но никто не проклинал скудную жизнь, не жаловался. Теперь всего вдоволь – и сколько же вздохов, обид, недовольства! В селениях ставят двухэтажные особняки, обзавелись мотоциклами, на легковые машины метят. Значит, многочисленные обиды отнюдь не на голод, не на нужду? Снизился идейный уровень – вот что. От крестьянина и сейчас, если поговорить, пустых жалоб не услышишь. Зато попробуй заглянуть в души тех, кто так пышно расцвел за счет государства! Мусор, с ног до головы мусор! Любая гадюка совьет гнездо в такой сорной растительности.
Он покраснел от гнева, его морщины неожиданно разгладились, и я подумал о том, что в молодости он был статен и красив. У нас в селении таких бравых парней называли «молодцами». Я заметил опрятность его нижней сорочки и аккуратно подштопанные обшлага куртки. Доверие и симпатия к Сейранову все возрастали. Захотелось ответить ему откровенностью:
– Вы хотели знать о моем прошлом? На пленуме райкома об этом упомянули лишь вскользь. Но я не вижу, почему должен стыдиться прежней профессии? Здесь, в районе, и потом в Баку я работал простым шофером, водил тяжелые грузовики. Случилось так, что авария надолго лишила меня трудоспособности, и лишь спустя время я смог занять должность диспетчера на автобазе, а потом был выбран председателем месткома. В общих чертах вы об этом уже знаете. Но вот о чем вы не можете знать. Теперешний год для меня переломный: я перешагну рубеж своего сорокалетия. Мой жизненный путь полностью определила Отечественная война; она стала судьбой целого поколения, которое в одинаковой мере можно назвать и несчастным и счастливым. Несчастным – потому, что мало кто из нас уцелел. Счастливым – потому, что нам выпало увидеть лицо мира во всех его трагических и героических изменениях. Мы познали высокую радость от чувства исполненного долга. Школьниками мы оставили парты и заменили в колхозах ушедших на фронт мужчин. Вскоре сами взяли в руки винтовки. Вернулись взрослыми людьми, которым пришлось начинать все заново: ни образования, ни профессии. Надобно одновременно было зарабатывать себе на хлеб и учиться.
Сейранов неожиданно спросил:
– Вы действительно не женаты? – В его тоне прозвучали удивление и легкий упрек.
– Представьте, да. – Я помолчал, не зная, что сказать этому человеку. По-настоящему в себе и окружающем мире я только начал разбираться. – Я наблюдал слишком много скоропалительных любовных историй на фронте, когда молоденькая женщина делалась вдовой прежде, чем успевала стать женой и матерью. Мое время прошло, а теперь приходится чувствовать себя как бы виноватым. Но кого можно обвинить в моем одиночестве по-настоящему?
– Войну, – тихо сказал он.
– Прошу, не станем к этому впредь возвращаться. Моя личная жизнь – это моя работа на том посту, который доверит партия. В чем ошиблись, просчитались – отныне станем исправлять общими усилиями. Согласны?
Телефонный звонок прервал разговор. Я снял трубку:
– Да, благодарю. Уже приступил. Простите, не узнаю по голосу… Билал?! Не может быть, старина! Работаешь в этом районе? Непременно повидаемся. Передай привет Халиме-ханум. До встречи.
Я был так взбудоражен, что еще несколько мгновений сжимал телефонную трубку, словно опасаясь потерять вновь обретенного друга. Удивительное совпадение! Билал и Халима снова оказались рядом со мною. Много раз я корил себя за то, что выпустил старых друзей из поля зрения, словно подтверждая тем давние вздохи тетушки Бояз: «Разъедемся, и позабудешь про нас. Тысяча других забот станут путаться под ногами. Но помни: я поручаю тебе Билала как старшему брату. Нелегко ему будет с его характером в этом необъятном мире!» При этих словах глаза ее влажнели, хотя улыбка не сходила с губ.
Мне будущее Билала, напротив, представлялось ясным и определенным. Он был серьезным, глубоко мыслящим человеком, усидчивым и терпеливым. Перед ним открывался прямой путь в большую науку.
На свадьбе его мне не удалось побывать. Незадолго перед тем мы столкнулись случайно на улице, когда я уже учился в Высшей партийной школе. Он показался мне озабоченным, и словно виноватым. «В Баку приехал по делу. Живу и работаю в Кировабаде. Родители тоже хотят устроиться поблизости, но пока нет жилья. Мне бы надо поговорить с тобою, Замин. Не сейчас. Позже». Вторая встреча у нас почему-то не состоялась, а вскоре меня спешно позвал к себе Зафар-муэллим. Он работал уже в управлении профессионально-технических училищ. Здороваясь, я учтиво осведомился о здоровье Баладжи-ханум. Старик лишь безнадежно махнул рукой: «Ее Халима подкосила: наша дочка ушла из дому! И знаешь – к кому? К Билалу, сыну твоих бывших квартирных хозяев. Не знаю, что из этого получится? Смогут ли они понять друг друга? Халима привыкла к полному достатку, а в доме мужа ничего этого не будет, он только начинает свой путь. Найди время, сходи к ним. Я не хочу, чтобы мать чисто бывала там… Ну, ты понимаешь меня? Глава семьи должен сохранять самостоятельность, жить своим умом…»
Я ощутил подавленность и смущение. Билал видел меня и промолчал о свадьбе. Почему? Правда, он всегда смотрел бирюком, слыл нелюдимым… Интересно, как свыкнется с его нравом порывистая, непоследовательная в словах и поступках Халима? Но если это ее собственный выбор…
Нет, я не смог выполнить просьбу уважаемого Зафара-муэллима. Он не посетовал, если бы знал причину. Ведь его дочь собиралась выйти замуж за меня! Тогда, после больницы, когда мать уже возвратилась в селение, а я с нею не поехал, Халима сказала мне напрямик: «Признаешь ты меня своей женой по закону или нет, но другой женщины возле тебя не будет. На твоей подушке буду лежать я или никто!»
Сознаюсь, известие о ее свадьбе с Билалом взбудоражило меня. Да и теперь, когда я наконец опустил трубку, почувствовал волнение.
– Разве в нашем районе есть какое-то научное учреждение? – спросил я Сейранова, пытаясь овладеть своими чувствами.
– Научное учреждение? – Тот собрал морщины на лбу. – Да, пожалуй, есть. Недавно перевели к нам зональную станцию института овощеводства. Но она расположена здесь лишь территориально, а подчиняется целиком Кировабаду.
Видя мою взволнованность, он стал поспешно собирать со стола бумаги.
– Говорят, на этой станции пробуют метод облучения семян радиоактивными элементами. Чуть ли не правительственное задание. К бывшему первому секретарю приходил-как-то на прием заведующий станции. Совсем молодой еще человек… Да, да, припоминаю. Просил содействия в ограждении опытных участков.
Не дождавшись моего ответа, он продолжал:
– Развитие этой науки тоже подтолкнула война. Если б дело ограничилось только облучением семян! Атомная бомба стала страшным новым оружием. Лучше б человечество вообще не слыхало о ней!
– Вам кажется, что с открытием радиоактивного распада люди больше потеряли, чем приобрели?
– Вы мне задали трудный вопрос. – Он в задумчивости покусал губы. – Не знаю, как ответить.
– Хорошо, оставим философские проблемы до следующего раза. Вернемся к письмам. Вы хорошо знаете район. Я все равно собирался знакомиться с хозяйствами. Так, может быть, не будем никого вызывать, отрывать людей от дела? Захватим эти письма и разберемся на месте?
3
Шел второй осенний месяц. В долину Дашгынчая, подобно стае серых волков, все чаще прокрадывались туманы. Они совершали набег ночью, а утром уползали в горы, так что к полудню небо понемногу очищалось.
Но от рассвета до полудня время тянется медленно, и сначала серая завеса разрывалась только над рекой, пропуская зарю. Высокие камыши в коричневых папахах и стройные деревца с поникшими ветвями, словно они прятали озябшие руки за пазуху, дома с соломенными, а кое-где и железными крышами – все пытались скинуть с себя сырую пелену. Солнце выкуривало липкие клочья из выбоин в оградах, которые складывают в наших местах из кирпича-сырца и возводят так высоко, что иногда за ними и крыш не видать. Мода на эти высоченные заборы пошла недавно, словно сосед, забыв былое дружелюбие, спешил поскорее отгородиться от соседа! В нашем райцентре дошли даже до того, что сначала возводился глухой забор, а уж после, в полной скрытности, приступали к постройке дома.
Нашествие тумана странным образом преображало селение. Наступала гнетущая тишина. Люди еле таскали ноги, словно их опутали невидимыми веревками, а рот заткнули мокрой тряпкой. Шаги и шорохи гасились. Лишь животные и птицы выражали свое присутствие беспокойным гомоном. Собаки то и дело принимались жалобно выть, а воробьи, сбившись стайкой на тутовых ветвях, поднимали истошное чириканье, воображая, что отгоняют таинственного врага.
Причиной того, что мы попали в Чайлаг намного позже, чем рассчитывали, и был густейший туман. Продвигаться приходилось ощупью. Председатель колхоза Веисов встретил нас уже на повороте дороги возле Ледяного родника. Это оказался краснощекий и еще совсем молодой человек с мягкой рыжеватой щетинкой на верхней губе. В его повадках нет-нет да проскальзывала неизжитая детскость. Здороваясь, он в смущении слишком долго не выпускал мою ладонь из богатырских тисков. Чтоб показать, что оценил его дружеский порыв, я по-отечески положил свою руку ему на плечо. Он повел нас ближайшей дорогой и старался ступать плавно, чтобы моя рука не соскользнула с его плеча. Так, за оживленным разговором, мы подошли к Дому культуры, где намечалась встреча. У дверей толпились те, кто не смог протиснуться в здание.
Веисов спросил, не хочу ли я сперва осмотреть хозяйство. Его одернул Афганлы, председатель районного комитета народного контроля:
– Народ дожидается с утра этого собрания! Всем хочется послушать нового секретаря. Да и самим высказаться, а то ты никому рта не даешь раскрыть.
– Но я не собирался произносить речи, – досадливо сказал я. – Мы хотели вместе с колхозным активом разобраться в жалобах.
– Напрасно торопитесь, товарищ Афганлы, делать заявления от имени других, кто чего хочет! – протянул Веисов с миной разобиженного мальчика. – Есть слова на языке, а есть в сердцах, они ценнее.
– Поток жалоб из Чайлага серьезный сигнал, дорогие товарищи. – Я решительно прервал их застарелый спор. – Что-то у вас здесь неладно. Боюсь, народ больше приучен к высокопарным речам, чем к повседневной заботе, которую мы обязаны проявлять к его нуждам. Речи речами, а Гасан тем временем приобретает втридорога шифер; Мамед, чтобы выхлопотать законную пенсию, напрасно обивает пороги райцентра; Али, пока не даст взятку, не может свезти на базар фрукты из собственного сада. Нормальное это положение?.. – Не дождавшись ответа, я переменил тон: – Поскольку мы не назначали схода заранее, я хочу принять предложение председателя и сначала пройти по всем службам, чтобы последующий разговор с колхозниками имел уже конкретный смысл.
Скотоводческая ферма выглядела издали весьма солидно. Четыре коровника из белого камня, который искрился на солнце, влажный от недавнего тумана. Однако вблизи впечатление менялось. Постройки были старые. Крыши прохудились. Поверх соломенных снопов, которыми наскоро залатали дыры, лежали камни, чтобы легковесную кровлю не развеяло ветром, и эти камни очень напоминали стаю нахохлившихся угрюмых воинов. Возле ворот нас встретили скотники. Мужчины были в грубых сапогах, у женщин подолы юбок высоко подоткнуты. Один председатель шагал прямо по лужам, словно не замечая их, и не терял хорошего расположения духа.
На доске у входа ближайшего к нам хлева был вывешен список кличек животных и цифры их ежедневного удоя. В небольшом загоне сгрудилось десятка два унылых коров, которых никак нельзя было назвать дойным стадом. Я решил, что это больные или увечные животные, которые дожидаются ветеринара. Они меланхолично двигали челюстями, мусоля скудную жвачку.
– Вы разве не выгоняете стадо на пастбище?
Вопрос был обращен ко всем, но вперед выступил солидный мужчина, который поспешил представиться:
– Фаттахов. Заведующий фермой.
– Прекрасно. Значит, вы мне и ответите: почему среди бела дня коровы стоят в хлеву?
Фаттахов неторопливо откашлялся.
– С будущего года стараниями нашего уважаемого Ибиша начнет действовать зеленый конвейер. Первый участок расположен вблизи Ледяного родника. Вы, должно быть, проезжали? Впоследствии намечаем расширение культурных пастбищ.
– Уважаемый Ибиш – это пастух?
– Смотритель скота, – поправил Фаттахов.
– Пока здоров, спешит себе поминки побогаче справить, – насмешливо ввернул вполголоса один из молодых скотников.
Председатель шепотом спросил в сторонке:
– Ибиша нет сегодня на работе?
– Поехал в город, сыну мотоцикл покупать. Или легковую машину. Точно не знаю.
– На легковушке будет коров вывозить на луг, – явственно раздалось у меня за спиной. Я замедлил шаг, тот же голос добавил громче: – Его сын на легковушке покатит, а доярки будут вслед смотреть. Их отвезти домой некому. Добредут поздней ночью, впотьмах. Такие у нас порядки! Ибиш разве пастух? Да он чистый бай, старорежимный староста! Хочет – пасет, хочет – нет. Всеми распоряжается. У него дома целое стадо упитанных баранов. Зачем ему шелудивые колхозные коровенки?
Я обернулся:
– Как ваше имя?
– Эх, секретарь! Записывай тогда всех подряд. Обида у нас общая.
Парень был совсем еще безусый.
– Ты учишься в школе?
– Бедная учительница устала от просьб! Я часто пропускаю занятия. Кому-то надо ведь и буренок пожалеть! Подсобляю матери на ферме. А сыновей своих пусть уж Ибиш-киши учит! Все трое, видать, прокурорами станут…
– Секретарь, не спеши поворачиваться к нам спиной, – догнал меня низкий женский голос – У нас много на сердце накипело.
Рослая женщина бесцеремонно оттеснила Фаттахова и выступила вперед:
– Не думай, мы жалуемся не на нужду. Достатком не обижены. И план выполняем, от людей не отстаем. Но посмотри-ка на этих доярочек: взрослые девушки, цветут как горные маки, а ни одна не просватана! Что ж, им так и сидеть жизнь в отцовском углу?
Безусый парень пояснил, осклабившись:
– Тетушка Пюсте любит качать права!
– Вот ты пришел к нам, руководитель дорогой, по своему желанию, без зова. Спасибо тебе за это. Но помоги нашим невестам! Сваты требуют теперь в приданое не корову, а полированную мебель. Мать этого насмешника Салтын-ханум так и заявляет: «Невестка без заграничного гарнитура в доме мне не нужна!» Так распорядись, чтобы в сельпо привезли какие-никакие венгерские кушетки или там финские серванты, тьфу на них!
В «домике животновода» из двух комнат одну занимал отсутствующий Ибиш, а во второй по очереди отдыхали доярки. Здесь было тесно от двух казенных столов и сгрудившихся табуреток. Стены украшались выцветшими плакатами и фотостендом, посвященным позапрошлогоднему юбилею одного известного писателя…
– Народ возле клуба состарился от ожидания, пока вы секретаря в навозе держите! – раздались недовольные голоса за дверью.
Я выглянул. Дородный мужчина, перебирая четки из слоновой кости, повелительно прервал ропот:
– Идите-ка по своим местам, здесь вам не кино. Где кого надо, там и держим!
Я сразу угадал в нем таинственного «смотрителя стад», и, сознаюсь, он мне не понравился. Нарочно минуя его взглядом, я ответил тетушке Пюсте:
– Обещаю позаботиться о ваших бесприданницах. Добрые дела не следует отодвигать в сторону. К тому же на одной из машин Ибиш-киши отныне будут возить девушек.
– Милый ты наш братец! Вот за это спасибо. Раньше одни парни нажимали на сигналку: дуд, дуд: А теперь мы, женщины, задудукаем. Еще как!
– Конечно. Но и у меня есть просьба. Каменный карьер совсем недалеко от вашего села. Пусть председатель отрядит грузовик или хотя бы одну-другую арбу. В свободное время вымостите дорогу от большака. Вам же лучше, в грязи не станете тонуть. Ну, а через год попробуем механизировать ферму, чтоб доить коров аппаратом, а не руками.
Веисов подхватил с той же мальчишеской запальчивостью:
– Товарищ секретарь! Да привез я им уже этот доильный агрегат! Ни в какую не хотят темные бабы. Так и стоит в пыли в сарае.
– Почему же ваши доярки против машин?
– Говорят, коровы пугаются, начинают их бодать. Клянусь здоровьем, даже своих домашних не смог убедить. Жалеют коровок, и все тут.
– А себя не жалеют? Посмотрите, какие руки у девушек! Молоко, которое достается такой дорогой ценой, нам не нужно! Да и вообще, скольких коров может выдоить одна доярка? Десять, пятнадцать? Это уже на пределе сил. А мы добиваемся, чтобы ферму в несколько сотен голов обслуживали два-три оператора посменно. Чтобы люди не уставали и полдня были свободны. Разве это плохо, тетушка Пюсте?
Она качнула головой не то в сомнении, не то соглашаясь:
– Пусть молодые начинают. А там и мы присмотримся.
Многое узнал я в тот день об этом колхозе. Председателей за последние десять лет перебывало пятеро. Один взялся было строить с энтузиазмом «культурные коровники». Его обсмеяли: коровы при электрических лампах газеты станут читать, что ли? По ничтожному предлогу сняли с работы. Второй возвел на отшибе от села «домик животновода» и встречался в нем со своей любовницей. Третий начал было автоматизировать подачу кормов, но так и не довел дело до конца. Четвертый вбухал все деньги в племенного быка, а тот не то отравился сам, не то был отравлен по небрежению. Вот так их, председателей, одного за другим и отправляли восвояси, не давая времени хорошенько осмотреться и исправить первоначальные ошибки. Веисов мечтает о целом животноводческом комплексе, но опыта у него мало, и если тоже бросит затею, как его предшественники, на полпути, то шестой вообще пальцем о палец не ударит. Станет как огня опасаться любой инициативы и предпочтет радеть лишь о собственном благополучии…
В клубе народ продолжал все прибывать. Значит, люди еще не разуверились в своих районных руководителях? Ждут от них разумного слова, энергичных действий?
Разобрав последнее письмо, я заговорил не о недостатках, а о предстоящих задачах.
– Дорогой ты наш секретарь, – спросили с места, – скоро ли сбудется все то, о чем токуешь?
Я обвел взглядом ряды. Настороженные, но и заинтересованные, ожидающие лица.
– Смотря, как вы сами отнесетесь к этому. Не захотите больше терпеть безобразий – значит, общими усилиями наведем порядок скоро. Будете равнодушно смотреть со стороны – дело затянется. Есть еще опасность: громить недочеты только на словах. Тогда уши скоро привыкнут к обличительным фразам, а дело не сдвинется с места!
Когда клубный зал опустел, я сказал Веисову и остальным:
– Давайте попрощаемся здесь. Перед отъездом хотел пройтись по ближайшему лугу, полюбоваться свежими копнами, посмотреть, хорош ли был у вас последний укос?
К счастью, никто не стал навязываться мне в спутники. Лунная ночь с ее терпкими пронзительными запахами размягчила душу, и я мог бы простодушно посвятить полузнакомого человека в тайну своих воспоминаний. Чуть не три десятилетия прошло с той давней ночи. Юная Халлы едва прикоснулась тогда к роднику девичества… Правда, стояла не осень, а ранняя весна. Пожухлые травы, придавленные тяжестью недавнего снега, никак не могли набраться новой силой, выпрямиться. Мать твердила, что нужен хороший весенний дождик, чтобы благодатной влагой напоил землю и смыл остатки зимы. И в самом деле, после такого дождя все пошло в рост; под утренними лучами стеклянно заблестела на берегу Дашгынчая молодая трава, воздух наполнился сладкими ароматами.
Мензер ненадолго вернулась тогда из техникума, и ранним вечером я столкнулся с нею возле реки, среди подростков, впервые выгнавших скот попастись. На ней была старая овчинная шубейка, неотличимая от других затасканных тулупчиков. Но я еще издали угадал ее по высокому росту и по быстрым, особенно ловким и грациозным движениям. Как всегда, по телу пробежала сладкая дрожь предчувствия нашей встречи. Мы могли не произнести при этом ни слова вслух, но взмах ее ресниц, пряди волос, которые вырывались из плена платка и вольно летели по ветру, казались мне такими красноречивыми! Не умея разобраться в сокровенном смысле этого немого языка, я впитывал его бездумно и восторженно. Ах, кто еще на всем свете, кроме Халлы, мог одарить одновременно простодушием и лукавством, верностью и способностью вечно ускользать?..
Халлы не сделала движения мне навстречу. Она независимо стояла на склоне пригорка, уставившись вдаль и засунув руки в карманы. Из-под короткой шубейки выглядывала оборка красного платья.
Это платье мне издавна нравилось. Она надевала его в праздничные дни еще в школе. Когда я умирал от смущения, платье приходило мне на выручку. «Оказывается, ты сегодня надела красное платье?» – говорил я застенчиво. «Если хочешь, приду в нем и завтра», – отвечала она, опуская глаза.
Помню, школьные мечтания не шли у меня дальше горьких сожалений, что Халлы… так красива! Стань она конопатой, как девчонка за партой слева, или пусть бы один глаз у нее косил, как у беззастенчивой болтуньи по правую сторону… о, тогда кто на нее обратит внимание?! Разве мальчики стали бы тогда тащиться за нею вереницей? А для меня она была хороша любая.
Я взбежал на соседний пригорок и окинул взглядом долину Дашгынчая. Река ослепительно сверкала, отражая закатные краски, и в этом солнечном зеркальном отсвете невозможно было отличить одну пастушку от другой: все в одинаково подпоясанных овчинках домашней выделки. Но вот одна из них взмахнула хворостиной в мою сторону. Халлы?.. Как хотелось мне огласить окрестность молодецким криком: «Э-гей!» Но я постеснялся. Возле каждого дома сидели важные старики; они спешили погреть нахолодавшиеся за зиму косточки в последних лучах теплого солнца.
На западе буйствовали алые и оранжевые языки небесного пламени. Словно разложили гигантский костер из сухих корневищ вяза и поднесли к уложенной поленнице тряпку, пропитанную нефтью. Черная копоть и красный огонь сошлись врукопашную. А высоко-высоко, в зените, безмятежно протянулось ожерелье жемчужных облачков, лишь слегка окрашенных румянцем. Солнце садилось за Эргюнеш.
Как я сетовал на почтенных старцев! Уставились на молодой месяц, будто никогда не видали. И закат мог бы быть поскромней. Каждое облако, напитавшись прощальным блеском, само становится светоносным и длит до бесконечности ушедший день.
А впрочем, к чему досадовать на стариков, которым невдомек, как я стремлюсь к Халлы и призываю в помощь густые сумерки? Знай они об этом, не стали бы преграждать путь, подобно зарослям колючки.
На берег Дашгынчая я пришел с мешком, чтобы принести домой немного соломы. Но пока бродил, отвернулся в сторону, отошел на два шага – мешок таинственно исчез. В недоумении я подошел к ближайшей копне на пригорке. Увидал прорытую дыру вглубь. А мешок скатился с пригорка, кто-то наверняка нарочно столкнул его.
Вдруг мне зажали глаза холодными ладошками. Трепетные пальчики-льдинки мгновенно наполнили кровь пламенем.
– Кто это? – прошептал я, хотя знал, что только Халлы может одарить таким пылким, хотя и мимолетным объятием.
Я боялся произнести имя вслух, чтобы не прервать мига, слаще которого у меня уже и не случалось в жизни.
– Угадай. Иначе не отпущу. – Она подражала мальчишескому петушиному голосу с хрипотцой.
Я крепко ухватился за полу овчинной шубейки, она попыталась вырваться, и мы оба упали на соломенное ложе. Будто два небесных метеорита столкнулись в глубине Вселенной и, не захотев избежать своей судьбы, рухнули на ночную землю. О, если бы зарыться поглубже в землю, чтобы навеки остаться друг подле друга! Пусть мы превратимся в черные безгласные валуны. Чтобы мимо протекали бы реки. Чтобы сверкали небесные гостьи-молнии. Чтобы кому-то послужить дорожным знаком, не дать заблудиться…
Нет, ничего подобного мне, неопытному юнцу, не приходило тогда на ум. Много позже я понял: подобные весенние ночи не повторяются. Лишь однажды суждено было нам с Халлы лежать обнявшись, ощущая спинами благословенную землю, полную сучков и колючек, озябшую от недавних снегов.
Мы оба молчали. Халлы, должно быть, от смущения, а я от боязни, что с первым произнесенным звуком исчезнет очарование нашей странной близости. Щека Халлы прижималась к моей. Как раньше ее пальцы оледенили мне веки, так сейчас щека жгла словно раскаленный брус железа. Несколько горячих капель скатились мне на губы, оставляя солоноватый вкус.
– Ты плачешь? Почему?
– Разве плачу? Я не заметила.
Одну руку она положила мне на грудь – и ладонь словно прикипела. Другую руку я сжимал в своих. Как нежны ее пальчики! Кажется, стисни покрепче – и они хрустнут будто сосульки. Но эти слабые руки – мое богатство, мой мир, моя вселенная!








