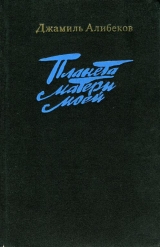
Текст книги "Планета матери моей"
Автор книги: Джамиль Адил оглы Алибеков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 44 страниц)
Оказалось – еще и какая! Родня на дыбы встала: не пошел с погибшими, значит, враг им и всем нам! Права пословица: в кого слепой вцепится, нипочем не отпустит. Тогда мы ушли из горного селенья; сюда, в долину спустились. Я про себя думала: а согласись отец с братьями быть заодно, могилы бы и той от него не осталось. Говорят, в тех местах и через год с деревьев, если хорошенько потрясти, оторванные пальцы сыпались. Нет тайны, которая бы наружу со временем не вылезла, сынок. И жить надо так, чтобы дети глаз потом от стыда не прятали. Отец твой любил повторять стих про обжору волка и про умеренного в еде муравья…
Последние слова дали нашему разговору новое направление.
– Скажи, а как отец заучивал стихи, если не из книг?
– В прежние времена во всех селениях свои ашуги были, сказочники. Осенью, длинными вечерами ашуги пели, а другие их песни запоминали. Потом своим детишкам пересказывали, про себя ничего не таили. Ну как нынче учителя в школах передают вам про всякие науки. Жаль, к старости у меня память ослабела. А смолоду, если сказку услышу, слово в слово наутро повторю.
– Вот ты любишь говорить, что хороший человек добрым молоком вскормлен. Разве младенец может различить, какое молоко хорошее, какое худое? И бывает ли молоко дурным?
– Это не надо понимать прямо. Не о материнском молоке речь, а о врожденном благородстве. Трава растет от корня; сколько ни поливай колючку, цветов розы от нее не будет. Если у человека дрянной род, откуда ему вырасти порядочным?
– По-моему, ты неправа, мать.
– Я простая крестьянка, сынок. Говорю, что на уме; от невысказанного слова на душе горький узелок остается. Что тебе нравится – возьми, с чем не согласен – откинь прочь.
На свет нашей лампы тучей слетелась мошкара. Опалив зеленые крылышки, некоторые мотыльки бессильно падали на скатерку и уже не чувствовали, как насекомые хищники тащили их в свои земляные норы. От света проснулась божья коровка. Я, как в детстве, протянул ей палец, выгнул руку мостиком и приговаривал вполголоса:
– Лети, коровка, в небо. Принеси мне оттуда добрую весточку.
Мать слушала улыбаясь. Лицо ее посветлело и помолодело, словно мы оба вернулись в прежние времена. Не нарушая нашего молчаливого единения, в сторонке, не то умиляясь, не то завидуя, стояла бабушка Гюльгяз, наша соседка.
Заметив ее, мать встрепенулась:
– Присядь, выпей с нами чайку. Видать, братца Селима нет дома?
Гюльгяз вздохнула.
– Хорошо, когда мать с сыном всегда рядышком, как вы. Горе, радость – все пополам. А про моего скажу: никогда не знаю, что у него на душе. Молчун, слова не вытянешь.
– Храни его аллах. – Мать хотела сгладить горькую жалобу. – Какие такие у него от тебя тайны? Пустое это, поверь.
– Устала я молчать, сестрица. Непроизнесенные слова, как угли, пекут мне грудь. Боюсь, что выйду когда-нибудь на улицу и первому встречному открою наболевшее сердце. Ведь дочь проклятого, по всему видно, завлекла моего Селима!
– О ком ты? Кто этот «проклятый»?
– Заведующий фермой, что живет на краю селения. У него есть дочь, видом чистая коза! Не знаю, чем она его очаровала, только все помыслы Селима о ней одной. Я не смею рта раскрыть. Однажды заикнулась было, так сын стал свою одежду собирать. Уйду, говорит, навсегда, если станешь вмешиваться в мою жизнь.
– Может, он жениться хочет? Что же тут плохого? Ай, Гюльгяз-баджи![4]4
Баджи – уважительное обращение.
[Закрыть] Век сына возле себя не удержишь и на тот свет раньше времени за собою не уведешь. Зачем злобствовать? Скажешь «джан» – и тебе по-доброму ответят: «Черт» произнесешь – тоже эхом отзовется.
Гюльгяз, не внимая примиряющим резонам, бубнила свое:
– Раньше она с табунщиком Фараджем вела любовные игры, да из воды сухая выскочила. В городе, говорят, тоже на каком-то парне без стыда виснет. Можно ли от девушки ждать приличия, если она из отцовского дома в город сбежала?
Мать хмурилась. Этот разговор был ей явно не по душе. Но Гюльгяз сидела гостьей в нашем скромном доме и обрывать ее казалось невежливым.
– Город или селение… какая разница? Целомудренная девушка останется чистой посреди полка солдат, говорит пословица.
– А по-моему, бесстыдница уже та, мимо которой десять раз на дню мужчина-учитель пройдет!
Я думал, что мать рассмеется ей в лицо, но она с неожиданной горечью ответила просто и строго:
– А много ли ума набрались мы, привязанные весь век к деревне? Куриные яйца в птичнике считаю, загну пальцы на руках и снова начинаю сначала. В простом счете путаюсь. Что здесь хорошего? Если ты говоришь о той девушке, что заходила к нам с кувшином, звала Замина на курсы, то мне она понравилась: скромная и разумная. Она с моим мальчиком в школе вместе училась. Спроси у Замина, он ее знает.
Я давно догадался, что речь идет о Халлы. На всякий случай переспросил:
– Вы о Мензер, что ли, говорите?
– Кажется, ее так зовут, – отрывисто бросила бабушка Гюльгяз. – Может, Селиму лестно, что ее отец командует фермой? А мне-то что от этого? Будущий сват своего сладкого куска мне не протянет, золотого пояса не снимет и на меня не наденет. На что мне ученая невестка? Ни белья постирать, ни хлеб испечь. Уж не говорю о такой милости, чтобы снизошла для старой свекрови воды нагреть, голову ей помыть… Или гостю – ноги…
У меня вырвалось:
– Разве выходят замуж для того, чтобы кому-то ноги мыть?
Гюльгяз ядовито поджала губы:
– Гость в доме – посланник аллаха. Таковы обычаи.
– Эх, бабушка, – укорил я. – Кто бы другой об этом толковал, а не ты. Говорят, твой муж ушел от тебя неспроста. Ты, видно, сама себя не уважала, каждому ноги мыла, и он тебя ценить перестал?
Она пробормотала, наклонив голову:
– Как сделал, так сделал. С другой счастья не нашел; она его запрягла, как осла. На городской рынок казаны со снедью таскал…
Мать недовольно прикрикнула на меня:
– Зачем вмешиваешься? Мал еще в разговор встревать. Гюльгяз долго жила, много видела…
– А зачем зря Мензер обижать?
Про себя удивился: защищаю Халлы перед злой старухой? Чтобы та переменила мнение и согласилась на женитьбу сына? О, конечно, не для этого! Могу ли я добровольно уступить свою Халлы? Но позволить порочить ее тоже выше сил. Если мы не суждены друг для друга, все равно ее имя должно остаться незапятнанным.
Гюльгяз больше не засиживалась. Мать с беспокойством проводила ее глазами.
– Плохо, когда у женщины дырявый рот, – сказала она. – Селиму лучше не знать про этот разговор. Выходит, и посоветоваться бедняжке не с кем? Не для этого ли он поджидал тебя? Постройка дома подходит к концу, самое время играть свадьбу. Сынок, помни, он к тебе был добрее родного брата. Сумей отплатить добром с лихвою. О чем он ни попросит – исполни.
Ох, к чему ты меня склоняешь, мать?! Своими руками устраивать свадьбу Халлы с другим? Но вдруг таково тайное желание самой Халлы? Недаром она упрямо кличет меня братцем, а о любви не проронила до сих пор ни словечка. Может, и деньги эти, заработанные стиркой, дала мне жалеючи, по-сестрински? Но почему ее руки пожимали мои с такой нежностью и страстью? Если это не любовь, то что же?..
Я чувствовал, что готов умереть от теснящихся в мозгу ужасных мыслей. Во мне звучал, словно издалека, злорадный хохот Табунщика. Едва мать заснула, я покинул постель. Она жгла меня, будто я лежал среди горсти углей. Знакомой тропой взобрался в потемках на холм. Пусть хоть ледяной ветер остудит мне сердце.
Сколько я там пробыл, когда вернулся домой – все стерлось из сознания. Оглядываясь в прошлое, вспоминаю себя уже шагающим по направлению к городу.
…С Халлы мы увиделись только через два месяца. Как я и предполагал, отец увез ее с собою на горное пастбище, куда перегоняли на лето колхозный скот.
Когда мы встречались с Халлы ежедневно – сначала под безоблачными небесами родной деревни, потом на городских улицах, среди шумливой толпы, – я никогда толком не разглядывал ее. С трудом могу припомнить ее платья или как были уложены волосы. Спроси меня кто-нибудь об этом, я стал бы путаться и мямлить, словно последний ученик в классе, который выезжает на подсказках. Все затмевалось для меня блеском ее тревожных зрачков, этих влажных черных виноградин.
В ее отсутствие неистовая мечта гнала меня на дорогу, неусыпно охраняемую с обеих сторон молчаливой стражей деревьев. Подолгу я простаивал на пригорках или взбирался на макушки острых скал – и в каждой кабине пролетавшей мимо машины видел свою Халлы, которую увозили от меня, разлучая нас навек. Как страстно мечталось мне тогда, чтобы она была свидетельницей похвал, которые расточали мне по окончании курсов! Пусть узнает, каких сыновей рожают матери в нашем селении! Я выполнял любой хитроумный маневр на учебной площадке с таким рвением, словно за мною неотступно следили глаза Халлы. Когда говорили: «Этот крутой пригорок машине не взять», – ее невидимые глаза вселяли в меня дерзость и бесстрашие, и я птицей взлетал наверх. Если инструктор сомневался: «Здесь не развернуться», – руль в моих руках становился легким и послушливым, как согнутая ветка калины, и я поворачивал машину как хотел.
Мне не пришлось даже стажироваться при каком-нибудь опытном водителе: сразу направили в Управление строительства на Дашгынчае. Недалеко от нашего села, ниже по течению, где река разрезала надвое холм, уже начинались обширные работы. В самом узком месте должна подняться плотина, а теперешний мост и берега уйдут под воду. К строительству электростанции было приковано всеобщее внимание, половина машин района присылалась именно сюда.
Когда мне вручали направление вместе с дипломом, кто-то из комиссии засомневался, не рано ли доверять выпускнику машину. Председатель нагнулся, что-то шепнул ему, и, пожав плечами, тот неохотно согласился.
Вечером, счастливый, возбужденный, я вернулся домой. Мать, обняв меня, тотчас поспешила к соседям, позвала бабушку Гюльгяз.
– Посмотри на нашего шофера, да будет вся моя жизнь для него! Он стал таким благодаря Селиму!
Из дома не раздалось ни звука. Мать повысила голос:
– Да живет братец Селим всегда в радости и довольстве! Пусть исполнятся его мечты, а дом наполнится голосами детей!
Но старуха почему-то не спешила с поздравлениями. Она вынесла медный котел, полный кислым молоком, споткнулась на пороге и плеснула на землю.
Мать, решив, что по тугоухости Гюльгяз не расслышала ее, повторила прочувственные слова благодарности:
– Пусть у Селима будет столько радости от будущего сына, сколько принес мне сегодня Замин. Ведь он окончил курсы и уже получил работу.
– Вот как? – сухо переспросила Гюльгяз. – И что у него за работа?
Чтобы рассеять дурное настроение соседки, мать, приветливо улыбаясь, сказала:
– Замин – ваш питомец, тетушка. С помощью дяди всего достиг. Вы ему и свадьбу справите. Пусть в его двери стучится всегда счастье!
Кислое выражение не покидало сморщенного лица Гюльгяз.
– Не рано ли речь повела о свадьбе, когда в твоем доме полного котла ни разу не видывали? Что за служба, спрашиваю?
Мать скромно отозвалась, чтобы не раздражать своенравную старуху:
– Водить грузовики будет, ничего более.
Гюльгяз наконец-то обратила взгляд на меня, критически оглядела с головы до ног.
– Значит, крестьянская жизнь ему не по нраву? А чему ты радуешься? Тебе-то какая прибыль, что этот лоботряс сядет за руль, да еще срамную красотку в кабину посадит – только пыль из-под колес! Годами лица его не увидишь. Нет, верно старые люди говорили: от беспутного дровосека вязанки хвороста не дождешься.
Мать вспыхнула:
– У сироты за спиною никто не стоит с тугим кошельком, чтобы он мог рассчитывать на важный пост. Спасибо, что на хлеб заработает. – Помолчав, она пересилила себя и добавила помягче: – Наказала Замину: из первой получки купить всем нам по платку в подарок. А уж возить дядю Селима, когда потребуется, его прямой долг.
Ворчливая старуха отозвалась с неохотою:
– Ну, ну, поглядим. Пока от вашего соседства прибыли нам не было.
И пустилась со всех ног разгонять кур, которые разгребали саман у недостроенного дома. Ее отрывистые слова, сказанные будто про себя, явственно были слышны, однако, и нам:
– Теснимся из-за оравы оборвышей… Никакого покоя. Пришлый, явился – местный убегай, точная поговорка.
Мать вздохнула и сделала шаг к медному казану с прокисшим молоком, который Гюльгяз обыкновенно отдавала нам. Я хотел преградить ей путь, воскликнуть, что пусть злая старуха лучше собакам его выльет, а нам от нее отныне даже щепки не надо; отдали старый хлев под жилье, и мы были у них на побегушках, как верные слуги. Но не успел рта раскрыть, сник под материнским взглядом. Она молча донесла казан до тутовника и вылила прокисшее молоко в яму. А сполоснутый и наполненный свежей водой котел поставила на огонь очага.
– Иногда достойнее смолчать, сынок. У стариков разум затмевается. Пропускай мимо ушей их злые слова, но крепко помни добрые. Дядя Селим нам друг, зачем его огорчать? Откажись я от молока, и Гюльгяз пустила бы молву по селению: не успел, мол, Замин первую получку принести, а семья уже загордилась. Напротив, будь к ней почтителен теперь вдвойне.
Я упрямо сказал:
– Давай переедем отсюда.
– Куда же?
– В город. Я буду работать на автобазе, и вам место найдется.
Мать покачала головой:
– Не хочу кочевать с места на место. А тебя не держу. Хоть сегодня переселяйся.
Начало нашей ссоры прервало появление дяди Селима. Последнее время я сторонился его, сердце мое кипело досадой, но едва мы сталкивались, как прежнее чувство привязанности к нему немедленно воскресало. Он был всегда ровен в обращении со мною и приветлив. Видимо, в самом деле любил меня.
Однажды еще школьником я выследил галочье гнездо. Галка птица перелетная, она затесалась в воронью стаю и вместе с воронами прилетела к нам в селение. Только разве ее сравнишь с вороной? Она была намного красивее. А уж что вытворяла в воздухе! На ее полеты и кувыркания весело было смотреть. Поднимется до самых облаков, потом сложит крылья и камнем падает вниз. Но, не достигнув земли, вновь взмывает кверху. Или, бывало, примется плескаться в воде… Дядя Селим, вернувшись с работы, пошел со мною к реке. «Где ты видел галочье гнездо?» Я указал на чинару. Галка не раз на моих глазах влетала и вылетала из дупла. Мы простояли там до сумерек. Видели, как птицы, проводив солнце, собирались на ночевку, усиживали верхние ветви чинары. Когда они полностью угомонились, дядя Селим ловко и бесшумно добрался до дупла и спустился с галкой в руках. Допоздна мастерил деревянную клетку. Моя мать было воспротивилась: грешно держать птицу в неволе. Но дядя Селим ее успокоил: он принесет самку, птицы скоро привыкнут к дому, мы будем их подкармливать, дождемся птенцов.
Сколько воспоминаний связано у меня с дядей Селимом!
В этот раз он крепко обнял и трижды торжественно поцеловал меня. Поздравил и мою расцветшую от удовольствия мать.
– Ну вот, а вы говорили, что он не осилит шоферскую науку. Попомните мое слово, пройдет совсем немного времени, и наш Замин станет лучшим водителем в районе. Несколько месяцев практики, и он будет сидеть за рулем как остроглазый ястреб!
От этих слов все, что я копил против него на сердце, бесследно растаяло, будто весенний лед.
– Смотри, братец, перехвалишь его. Ведь говоришь так только по доброте. Ты всегда любил моего озорника. А я хочу, чтобы у него характер переменился.
Я подхватил ее шутливый тон:
– И такое мнение обо мне у родной матери! Разве я хоть раз сказал чужой курице «кыш»?
Все мы весело рассмеялись.
– Иди сюда, нене[5]5
Нене – матушка.
[Закрыть], – позвал Селим бабушку Гюльгяз. – Сегодня такой счастливый день!
– Теперь соседка будет на автомобиле разъезжать, – сказала та, выглядывая.
– Ты про Зохру говоришь? – переспросил Селим, но его старая мать уже хлопнула дверью. – До чего же у нее характер стал сварливый, – пожаловался дядя со вздохом. – Причина, наверно, самая ничтожная: или курица вовремя не снеслась, или мышь попала в казан с молоком. Убеждаю: зачем дрожишь над всякой малостью? Разве я не зарабатываю вдосталь? – Внезапно он переменил тему: – Завтра пораньше зайди ко мне. Позвоню твоему начальнику: есть у них совсем новый грузовик, пусть тебе дадут.
Когда мы остались одни, мать сказала:
– Кажется, я поняла, почему Гюльгяз-арвад[6]6
Арвад – добавление к женскому имени с оттенком неодобрения.
[Закрыть] на тебя дуется. Это все из-за женитьбы Селима. Ты заступился за девушку, и старуха не может тебе этого простить. Ей кажется, что чужая все в доме разорит, променяет на тряпки, а ее пинком выгонит. Видишь ли, у нее на примете была внучка сестры, а вовсе не Мензер.
– Мензер никогда дурно с нею не поступит, – упрямо сказал я.
– Да перейдет ко мне твоя боль! – сокрушенно воскликнула мать. – Не вмешивайся ты в их дела. Гюльгяз подсмотрела, как ты носил записки девушке, и теперь во всем винит тебя. Помни, сын, на будущее: между двумя друзьями будь мостом. Но никогда не встревай между мужчиной и женщиной. Слюбятся, сживутся – добро твое все равно не вспомнят. Зато если начнется в семье несогласие, скажут в один голос: «Пусть рухнет крыша на виновника!»
Я удрученно промолчал. Мать посчитала это согласием. А меня опять раздирало смятение: за что я невзлюбил старую Гюльгяз? Ведь она противится женитьбе сына. Или я в душе примирился с тем, что потеряю Халлы?..
В тот вечер, когда я, пьяный, пытался повидаться с нею, у нее действительно были посетители. Их лошади стояли на привязи у дерева. Подруга тайком рассказала мне, что к Халлы приезжал отец с кем-то еще. Мужские голоса звучали за дверью глухо, но у Мензер были заплаканы глаза, она с трудом сдерживала всхлипывания. Уже уходя, отец сказал от порога: «Завтра же собери вещи. Поедешь пока со мною на пастбище. А твой диплом получит и сохранит эта девушка. Какой тебе еще институт?! И так три года проучилась…» Халлы ответила: «Не вернусь в село. Останусь здесь работать». Отец стукнул по столу плетью: «Вы послушайте только эту негодницу! Я ее вскормил, а она хочет теперь швырнуть мою папаху в пыль, покрыть отцовскую голову бесчестием!»
– Когда они ушли, я стала утешать Мензер, – продолжала девушка. – Она горько рыдала, но не захотела сразу открыться. Я уж потом поняла, что происходит. За нее сватаются двое, и отец потребовал, чтобы одному из них она дала свое согласие. Один служит здесь в городе, он помог ей устроиться на учебу. Видно, хороший человек. Другой колхозный конюх, она называет его Табунщиком и считает недалеким. Но отцы прочили детей друг за друга еще с детства, а может быть, и до рождения. Вот, говорили, родится у меня сын, а у тебя дочь, обязательно их поженим! Должно быть, парень принял эту болтовню всерьез и возомнил себя женихом…
– Что же говорит Мензер? – нетерпеливо прервал я.
– Что не пойдет ни за одного из них. Лучше убьет себя. Я тогда спросила, а что, мол, за парень этот Замин? Как ты к нему относишься? В ответ ни словечка. Просила только передать: пусть простит, что уехала не попрощавшись.
Но это меня вовсе не утешило. Отвергая отцовских женихов, Халлы, видимо, отвергала и меня. Слова ее показались мне сухими и на редкость бессердечными.
Я уже распрощался со словоохотливой подругой Халлы, как она вновь окликнула меня. Сняла с пальца тонкий перстенек с бирюзинкой и протянула:
– Это тебе Халлы велела передать. Оставшиеся деньги она тоже вернет.
У меня разом пересохло во рту. Еле пролепетал:
– Какие еще деньги?
– Это уж лучше вам самим знать.
В моем мозгу лихорадочно металось: «Но я ей никогда не дарил кольца! Зачем же его возвращать? Или оно и деньги в придачу – за… бусы? О, Халлы! Ты разменяла любовь баш на баш, как рыночная торговка…» Моему горю не было предела. Пусть у каждого человека по два глаза, по паре рук и ног. Но сердце-то одно. Мое было безраздельно отдано Халлы. И вот я остался в одиночестве, как посреди пустыни. Как мне теперь жить?..
12
Близилась осень. Она еще не выжелтила полностью листьев, не все семена цветов упали в почву, не все птицы собрались к отлету. Только облака чаще тянулись по небосклону да белым занавесом опускались густые предутренние туманы. Осень большая привередница, ей нравится рядиться под весну. Может быть, поэтому отары задержались на горных пастбищах дольше обычного и пастухи не спешили с откочевкой?
С какой нетерпеливой тоской я ожидал ту осень. Вот уже и деревья поникли, словно больные, а Халлы не возвращалась. Откурлыкали журавли – ее не было. Степные травы, скучая по блеянию овец, запестрели поздними цветами – все покинули горы, но не Халлы!
Однажды я спросил у бабушки Гюльгяз:
– Почему дядя Селим не покрывает новый дом крышей? Близки холода.
Старуха тотчас запричитала:
– Бесчестный его отец, покинул сироту… Разве одному разорваться? Купил черепицу в горном селе, да все недосуг привезти.
– Пусть договорится с моим начальником, я съезжу после смены, ночью. Сколько раз потребуется, столько и съезжу. Скоро дожди пойдут, а дом без крыши.
Морщинки разошлись на старушечьем лице, но вдруг оно вновь плаксиво исказилось.
– Ах, малыш, я тебя не виню, хоть ты был им пособником. Еще молод, глуп. Родной сын вверг меня в пучину горя, вот что! Опозорил перед родней, хочет смешать мою кровь с кровью бесчестных…
– Да что произошло? – Я с трудом утишил стук сердца.
– Плохое случилось, бала[7]7
Бала – сынок, ласковое обращение.
[Закрыть], совсем плохое. Матери своей не говори, она меня осуждает. А за что? Разве я сыну желаю худого? О его судьбе пекусь. О аллах, как мне было тяжко его вырастить. Свадебное платье продала, чтобы накормить… А чем он мне отплатил? Мои слезные просьбы в одно ухо впускает, в другое выпускает.
– Да не может того быть, бабушка! Если меня мать даже на смерть пошлет, я и то ее не ослушаюсь. Дядя Селим вас любит, я знаю. Сейчас у него много работы, поэтому и приходит поздно. Хотите, я его разыщу? Привезу на своем грузовике? Вот скоро будет у вас новый дом…
– А зачем он мне? Я лучше в вашу лачужку переселюсь, лишь бы с беспутной девкой за одну скатерть не садиться. Распустила косы по ветру, мотается по району вместе с чужими мужчинами… Где же достоинство, где скромность молодой девушки.
Я сделал вид, что не понимаю о ком речь.
– Выходит, дядя Селим все-таки женится?
Гюльгяз-арвад повернула ко мне голову с такой яростью, что, наверно, едва не свернула себе шею.
– Смеешься надо мною, щенок? И ты с ними в сговоре? Не дам сыну благословения, так и передай. Для него новая родня слаще меда.
Я искренне поклялся ей, что ничего не знаю. Она не поверила, но все-таки притихла.
– Пусть сама стану камнем, – проговорила жалобно. – Неделя уже прошла, как лица его не вижу. Что он ест, что он пьет? Разве в городе понимают вкус настоящей пищи? Все покупное. Откуда денег напасешься? И к чему нам этот дом? Селиму давно городскую квартиру обещают, вот и жил бы там с кем хочет. А мне здешней халупы хватит.
– Не понимаю, – досадливо возразил я, – почему вы с моей матерью в один голос охаиваете городскую жизнь? Я тоже жду, когда над Дашгынчаем построят новые дома. Хочу там поселиться, а мать ни в какую!
Я осторожно перевел разговор на другое. Надо разведать о Халлы хоть что-то достоверное.
– Осень нынче стоит теплая, вот отары и не пригоняют с гор, – сказал без особого выражения.
Гюльгяз охотно подхватила:
– Хоть бы и вовсе там остались вместе со своим заведующим! Чтоб ему никогда от детей радости не видать, если сына у меня отнимает. Я ведь чего боюсь? Селим в его сетях запутается. Этот бесчестный нужных себе людей подкупает колхозным добром. Думаешь, ему черные брови у Селима приглянулись? Как бы не так! Он смекнул: породниться с таким человеком выгодно, его городские власти уважают. Тесть будет воровать, а зять покрывать чужие грешки… – Она схватила меня за полу. – Ради памяти твоего отца, рано покинувшего мир, ни слова никому об этом! Горе разрывает мое сердце, вот и выплеснулось. Селим ничего не должен знать. Задумал жениться – пусть женится. Аллах его благословит… Пожелай и ты ему счастья, бала!
– Пусть будут счастливы, – через силу выдавил я.
Нет! Халлы не сможет стать счастливой с другим. Разве он любит ее сильнее, чем я? А какое счастье без любви!..
Единственный мой друг и советчик – холм Каракопек. Омывая его подножие, струи Дашгынчая шептали утешение, словно мои горькие мысли, уроненные на дно реки, возвращались теперь ласковым журчанием. Бессильными казались мне легкие волны. Они напрасно стучались в каменные утесы, мечтая вернуться вспять к истоку. У реки своя цель. Она не сворачивает с пути.








