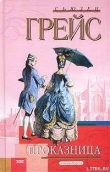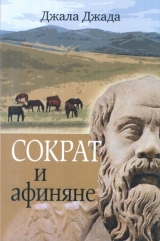
Текст книги "Сократ и афиняне"
Автор книги: Джала Джада
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
«Тоже мне эпикуреец… Но я понял тебя, сержант. Понял, что тебе нужны не заморские (эйзенхауэровские) часы, тебе нужны часы победы… И мне тоже… Я хочу, чтобы ты… мы победили…» – уже с теплотой подумал маршал, совсем иными глазами всматриваясь в крупные морщины на лице сержанта, в морщины, разделяемые черными ниточками въевшейся в кожу земли. То, что сначала он принял за шутовское кривляние, было на деле презрительным высокомерием «работяги» к показательным упражнениям «артистов» противника. Командующий это понял по глазам солдата, которые были суровы и спокойны. Уставший труженик войны хотел показать, что многое из того, что здесь «шик», они делают буднично и обычно без показухи и не для наград и похвал. Маршал это понял, но, помня свои нехитрые арифметические подсчеты, не поверил. Не любя пустых болтунов и хвастунов, коротко отрезал:
– Даю 25 минут.
– Не нужно, как было сказано – 20 минут и 27 мишеней.
Снова волна раздражения легкой тучкой прошла по сердцу привыкшего отдавать приказы командира.
– Согласен…
Дед, сомкнув веки, замолчал. Тихо сидим, глядя на потемневший от тени облака лес вдали. Каждый думает о своем. Солнце опустилось ниже и почти касается крыш высотных домов. Полуденный жар сменился предвечерней духотой. Раскаленный за день бетон выдыхает из себя жар, нещадно испаряя из всего живого и неживого воду. Люди обливаются потом, травы и цветы вяло сникли, засохшие комки грязи рассыпались в сухой прах и пыль.
– Командующий… – начал опять медленно и почти шепотом дед, – пошел к радиостанции, откуда… управляется… порядок показа мишеней…
А Иванов, сняв с кузова полуторки пулемет, отдал, чтобы не заставлять маршала долго ждать, зарядить патронную коробку с лентами молодому оружейнику, почти мальчику (которого сердобольные кадровики «спрятали» в учебку в надежде, что выживет в этой войне), а сам начал мастерить подвесной ремень. Делал он это быстро, аккуратно, по-хозяйски. Потом переобулся, достав из рюкзака трофейные солдатские ботинки. А сапоги, так же аккуратно сложив, спрятал в рюкзак. Пристегнул и прикрепил нож и сумочку с гранатами. «Полная выкладка» по договоренности между сторонами была облегчена, учитывая тяжесть пулемета и коробки с патронами. Взяв с рук молодого оружейника коробку с патронами, Иванов приладил ее к пулемету и подошел к радиостанции, где стоял маршал, и обратился к солдату, который сидел там, в траншее, на пульте подъема мишеней.
– Федор, мой первый выстрел будет означать, что время пошло, а я побежал. Поднимешь 27 раз и каждый раз на 5 секунд. Не ошибись. Интервалы пауз на твое усмотрение, – и он энергичными шагами, разминаясь и разогреваясь на ходу, пошел к опушке леса на исходную позицию.
Маршал молча смотрел ему вслед, потом почему-то тихо спросил:
– Он знает схему расположения мишеней на полигоне?
Ему ответили кратко:
– Нет.
– Тогда поднимать все мишени сразу, кроме поражаемых.
– Ему надо будет бежать, как чемпиону мира, – льстиво и заискивающе произнес кто-то из окружения командующего.
– А он и был до войны чемпионом России, – раздался в ответ голос из толпы солдат, стоящих недалеко.
Выстрел, хотя все его ждали, раздался вдруг, и почти все вздрогнули, выдав всеобщее напряжение. Иванов рванулся от опушки, и сразу же поднялись мишени. Раздалась длинная очередь и крайняя дальняя мишень упала. Иванов, не обращая внимания на остальные, ускорил бег. Мишени, простояв еще пару секунд, легли. Маршал, озабоченно щурясь, стал что-то искать. Догадливый адъютант подал ему мощный цейсовский бинокль. Иванов успел еще дважды отстреляться, пока командующий, довольно хмыкнув, не опустил бинокль.
– Правильно. Бьет по крайним, пока угол разворота меньше, пока от мишеней дальше, – прокомментировал кто-то.
На что командующий прореагировал по-своему:
– Мишени поднимать чаще, в рваном ритме, – отдал он приказ. В нем говорил уже командир, который проводит учения и хочет выяснить все, на что способно его войско. Теперь Иванову приходилось чаще разворачиваться в сторону от направления бега, что сбивало дыхание и затрудняло бег.
– За первый километр 4 мишени за 4 подъема.
– А время? – не отрываясь от бинокля, спросил маршал.
– 4 минуты и 11 секунд.
– Устанет, – то ли с сожалением, то ли с сочувствием сказал кто-то из офицеров сопровождения. В это время наблюдавшие за необычными «маневрами в одиночку» дружно вскрикнули. Иванов неожиданно как-то нелепо растопырил руки и совершил несуразный прыжок на одной ноге, взмахнул правой рукой и с бега перешел в положение полета на уровне одного метра над землей. Не успели утихнуть крики, как свободный полет параллельно земле перешел в пикирующее падение носом к пахоте. Видно было, как тяжелый пулемет стволом вниз тянет за собой стрелка.
– Мишень! – спокойно, но чуть громче обычного раздалась команда, заставив всех вздрогнуть еще раз.
Мишени поднялись, и маршал стал считать:
– Раз… два… три… четыре… пять… Мишени упали, выстрелов не было. Но за эти пять секунд сержант сумел не только отвернуть ствол пулемета, чтобы он не забился землей, не только упал и перекувыркнулся, но и, соскочив, продолжил бег. Как только мишени скрылись, тут же раздалась новая команда:
– Мишени! – которые послушно поднялись, чтобы через пять секунд опять скрыться. И трудно было понять, попал или нет Иванов, потому что выстрелы раздались на четвертой секунде, и пораженная мишень уже падала вместе с убирающимися. На двенадцатой минуте Иванов прошел 3 километра ровно.
– Как по графику, – раздался чей-то нескрываемо восторженный голос.
– Но только 15 попаданий из 16 подъемов, – заметил кто-то из офицеров, покосившись на командующего.
– Ничего, сейчас начнет бить по две, – категоричным тоном вмешался третий.
– Этот… может… – начал было оживший полковник бодрым голосом, но осекся…
– Десять подъемов на этом километре, – скомандовал маршал.
Все понимали, что это затрудняет и замедляет бег: надо успевать поражать мишени. На 21-м подъеме под общее ликование Иванов успел уложить две мишени. И счет сравнялся. 21 подъем и 21 сбитая мишень. Дальше проще, и к началу 5-го километра осталась одна-единственная непораженная мишень. Точно по центру, напротив бегущего. С этим было все ясно.
– Эх… хе… хе, – вздыхает дедушка и бормочет так тихо, что с трудом различаю, – …всегда, когда расслабишься… нельзя расслабляться… война… молодой был…
– Последнюю мишень поднять за 30 метров до его финиша, – приказывает посветлевший маршал и по тону понятно, что он доволен увиденным, не жалеет о проигрыше и считает, что спор уже завершен, хотя Иванову осталось пробежать еще около 300 метров и поразить одну мишень. Но времени у него достаточно, а мастерства, всем понятно, ему не занимать. Так, наверно, думал командующий, когда, отдав бинокль, начал собираться навстречу сержанту, поглядывая на часы. Но вдруг в районе 18 минут послышались то короткие, то длинные какие-то истеричные очереди.
«Сбрасывает лишние боеприпасы, чтобы бежать было легче, вот пижон», – уже без злости подумал маршал и, повернувшись к бегущему, замер от удивления. Иванов, не останавливаясь, стрелял по мишени, которая и не думала попасть в разряд пораженных.
– Мишень не убирать! – резко прозвучал громкий голос командующего. Стало удивительно тихо, как бывает обычно по утрам, когда выпадает первый снег.
– Все! – невпопад и неизвестно чему радуясь, доложил адъютант. – 5 километров за 19 минут 37 секунд и не поразил одну мишень.
Пулемет Иванова, стрелявший каким-то странным тупым звуком, словно в ствол забилась земля, замолчал как раз в тот момент, когда он добежал до отметки финиша. Яростный крик Иванова разорвал тишину, будто по шву рвут жесткую ткань гимнастерки. Это был крик не торжества, триумфа, но и не крик отчаяния.
– Кхе… кха… кху… – закашлялся дед и стал мотать головой, будто стараясь отмахнуться от назойливых мух.
Я знаю и люблю своего дедушку, это какие-то неприятные и тягостные мысли ему не дают покоя. Приступы «кашля» у него начались после похорон бабушки.
– Прости… молодой был… не доглядел… – непонятно у кого-то горестно просит прощения дед. И опять, после долгой паузы, продолжает рассказывать, но так тихо, что я еле различаю его слова, из которых с трудом восстанавливаю картину происшедшего.
Все увидели, что Иванов перекинул пулемет за спину и, не останавливаясь, продолжал мчаться к мишени, на ходу доставая гранату. Оставались последние секунды по договору. Бросок гранаты, на мгновение сержант прижался к земле. Мишень, поднятая по приказу маршала и не убранная, от взрыва превратилась в чучело, но не падала. Все видели, как Иванов, вытащив нож, кинулся к ней и, добежав, стал в бешенстве крушить ее уже ножом.
– Вот теперь все, – сказал маршал, взглянув на адъютанта и не скрывая своего удовольствия. Но тут произошло нечто странное. Иванов, расправившись с мишенью, в том же темпе, потный, с ободранным при падении и грязным лицом, с гримасой ярости бросился в направлении маршала. Офицеры столпились, собираясь защищать командующего, который стоял спокойно, ибо лучше своих офицеров понимал, что Иванов покушаться на его жизнь не собирается. Если бы он этого хотел, незачем ему было бы к нему бежать. Он мог дать очередь из своего пулемета – и все было бы кончено. Такому стрелку попасть не составило бы никакого труда. Понимая это, он отстранил офицеров и пошел навстречу сержанту, блуждая в догадках.
«Ну промазал один раз, устал, руки тряслись, оружие чужое», – думал маршал, пытаясь предугадать возможные истоки и причины возбужденности набегавшего на него Иванова.
Дедушка стал как-то нервно кутаться в плед. Хотя солнце уже скрылось за горизонтом, но дневная духота еще не спала. Некоторые лучи скрывшегося солнца упирались в редкие кудрявые кучи облаков, подсвечивая их каким-то неестественно розовым светом. Остальные растворялись в зеленовато-синей выси, в которой пока пряталась надвигающаяся и падающая из глубин космоса на Землю темнота.
– Иванов резко свернул… Промчался мимо удивленных офицеров и маршала… Он перепрыгнул через какие-то пустые ящики из-под патронов. Только и увидели на лице грязь, кровь и ссадины. Никто ничего не понял… Кхе… кха… кху… Я… понял первый… звуки выстрелов… побежал в каптерку… А он в служебку… дверь ногой… хрясть…
Опять наступило долгое молчание. Дедушка сидел с закрытыми глазами, и я начала думать, что, может быть, он уснул. Но, заинтригованная, я не хотела оставить рассказ «на потом», ибо, зная деда, могу предположить вероятность и того, что дед больше не захочет про это вспоминать. Я прикоснулась к качалке, дед тут же зашевелился, и, не поворачивая головы, стал обрывками говорить. Из его слов я поняла, что Иванов, пробежав мимо собравшихся около командующего офицеров, бросился в оружейную каптерку, выволок оттуда перепуганного молодого солдатика и толкнул его к одинокому дереву метрах в 20 от ничего не понимающих в происходящем солдат, офицеров и маршала. Все таращились с удивлением на эту беготню, пытаясь понять хоть что-нибудь. Иванов же, поставив солдата к дереву, пошел в направлении командующего. Но, не доходя шагов десять, быстро развернулся и, не целясь и не снимая ремень пулемета с плеч, дал длинную очередь по молодому оружейнику. Видно было, как исчезла с лица несчастного краска, и оно стало белым, как мел. Через миг он сник, обмяк и безжизненно повалился набок. Офицеры бросились на сержанта, отобрали пулемет, который он отдал не только без сопротивления, но и с облегчением, как изрядно уставший после работы человек. Иванова поставили перед маршалом, который, едва владея собой, пробасил с хрипотцой:
– Ну! Что это значит?
Иванов, немного замешкавшись, понял, о чем его спрашивают, и ответил:
– Не волнуйтесь, он живой. Сейчас сам поднимется. Пусть подойдет, только, думаю… – Кхе… кха… кху… – приступ кашля деда в этот раз был настолько сильным, что я не столько услышала, сколько догадалась о конце фразы Иванова, – …от него будет дурно пахнуть…
Маршал кивнул. Иванов спросил солдата, который все еще дышал, захлебываясь, но кровь уже медленно возвращалась к лицу:
– Ты маркировки ящиков с патронами смотрел?
Солдат, с ужасом глядя на сержанта, кивнул головой.
– Знаешь ли, какая метка стоит на ящике с холостыми патронами?
Молчаливый кивок.
– Тогда поделом тебе, – беззлобно бросил Иванов и повернулся к маршалу, который уже все понял.
– Вот выигрыш, – маршал снял часы и протянул Иванову, который замялся, но часы принял.
– Нет, товарищ маршал, не удалось бы мне приехать в свой городок в маршальских часах. Дважды был убит я. Во-первых, не повезло: наступил на мину. Хорошо, что на полигоне это был лишь корень вырубленного пенька. А в настоящем бою мог быть и штырь от мины. Во-вторых, тогда, когда лично сам не проверил оружие, не обнаружил, что часть патронов холостые. А с убитого спросу нет: ни наград ему не носить, ни толчки ему не чистить. – Помолчав немного, Иванов усмехнулся, посмотрел на маршала и продолжил: – Но и вы остались без часов… Отдадим их ради справедливости ему, – сержант кивнул на оружейника, все еще бледное лицо которого мгновенно покрылось румянцем. – Пусть носит и помнит, что на войне мелочей нет. Любая упущенная мелочь – это чья-то смерть. Свою смерть никто не переживает, а чужая по твоей вине становится адом на всю жизнь. Если ты человек… конечно….
– Если ты человек… – повторил еще раз дедушка. Пока он рассказывал, темнота залила весь город, исчезли люди, машины, дома. Там, внизу, огни, но это лишь бессодержательные светлые точки и полоски. Красота темной ночи бедна и не может сравниться с буйной красотой светлого дня.
– Если ты человек… – принес порыв ветра с балкона еле слышный шепот дедушки.
«Жизнь солдата – это жизнь страны, как и их достоинство и честь», – подумала я и нежно обняла плачущего моего родного и очень-очень любимого деда.
АрмияВ новостях по телевизору показали случай «дедовщины» в армии. Дочь недоверчиво спросила:
– Что, на самом деле такое бывало и бывает? С тобой тоже? Расскажи.
– Неприятно такое вспоминать. Сначала тебя бьют и унижают, потом ты так же. Мало приятного в таких воспоминаниях, – отнекиваюсь я.
– Ну, пап, хотя бы один случай, – канючит дочь.
– Ладно. Слушай. Я был «салагой», т. е. солдатом первого года, еще неопытный, т. е. плохо битый и мало униженный, только-только начинал службу. Не стоило мне с таким веселым и довольным видом проходить мимо «стариков» – солдат третьего года службы. Это, как сам я понял позже, через два года, раздражает.
Но что делать: неопытность и обед, хоть и солдатский, скудный, подвели.
– Поел, говоришь? – злой голос, как бритвой, отрезал все чувства, оставив лишь страх.
Со скамьи курилки поднялся хилый, ростом чуть выше полутора метров, «старик-старослужащий». Как такого в армию взяли! Ясно же написано в законе: кто ниже 1,5 метра ростом, того служить в армию не брать. Щелчком отбросив окурок в бочку с песком, повернулся и поглядел мне в лицо. Серые, как у волка, зрачки были колючие, таили злобу. Я уже кое-что понимал, потому быстро опустил глаза к его сапогам. Но он успел увидеть, что я глядел на него не как салага, а как обычный человек оглядывается на чужой голос. На свою беду я еще не смог удержать скрываемую изо всех сил улыбку. Краешки губ, видать, выдали меня. Перешагнув через скамейку, он наступил на свежее собачье дерьмо, которое оставлял то тут, то там пес, люто ненавидимый старшиной за такие штучки, хромая собака – приживала солдатской кухни. Взгляд старика скользнул с моего лица вниз, к ногам, дальше от моих сапог к своим. До того, как он понял причину моей улыбки, возможно, еще были шансы на варианты мирного исхода этой встречи. Но теперь… чтобы салага смеялся над наступившим на собачье г… стариком… Невиданное нахальство! Я думал, что он отпрыгнет, одернет ногу. Но он силой воли заставил себя стоять в том же положении не шевелясь, будто наступил на змею. Мне оставалось лишь гадать, каким вычурным окажется мое наказание и насколько физически это будет больно. Теперь терять было нечего, и я смотрел на него холодно, но, стараясь, чтобы выражение лица не было дерзким, хуже того злым.
Чуть замешкавшись, «старик» поднял голову, внимательно оглядел меня снизу вверх, ибо я был на две, а то и на три головы выше его, скупо улыбнулся и мягко повторил:
– Поел, говоришь? Давай, продолжай!
Я сначала не понял; поняв, решил, что это шутка; когда от удара под колено сзади оказался стоящим на четвереньках, дошло, что всерьез. Пойми, дочь, жизнь самый суровый, но и самый мудрый учитель. В те несколько секунд, пока я падал, как подрубленный, балансируя назад-вбок, прямо-вниз, я осознал просто, ясно и до конца, что никто не шутит, что стоящие вокруг «старики», многие из которых, возможно, меня видят впервые, и я их не знаю, никогда потом и не вспоминал никого из них, будут жестоко меня бить только за то, что я молча, послушно и без отрицательных эмоций не делаю то, что прикажет этот «дохляк-старик» в такой же солдатской форме, как и я. Могут даже серьезно искалечить, сделать инвалидом, если вдруг вздумаю сопротивляться, драться. Ходили слухи, что бывали и смертные случаи. Родителям сообщали, что «геройски погиб при выполнении служебного долга». Армия не любит выносить сор из избы.
– Ну, салажка, чисть лапой и обсоси свои пальчики, – он отступил на шаг назад, великодушно предоставив возможность лишь макнуть палец в собачье г…
Этот шаг назад одновременно был и позицией для удара сапогом по лицу, если бы я задержался еще на секунду. Жизнь она такая, какая есть, и принимать ее надо спокойно, с той нормой эмоций, которые в данной ситуации допустимы. Я стал философом-стоиком именно тогда, когда стоял на четвереньках. Абсолютно безо всяких эмоций, словно брал в руки пластилин в школе, без обиды, без злобы, без брезгливости, обычно, буднично, спокойно я воткнул палец глубоко в г…, помешал, покрутил там, не спеша, чем вызвал смех и уже прощение у большинства окружавших меня старослужащих. Поднимаясь с колен, засунул палец в рот и аккуратно обсосал без кривляния, не юродствуя, не изображая ложного удовольствия, но и не морщась. «Старик-мерзляк» подозрительно посмотрел на меня, подошел ближе:
– А ну покажь культяпу!
Я вынул палец изо рта и сунул ему сжатый кулак с обсосанным очень чисто указательным пальцем под нос. Он понюхал и, сморщившись от вони, отдернул голову:
– Вкусно? Шо хошь?
Кто-то из расходящихся по своим делам солдат-третьегодок, посчитав, что инцидент исчерпан, и что салага проявил требуемые неформальным уставом подчинение и послушание, вяло и скучно бросил на ходу:
– Оставь его, Сотерчук.
Фамилия «старика-пупсика» была Сотеругин. Он вытер оставшееся на сапоге дерьмо об траву и ушел со всеми. Я молча постоял еще некоторое время, пока никого в курилке не осталось. Сел на скамейку, удивляясь, что испытываю скорее радость, что все это кончилось, чем обиду, унижение или злость. Не возникло тогда и желания мести. Более того, потом мы прослужили с этим «стариком-карликом» бок о бок почти целый год. Общались без ненужных эмоций – как положительных, так и отрицательных. Кажется, что ни он, ни я даже и не помнили о том, обычном для отношений солдат-разногодок, событии. Да и сейчас вспоминаю и рассказываю об этом только для того, что в жизни ко всему нужно относиться соответственно ситуации и обстоятельствам. То, что оскорбительно и унизительно при одних обстоятельствах, при других нужно воспринимать просто как обычную житейскую данность. Жизнь свела, и жизнь развела – он дембельнулся, а мне еще предстояло служить два года. Когда я стал «стариком», то вел себя не лучше, а порой, возможно, даже хуже. Из сказанного еще один вывод: события жизни, в том числе и унизительные, сами по себе ничему не учат, если их воспринимать без драм и ненужных в тех условиях эмоций. И я о нем спокойно забыл, думалось, навсегда. И вероятно, действительно бы со временем совсем забыл, как о многом другом – и хорошем, и дурном. Когда ты вынужден жить в навозе, когда нет выбора или выбор – смерть, то настоящая сила в том, чтобы не драматизировать ситуацию без крайней нужды, не идти на поводу у эмоций. Тогда необходимо чувства отложить на потом, и думать, как вылезать из г…
– И как же ты вылез? – со смесью сочувствия и сожаления, презрения и недоверия спросила Марфа.
Мучин внимательно и хитро посмотрел на дочь, как будто испытывая. Ему польстил оттенок недоверия в интонации дочери. Она, знающая отца лучше всех других людей на свете, не поверила, засомневалась. Потому Руслан Баянович и посмотрел так на дочь, пытаясь понять, чему она не верит. То ли тому, что такое событие вообще было, то ли тому, что отец способен так унизиться. Трудно было понять.
– Как ты думаешь, почему это я так старательно крутил рукой в собачьем дерьме, стоя на четвереньках перед этим «стариком-обормотом»?
– Ты же сам объяснил, что это сняло напряжение, рассмешило старослужащих, и они тебя простили и не стали бить.
– Конечно, и это тоже. Но дело в том, что когда я начал подниматься с корточек, в рот я засунул и сосал не средний палец, которым мешал дерьмо, выпачкав тыльную сторону кисти и два других крайних пальца, а указательный, который оставался зажатым в руке и чистым.
Я это придумал и на это решился, когда перестал бояться и стал абсолютно холодным, спокойным, упав на колени. Голова работала предельно ясно и четко. Риск я осознавал. Но был еще и кураж. Если обман раскроется, я понимал, то остроумие может сыграть и положительную роль восхищения хитрой коварностью салаги. Тогда бы били, но смеясь, и не до травм.
Отец замолчал, но чувствовалось, что есть еще что-то недоговоренное в этой в общем-то невеселой истории, когда нормальные люди ведут себя, как подонки, в силу обстоятельств, а не по природе своей и не по воспитанию, просто в силу правил, установленных в том или ином коллективе. Молчание затянулось, и Марфа, не понимая затруднения отца, спросила:
– И все?
– Могло бы быть… Когда мне оставалось служить несколько месяцев, в один из дней мне в казарму позвонил мой одногодка. Мы уже сами теперь были старослужащими, вели себя кто мягче, кто жестче, но как «старики». Возможно, среди нас находились и такие, которые были в десятки раз хуже тех, кто в свое время нас обижал. «Старики» в наряды на кухню и на караул уже не ходят, только дневальными по казарме и посыльными по штабу. Так вот мне, дневальному, позвонил днем из штаба посыльный и сказал, что приезжал Сотеругин за какими-то своими документами, что-то у него там перепутали, что…
– Где он? – удивляясь тому интересу, который вдруг возник, как-то очень спокойно прервал я.
– Пошел на автобус, на КПП.
КПП – это контрольно-пропускной пункт у въезда в гарнизон, где останавливался маршрутный автобус, поджидая военнослужащих, направляющихся в ближайший городок.
– Давно?
– Беги напрямую, через лес и речку, может, успеешь.
Если бы кто видел, как я бежал. Не помню ничего: что было под ногами, где ветки хлестали и исцарапали лицо, где ободрал гимнастерку, где и как об кочки сбил и растянул ноги. Потом ходили специально смотреть, где я, не замочившись, то ли перепрыгнул, то ли перешел, как Христос, «по сухо» речушку. Маленькая, шириной 3–4 метра, глубиной, где метр, где полтора метра. Как я перелетел, не помню. Одежда и сапоги остались сухие. То ли где-то нашел перекинутое бревно, то ли раздевался и нес одежду на руках. Но ребята на КПП говорили, что все было сухо. Автобус уже стоял, дожидаясь пассажиров. Став перед носом автобуса, не торопясь, будто смакуя, отдышался. Снял солдатский ремень, намотал на руку так, чтобы бляха торчала, как обрубок меча. Подойдя к открытой двери «по-стариковски» спокойно, но внятно и громко приказал:
– Сотерчук! На выход!
Он молча вышел, бледный, хилый, щупленький, но в очень хорошем красивом костюме. Полагаю, что теперь уже мои зрачки были волчьими, как у него когда-то тогда, когда он заставлял меня есть г… Он опустил глаза.
– Что скажешь?
Поразительно: он вспомнил мое имя. Думаю, его голова работала в тот момент так же хорошо, как и моя тогда. Люди любят свое имя, даже если оно в устах врага. Но я к Сотеругину не чувствовал вражды, ненависти или еще какого-то чувства мести. Я был удивительно безразличен и спокоен. Мое «Я» в этом мире роли не играло. Оно жило само по себе. Тут был свой мир со своими правилами игры. И независимо от того, что я хотел и чувствовал на самом деле, я делал и должен был делать то, что в таких случаях было нормальным, логичным, понятным, правильным. Поэтому хитрость с именем не сработала. Просто мне нужно было в силу каких-то глубинных причин его побить. Причинная связь с тем событием была лишь внешней бутафорией. Какой-то не очень важной для сути оболочкой. Вроде и не я это делал. Мне, честно говоря, это и не нужно было совсем. Появись он случайно на месяц позже, наши судьбы так навеки и разошлись бы без следа в прошлом. Но кто-то распорядился иначе и зачем, я не знаю.
– Не нужно, Руслан, – ответил он слабым и неуверенным голосом.
– Не извинился, мерзавец! – вскричала Марфа, будто предвкушая отмщение.
Я бил его жестоко, молча, быстро. Измордовал до неузнаваемости лицо, изорвал весь костюм. Он не сопротивлялся, хотя мог, он же не был салагой срочной службы. Остановился, когда из автобуса вышел офицер и приказал:
– Отставить, рядовой! – потом, поколебавшись, спросил: – За что бил?
– Г… заставлял есть, – ответил я, сам удивляясь тому, что приврал, употребляя не ту форму глагола.
– Хватит ему, – и сел обратно в автобус.
Я пошел обратно в казарму, но уже не через лес, а по дороге.
Если выбора нет или альтернатива боль и смерть, мы должны делать то, что предлагает нам жизнь.
– А если предлагает предательство?
– Скажи, милейшая Марфа, что такое предательство?
– Предательство и есть предательство, когда тебя предают или сам себя.