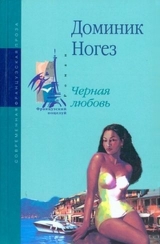
Текст книги "Черная любовь"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Остаток вечера был менее тяжел для меня. Но она была в лучшем случае молчалива, а чаще брюзжала: не знаю уж, чем она занималась в течение восьми дней стажировки – интенсивные упражнения? опасные прыжки? забеги на скорость? Знаю одно – она была разбита, и к ней было не подступиться.
На следующее утро она захотела выйти на улицу в шортах. Мне пришлось довольствоваться тем, что вместо обтягивающей ярко-розовой маечки она согласилась надеть рубашку поло, которую я ей одолжил. (Ведь по ее собственной просьбе в нашу программу входило посещение нескольких церквей.) Как будто бы продолжая вчерашнее агрессивное поведение (которое я ей еще не простил: в глубине души я все еще пережевывал слово «подлость», лучше всего его отражающее), она с садистским удовольствием подчеркивала все, в чем расходился наш «имидж», что говорило о двенадцати годах разницы между нами.
Тем не менее, отдав должное собору Саграда Фамилиа, построенному Гауди, и Тибидабо (где мы, чтобы напугаться до дрожи, посетили выставку ядовитых змей), я без промедления увел ее к порту, и мы уплыли на прогулку по морю. Погода стояла такая чудесная: как можно не радоваться! Я уже все забыл, все простил. Мне достаточно было видеть, как нежно она подставила лицо ветру, закрыв глаза, успокоенная, почти улыбающаяся. Она даже рассмеялась звонко, взяв меня за руку, чтобы спуститься со мной на сушу, когда мы высаживались с портового катера перед каким-то кабачком. Это простое движение растрогало меня куда больше, чем было бы разумно, наполнив меня теплом и умилением – и как никогда сильным желанием жить вместе с ней и впредь. A у меня буквально «потеплело на сердце» – но, увы, вскоре я понял, это было подобно действию камфоры или морфия, успокаивающих средств, применяющихся, когда положение безнадежно, подобно бальзаму на рану, раскрывающуюся все шире и уже смертельную.
Вдруг в скромном ресторанчике самообслуживания на берегу моря, где мы отведали разных тапас, я имел несчастье сделать жест, который довел ее до белого каления, и надолго. Она с полным ртом тортильи собралась отпить из горлышка моей бутылки с минеральной водой – я удержал бутылку пальцем и предложил ей стакан. Не говоря ни слова, она заказала другую бутылку, расплатилась и вышла. Я нашел ее сидящей на крутых скалах, возвышающихся над морем. После долгого молчания она заговорила глухим голосом. Она сказала, что сейчас же уедет обратно в Ллоре де Map, где еще оставалось несколько ее товарищей-танцовщиков. «Я приехала в Барселону, только чтобы сделать тебе приятное, теперь я тебя не выношу», и так далее. Она разрушала все, даже прошлое, утверждая, вопреки тому, что повторяла мне тогда и вопреки всякому правдоподобию, что к концу нашей прошлой поездки в Рим «она больше не могла». Потом опять всплыл ее новый лейтмотив – разница в возрасте: то, что раньше она сама представляла как удачу, стало помехой, обесценивающей ее в глазах подруг и в ее собственных глазах.
Я ничего не отвечал. Все плыло вокруг меня, не было больше будущего – не было ничего, только море, плещущееся внизу под нашими ногами. Я на секунду представил, как бросаюсь туда на ее глазах и разбиваюсь об острые скалы, на склоне которых мы сидели. Но нет. Мы продолжали сидеть бок о бок, молча. Потом мало-помалу слова вернулись – сначала банальности, короткие нейтральные фразы, затем более радостные наблюдения за горизонтом или полетом чаек. И через четверть часа – я не должен был так удивляться, у меня ведь была привычка к резким изменениям ее настроения, она наконец сказала мне: «Я пошутила, миленький, я на самом деле так не думала!» – и поцеловала меня. Мы долго еще лежали на солнце, обнявшись, полуголые. Я заметил, что у нее облезают плечи и груди. На секунду я вспомнил о змеях, увиденных недавно – они меняли кожу, и шкурки, сохраняя их форму, оставались на ветках. Я представил вдруг, что вижу рядом с собой только кожу, пустую! Я прогнал это нездоровое видение, наконец подставив тело солнцу с таким наслаждением, какого не испытывал уже много лет. Счастье вновь показалось мне – иллюзия счастья.
Но ненадолго. В тот же вечер, после ужина в Лос Караколес, который мы запили плохим белым испанским вином, все было разбито. Прямо на Рамблас, немного пьяная, она сначала обняла меня за шею со слишком любящим видом – она преувеличивала, играла, – но так как я, в отличие от нее, не хотел возвращаться сразу же, она вдруг стала мне угрожать, выкрикивая ругательства. Я хотел оставить ее – пусть сама добирается до гостиницы, но нет: она потребовала, чтобы я проводил ее до номера и сдал ключ, выходя, чтобы ей не пришлось открывать мне, когда я вернусь. Короче, каприз балованного ребенка быстро превратился в сцену. Снова всплыли отрывки нашего разговора за обедом: тогда она опять в слишком радужных тонах рассказывала мне о своих друзьях из Ллоре де Map, особенно знаменитой Сандре, не отрицая, что между ними было что-то, и из-за двусмысленности этого разговора, в котором можно под покровом шутки выместить свою злость (она обычно только так и делала – провоцировала меня, а я отвечал – таков был единственный наш способ общения; ведь это были единственные моменты, когда она меня слушала), я ответил: «Еще раз заговоришь об этой девке – можешь убираться!» Она заставила меня повторить, но смеясь, давая мне таким образом понять, что придает этой угрозе не больше значения, чем я. Но это «можешь убираться», которое я за год с чем-то совместной жизни еще ни разу не произнес (и которое сказал в этот день только с безопасного расстояния юмора), наверное, засело у нее в голове, потому что мало-помалу, не без помощи алкоголя, она вспомнила об этом, разгорячилась, сама себя раззадорила и, вдруг уцепившись за мою руку так, что чуть не сломала ее, стала орать, выкатив глаза, прямо посреди Рамблас, в тот час – одиннадцать вечера, – когда там больше всего народа: «Это моя подруга, и ей на тебя насрать!» и прочие любезности такого же рода.
Все больше людей останавливались или начинали прохаживаться мимо нас, чтобы ничего не упустить из нашей перепалки (а одна белобрысая патлатая туристка в красных брюках, под руку со своим парнем, вообще подошла к нам на расстояние полуметра, как к зверям в клетке); это быдло остерегалось вмешиваться, хотя было все более очевидно, что мы дойдем до драки. Я направился к отелю, чтобы утихомирить Летицию, но она не успокаивалась – она, как я уже говорил, всегда утверждавшая, что терпеть не может скандалов, – а меня, как ни странно, скандал менее смущал, чем обычно, возможно, потому что здесь нас никто не знал; итак, мы разыгрывали первую сцену второго акта «Укрощения строптивой»! Когда мы вошли в номер (я вошел после нее), она принялась орать еще пуще: «Ему позволили высказаться, а он начинает делать замечания насчет моих подруг! Я любого убью, кто это себе позволит! Даже маму!» И в пароксизме ярости шарахнула кулаком по двери ванной, потом ударила еще сильнее, и на двери появилась трещина.
Я стоял неподвижно, сохраняя все возможное спокойствие, не пытаясь сдерживать движения Лэ (ведь я чувствовал, что малейшее прикосновение вгонит ее в необузданную истерику), не отвечал ничего или только: «Ты ошиблась. Мы друг друга не поняли», а после ударов по двери: «Прошу тебя, успокойся!» И она вдруг успокоилась, бросилась мне в объятия, положила голову на мое левое плечо и осталась так несколько минут, дыхание ее было неровно, быстро от рыданий, поднимающихся в ней, но не разражающихся, а я гладил ее по спине и шептал: «Сколько в тебе ярости!» Потом она отстранилась от меня и дала мне уйти, не забыв добавить уже нежным и даже умоляющим голоском: «Если можно, принеси мне бутылку минеральной воды…»
Я был все же в достаточной мере потрясен (десять минут спустя, когда я вышел на воздух, я отметил, протянув руку вперед, что все еще дрожу) и наугад бродил по пустынному кварталу Университат, долго избегая Рамблас, где мы выставили себя на посмешище, прежде чем вновь выйти на аллею, перейти на Пласа Релэ и расположиться на террасе кафе. Решительно, все шло чем дальше, тем хуже. «Ты должен меня приручить», – сказала она один раз в первые времена нашей любви. Видно было, что я этого не добился. Я холодно подумал, что единственной проблемой с ней будет найти способ расстаться, который повлечет за собой как можно меньше ущерба, психологического или материального. Мне даже пришла мысль сейчас же покинуть Барселону. Это была настоящая мудрость, если мудрости было место в таком деле. Надо было резать по живому, как герои Гюстава Эмара, которые, когда их ужалит змея, чтобы удалить смертоносный яд, вырезают ножом из руки место укуса.
Но мое положение было хуже. Я напоминал скорее наркомана, который решил соскочить и чувствует, когда начинает претворять решение в жизнь, как все тело его наливается ужасной парализующей тяжестью. Сейчас это было сносно – но мое состояние было как у человека, перенесшего операцию и еще находящегося под анестезией: рано или поздно боль, страшная боль, все же прорежется. Я не чувствовал себя готовым к этому
Вид площади окончательно отвлек меня. Дети еще гуляли, играя в мяч и в классики, не обращая внимания на юных бродяг испитого вида, выпрашивавших подаяние совсем рядом. Больше всего меня растрогал медленно и важно прошедший мимо человек лет пятидесяти, по виду напоминающий сановника времен Франко, который прогуливался в сопровождении пяти женщин в шелковых платьях, различающихся только рисунком – вероятно, жены, сестры, матери и незамужних невесток, первые попарно, последняя наедине с веером. Такой кортеж только в Испании увидишь!
Я вернулся в отель и лег спать в темноте, чтобы не разбудить мою подругу, вернувшуюся теперь в детскую ласковость сна.
На следующее утро она разбудила меня долгим поцелуем в губы и прошептала: «Прости меня за вчерашнее». «Это ничего, – ответил я. – Мы плохо переносим белое вино!»
Я уже готов был ее оправдать. В действительности вино было только предлогом. Думая об этом, пока она принимала ванну я нашел более давние причины для ее приступов гнева. Наверняка это шло из глубокого детства, от какого-то унижения, о котором она постаралась забыть, и, возможно, еще глубже, от страха быть покинутой (она ведь на некоторое время оказалась покинутой, ее мать отдавала ее на воспитание). Были и некоторые сексуальные вольности, на которые она согласилась перед ужином и за которые, возможно, потребовала высокой платы.
Но в конце концов, теперь она явно хотела искупить свою вину, вела себя очаровательно, сказала: «Я пойду за тобой даже в ад!» – «Удовольствуемся чистилищем», – ответил я ей.
Итак, мы провели два превосходных, по крайней мере, мирных дня. В зеркале я заметил на правом плече лиловые следы, которых раньше не видел: очевидно, она оставила их, схватив меня вчера вечером. Она так сжала мое плечо, что можно было различить даже отпечатки пальцев. Я решил дать ей выспаться, а в это время пойти за билетами на корриду, которая должна состояться поле обеда.
Когда я вернулся, в номере никого не было. Ее вещи тоже исчезли. Я позвонил портье. Мне сказали, что молодая женщина, тиу guapa (очень красивая), зашла за сеньоритой, что они взяли такси до
Ллоре де Map и уехали ровно четверть часа назад.
Я лишь чуть побледнел. Я был поражен собственным спокойствием. Как будто в глубине подсознания я уже ясно предвидел такой исход. Я вышел, спустился по Рамблас, потом, словно наугад, сел на фуникулер в Монтьюик. Я остановился в саду Мирамар на склоне холма и лежал на траве, не могу сказать, сколько времени. Затерявшись взглядом в голубизне, я снова видел во всех тонкостях недавнее прошлое, пытался точно представить себе предстоящее будущее. Это было будущее без нее.
Впервые она уехала, и я не бросился вдогонку за ней и не страдал от этого. Исчезновение, облегчающее страдание; исчезновение, которое принимаешь: это и называется разрывом.
Я вскочил и пешком спустился до Почтамта. Оттуда я послал в Ллоре де Map телеграмму на адрес «мадемуазель Летиции Оливье, танцовщицы», которой желал «счастливого пути», говоря, что возвращаться не стоит, что мы никогда больше не увидимся.
Потом я пообедал блюдом из вкуснейших маленьких осьминогов с чесноком, слывущих гордостью каталанской кухни, запив их немалым количеством белого вина, и вернулся в отель на сиесту. Перед тем как погрузиться в крепкий сон, я заметил на левом виске первый седой волос.
Меня разбудила боль в руке. Я массировал предплечье, думая, что пройду через это, что это весьма кстати. Боль задала тон остатку дня. На смену эйфории («Я свободен!», «Я не страдаю!») пришли резкая горечь и бешенство. Но я далеко не отказывался от них, я принимал их, как дар Божий. Уже довольно давно я думал, что, если когда-нибудь уйду из ее когтей – то есть когтей страсти, – это будет делом не разума, с самого начала почти бессильного, но результатом естественной усталости тела, неспособного больше страдать, или «Я», уже не выносящего подавления. Эта работа совершилась в глубинах, почти незаметно для меня – как весна, долго прятавшаяся под изморозью и голыми ветками, наливается вдруг соком и раскрывает все почки. Она зашла слишком далеко, истощила все фибры моей души, я был спасен.
Но в то же время я думал и о том, что на сей раз предательство Лэ было обдуманным, и бледнел от бешенства. Сначала песенка, которую она непрерывно мурлыкала в последний день – ей даже хватило цинизма как-то вечером заставить меня подпевать ей, – слово «танец» повторялось в ней двадцать раз, как наглое шифрованное предупреждение. Потом гостиничный портье открыл мне с жадной готовностью, присущей человеку, питающемуся несчастьями других, как пиявка кровью лихорадящего больного, что молоденькая guapa, с которой она сбежала, уже один раз приходила в гостиницу в мое отсутствие – ровно за несколько часов до перебранки на Рамблас.
Было почти пять часов. Я решил все же воспользоваться одним из купленных билетов на корриду, это могло меня развлечь. Но в результате мое самочувствие лишь ухудшилось. Сначала я не дрогнув и даже с некоторым удовольствием смотрел на отточенные движения парирующих удары тореро под ослепительным солнцем, под резкую ритмичную музыку; меня привлекали выпады, воткнутые бандерильи, и особенно вольтижерская виртуозность rejoneadores, нападающих на быка на коне и вооруженных короткой пикой. Что до длинного па-де-де тореадора и быка, сведения счетов между двумя парами яичек, меня неприятно поразила преувеличенная мужественность этого зрелища. Хотя Курро Крус или Моренито де Маракай (так их звали) прекрасно выглядели в солнечном свете.
Но четвертая коррида показала отвратительную изнанку этого барочного декора. Бык сразу же сломал ногу. Кость торчала из мышц. Но зверь бежал. Публика свистела, свистела все громче по мере того, как несчастный шел – хромал – к смерти. После нескольких выпадов мулетой, не отдавая себе отчета в отвратительности ситуации, тореадор встал в позицию, чтобы прикончить быка. Публика завопила. Тореадор промахнулся: то есть бык еще долгие минуты бегал с торчащей костью и еще одним клинком, воткнутым в хребет. Меня чуть не стошнило. Я бежал. Я вернулся пешком на Пласа де Торос по Гран Виа, как лунатик.
В тот вечер я не ужинал – разве что несколько тапас и бесчисленные стаканы vino tinto, которые я выпивал в каждом баре. Не замечая этого, я вошел в Баррио Чино. Уже стемнело. Самые разнообразные создания, юные или потрепанные, выныривали из переулков, выделялись на фоне фасадов, махали, подмигивали. Я отвечал на эти приглашения отказами все более добродушными, все менее уверенными, иногда почти ласковыми. Я угощал бокалом вина, меня угощали – в том числе, к часу ночи, молодой негр с Антильских островов или Гаити. Он показался мне симпатичным. Он не говорил по-французски, но мой испанский, хотя и невнятный от всего выпитого, был все более свободным и даже смелым – хотя, вероятно, весьма нетривиальным. Вскоре он повел меня по узким улочкам и коридорам на лестницу, где я бы десять раз упал, если бы не он, и наконец впустил в комнату довольно мрачного вида. Он сразу включил музыкальный центр, послышалось танго, аргентинские песни. Я рухнул на разобранную кровать.
Я лучше понял, что происходит, когда увидел, как он помочился в раковину, потом разделся. Он был довольно высокий и мускулистый. Он лег рядом со мной, он смотрел на меня, улыбаясь, так что блестели его белые зубы, я чувствовал его дыхание на щеке. Его кожа была похожа на кожу Лэ, такая же на ощупь – почти такая же нежная. Я коснулся рукой мышц его плеча. Он все еще улыбался. Теперь наши лица были совсем близко, я смотрел ему в глаза, изрекал непреложные истины о жизни. Не знаю, сколько времени прошло так. В какой-то момент он взял мою руку и положил на свой член, который встал. Я все смотрел ему в глаза. Он спросил у меня, почему я не раздеваюсь. Я сделал жест, который означал одновременно «зачем?» и «у меня не получится». Он снял с меня рубашку, я не мешал ему. Потом он встал, чтобы забить косяк. Он поднес зажигалку к анаше. Хоть и не сразу, она стала тлеть и задымилась.
Потом был провал в памяти… я вспоминаю, что лежу на нем, мой подбородок на его плече, слышится пронзительная индийская песенка Рави Шанкара. Он мягко высвободился и попросил денег. Я встал, пошатываясь – я был совершенно голый – порылся в бумажнике и нашел одну банкноту. Он сказал: «Ищи лучше». Тон был угрожающим, я бы мог забеспокоиться, но нет, у меня была уверенность в себе, которую дает опьянение – опьянение, которого я не пытался больше скрыть; напротив, я отдавался ему, подчеркивая его проявление, оно было моим спасением. Я выгреб из кармана моей куртки несколько монеток, уронил их по одной на простыню, как будто не замечая, что делаю, как будто пребывая в безответственном и бессознательном состоянии. Потом сел на кровать, опять заговорил, произнес несколько коротких фраз; я был неуязвим, но не только из притворства: никогда я так остро не чувствовал незначительность жизни, холодную возможность исчезнуть. И человек рядом не мог этого не почувствовать. Когда я наконец замолчал, глядя на него с пристальностью, заставившей его пошатнуться, подходящим словом было бы «безнадежность». Он вздохнул, как мальчишка, которого только что облапошили, но не более, и аккуратно собрал деньги: на лицо его вернулась улыбка. Тогда я подумал: «Хороший он парень», а еще (одеваясь): «Вот и мой черед настал, не только Лэ занимается однополой любовью, в общем, это гораздо легче, будет знать теперь». Но нет, ничего она не будет знать, это совершенно неважно, и в любом случае она не узнает об этом, она больше ничего обо мне не узнает, все было кончено, безнадежно кончено.
XVI
Я сразу же вернулся в Париж. Это мне помогло. Знание, что она далеко от меня, успокаивало. Географическое удаление в какой-то степени символизировало, шлифовало и a posteriori оправдывало удаление в чувствах. «Каждый человек в своей ночи…» Она просто вернулась в свою ночь, вот и все. Я видел ее такой же, какой она бросила меня в Японии: далекая фигурка, расплывающаяся в темноте. Неизмеримо больше страданий приносило мне другое: чем больше я пытался приблизиться к ней, тем дальше она убегала. Чем больше я пытался совать нос в ее жизнь, тем она становилась непроницаемее, размытее; ее окутывали все новые тени, открывались новые бездны, более глубокие, чем те, которые мне удавалось осветить хоть чуть-чуть – как в фильмах с фрактальными кадрами или как в видах Земли, снятых со спутника, когда на всей скорости приближаешься к увеличивающимся формам и каждое пятно, к которому приближаешься, далеко не terminus ad quem, стена, скала, на которой окончательно останавливается взгляд, представляется скопищем новых таинственных пятен, а они, в свою очередь, только и ждут увеличения и анализа и, возможно, откроют новые лабиринты для блуждания и расшифровки, и все это бесконечно, головокружительно.
Итак, теперь, когда Лэ была на Коста Брава, за тысячу километров от меня, я лишь неясно представлял, чем она может заниматься в то или иное время дня, но мое любопытство также было не слишком остро. Я довольствовался тремя-четырьмя размытыми, темными или блеклыми картинами, наполовину абстрактными, почти пиктограммами: Лэ растянулась на песке пляжа, Лэ ест паэлью с друзьями, Лэ спит или – что, конечно, жарче и больнее – Лэ танцует в ночном клубе. Но именно тогда, когда она была в Париже, совсем рядом со мной, когда мы жили вместе и виделись каждый день, ее малейшее отсутствие вызывало яркие видения и острые приступы беспокойства, которые никак не кончались – особенно когда, говоря правду из цинизма или обманывая меня из жестокости, она давала понять, что исчезла по сексуальным делам. Что за знойные картины мучили меня тогда, насколько подробные, ярко освещенные (куда до них сумеречным квази-пиктограммам), подвижные, даже живущие своей беспокойной жизнью! Что за фантазии! Каждая новая примета, обнаруженная случайно, каждое уточнение, внесенное назавтра в правдивые или выдуманные рассказы виновницы, лишь обогащали ее признание новыми тайнами, фреску – новыми тенями, страдание – новыми муками и неизведанным огнем. Эта парадоксальная дальность в близости, несомненно, объяснялась особенностями ее психологии, уникальными двуличием, скрытностью, мифоманией, присущими только ей. Но боюсь, она во всей своей лживости была лишь чуть карикатурным отражением большинства людей, даже слывущих самыми простыми и самыми искренними. Знание ближнего своего – тщеславная иллюзия, бесконечный самообман.
В первое время без нее, избавившись от нее, я, признаться, еще не дошел до подобных измышлений. Я довольствовался чувством облегчения, сильным, надо признаться, которое мне принесло расставание. Выйти из пары, вновь стать одиночкой – значит сбросить по крайней мере половину веса. Насколько лучше дышится, как освобождаешься, как молодеешь! …Пока не спускается ночь, и ты не оказываешься один, в два раза тяжелее, усталый от хода времени, в испорченных отношениях со временем.
Одним из самых скорых последствий моего разрыва с Лэ было то, что я опять стал стареть. Ты того же возраста, что любимый тобой человек. Ее молодость была мне зеркалом, и это зеркало разбилось. Сам того не желая, я быстро оказался в обществе мужчин и женщин моего возраста – бесконечно более воспитанных, образованных, разумных, порядочных и любезных, но в большинстве своем таких зануд! На самом деле это наблюдение остается в силе при всяком разрыве, даже между ровесниками.
Быть покинутым – ведь несмотря на то что я телеграфировал свое последнее прости, брошен был все же я: я порвал с ней вопреки себе, против воли своего тела, я был вынужден объявить войну предательнице, как Франция и Англия – Германии в 1939 году войну которой я не желал; быть покинутым – значит в любом случае лишиться части отпущенного тебе времени, перейти с солнца в тень, вступить в долгие холода, остаться на обочине дороги, в то время как жизнь со своим кортежем весело проходят мимо. Будущее приближалось, оно почти поравнялось с настоящим. Когда они совпадут, наступит смерть. До этого мы не дошли, я еще не чувствовал на моей коже ее ледяное дыхание, но воздух заметно посвежел.
Во всяком случае, пружина сломалась. Я, раньше кичившийся волюнтаризмом, разыгрывал из себя вечно свободного и выбирающего свою судьбу последователя Сартра, впал в какой-то безвольный фатализм. Отягощенный телом, к которому с уходом Лэ вернулась былая тяжесть, неподвижность, жир, и квартирой, загроможденной до тромбоза книгами и пылью, я лишился чувства полета. Я жил, переползая из часа в час, хватаясь за мелочи, чтобы все же попытаться набрать высоту. Например, сегодня снова взяться для режиссера Даана за план короткометражного фильма о смерти Мурнау; завтра – перебрать мои старые «Харакири», послезавтра – подшить болтающиеся обтрепанные края занавесок в кабинете.
Спал я плохо. Да еще и сердце ныло, как в последний день в Барселоне, и левая рука, немного. Я принимал аспирин с наивной убежденностью, что он разжижает кровь и избавляет от фатальных тромбов.
Мне не хотелось умирать, особенно теперь, когда я думал, что это ничего не изменит.
(Однако и жить мне тоже не очень хотелось.)
По крайней мере, я хвалил себя за то, что не слишком страдаю. Так как Летиция не подавала ни малейшего признака жизни, это было не слишком трудно – гораздо легче, во всяком случае, чем при первых ее исчезновениях. Короче, я не хотел восторжествовать слишком скоро, но на этот раз выздоровление казалось близким. В действительности меня поглотил уют сладкого промежуточного состояния между страстью и безразличием, которое один из моих друзей-семиологов определил как идеальное состояние духа для ученого: разлюбить что-то (в его случае это было кино) после сильной любви и еще достаточно чувствовать влюбленность, чтобы до тонкостей понимать погибшую страсть; между знанием изнутри и знанием снаружи, прозрением и пониманием, эмпатией и рассудком.
И в самом деле, никогда я столько не писал о том, что со мной происходит. И никогда я не чувствовал себя таким «гуманистом», в том числе и с той, которую я упорно считал воплощением предательства. Поскольку все мы люди – печально несовершенные, наделенные одинаково человеческой природой, говорил я себе, она не может быть мне совсем чужой. Даже парализованный, униженный, отверженный или умирающий, я все равно найду в себе аналогичный элемент (или аналог, как лучше сказать?) того, что сделало ее предательницей. Каждый из нас – часть другого, мост к другому. Этим я хочу сказать, что я прекрасно видел, как она меня предала, холодно предала, и что я дохожу до того, что понимаю ее. То есть мне удается влезть в ее кожу и почувствовать, почти изнутри, как можно предать, не отдавая себе в этом отчет, не понимая, что предаешь (не понимая полностью), не пользуясь этим словом, хватаясь за всяческие предлоги, уважительные или нет, описывая это по-другому, глядя в другую сторону, быстро забывая (амнезия – да, это очень важно, это очищает! – Лэ была королевой амнезии). Как можно предать, не чувствуя себя предателем. И даже если есть какой-то навык, убедить себя, что предатель – другой.
Но все эти красивые рассуждения длились лишь краткое время. Произошло то, чего я так боялся, когда колебался перед разрывом: действие анестезии кончилось, и вновь возникла боль во всех своих формах, жестокая, как ужасный и полный сил юный Геркулес. Вначале было все, что напоминало мне ее или нашу историю. Вещи, улицы, рестораны, далекие страны, в которых мы побывали вместе, общие друзья, планы, все возвращало меня к ней, все превращало для меня мир в клетку с множеством прутьев, о которые я бился, которые со всех сторон болезненно впивались в мою плоть. Обычная работа траура, конечно – она мне уже была известна.
Но прежде всего было все зло, которое она мне причинила, которое я день за днем скрывал от себя и которое вдруг поднялось на поверхность – ложь, обманы, злобные выходки, измены, как ужасные бумажные цветы, теперь свободно распускающие свои лепестки. Записки и фотографии, обнаруживаемые мной, подкрепляли то, что подсовывала память. Так я блуждал в нашем прошлом, как обитатель дома, разграбленного и разгромленного: он видит каждую вещь, каждую книгу, каждую сломанную или украденную безделушку, он вспоминает, что здесь было, что могло быть, что должно было здесь остаться, и каждое воспоминание доставляет особую, ни с чем не сравнимую боль, и медленно, глухо в нем поднимается ярость.
На этот раз я не делал ничего, чтобы ее сдержать. Напротив, так как я не мог помешать себе думать о Лэ, я пользовался своим гневом, чтобы думать о ней плохо. Это было нетрудно: достаточно позволить самолюбию взять верх над любовью. Сколько обид поднялось, сколько горечи! Прежде всего для меня было невыносимо то, что она, не довольствуясь тем, что предала меня, еще и не испытывает никаких угрызений совести. Как внимательно она прочла мое письмо! Как легко она соблюдала высказанный в нем запрет пытаться встретиться со мной! (В некоторых снах я видел, что она, наоборот, спешит в Париж, ждет меня часами перед дверью с подарком, умоляет меня на коленях – представляете!) Как быстро она привыкла к такому положению – можно подумать, она только этого и ждала! Но со своей стороны, она не могла не отметить, что я тоже к нему привык! Значит, этот разрыв открывал ее подлинную природу, которая велела ей никого не оставлять невредимым, вести двойную игру с простаками, заставлять признаваться в общем провале и даже (что я предположу ниже) самим своим существованием совершать преступление против всего человечества.
Отсюда это грустное похмелье, которое испытал я и должна была испытать она. Когда разрыв длится, каждый из любовников, словно в зеркале, видит свое несовершенство. Если она, которая «не могла жить без меня», и я, который «не мог жить без нее», так легко обходились друг без друга, значит, наша любовь была не так сильна или мы не были настолько достойны любви. У разрыва, несомненно, были причины. Но чтобы найти их, если не допускать маловероятный вариант святости одного или полной порочности другого, надо вдаваться в количественную оценку, взвешивать, измерять, сопоставлять. И принижать. «Единственный на свете» вновь занимает свое место в стаде, самый дорогой человек может считаться таковым лишь в пересчете на то, во сколько он нам обошелся, наполовину полная бутылка становится полупустой. Мы вспоминаем о недостатках и ограниченности, даже низостях, мы возвращаемся в печальную человеческую ограниченность.
И вот еще о чем я печалился – но за это охотно винил ее одну – о том, что мы пропустили что-то важное. С ней, если бы она захотела, мы стали бы королями Парижа в кинопрокате или другой области деятельности. Я был в обиде на нее за все, чему она не дала расцвести. Она оказалась недостойна меня, то есть нас. Даже домик в деревне, который мы иногда так страстно мечтали купить – что она сделала, чтобы действительно его найти? Да верила ли она вообще в нашу связь? Она всегда ускользала, всегда в какой-то мере предавалась вероломству (думал я, не отступая перед громкими словами).
Но самую ужасную боль я испытывал, когда думал, что после стольких месяцев совместной жизни во мне не было ничего, что удержало бы ее, заворожило или растрогало, раз она смогла отбросить меня равнодушно, как старую тряпку или погашенный билет. И наоборот, хотя она отличалась ужасными пороками и несравненной жестокостью, продолжай она, хотя бы по минимуму, делать то, что нужно, я бы оставался ей предан и во что бы то ни стало, даже если бы мне пришлось стараться за двоих, все равно пытался бы вывести нашу историю к длительности – и даже к подобию вечности.








