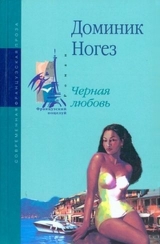
Текст книги "Черная любовь"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
VII
Л, Е, Т, И, Ц, И – и Я! Иногда, в минуты эйфории я напевал ей песенку Гейнсбура. Ей это нравилось, у нее были все его диски, это был единственный из «старых» певцов, которого она любила.
VIII
Она вызвала во мне глубокие изменения. Я часто любил через нее, в ней, то, что было мне отвратительно в других. Например, мне не нравился запах других людей. Даже сексуальные запахи меня не привлекали. Помню, в бытность свою студентом, я заставлял очаровательную брюнеточку из Ниццы: она была несравненно восхитительна и изящна, но когда намокала, то побивала все рекорды быстроты и ароматности – все время вытираться! Послушная девочка завела для этого специальное полотенце. (Она и по громкости ставила рекорды. Чтобы покрыть ее охи и ахи, я ставил «Арлезьенку» на полную громкость: среди всех моих записей эта была наиболее тесно связана с Ниццей.)
С Летицией все было по-другому. Я сразу же всем сердцем полюбил легкий запах цикория, исходящий от ее кожи, – может быть, потому, что это был сухой запах, самая суть ее кожи метиски, никоим образом не связанный со случайными выделениями тела – потом и другими. Она отличалась сияющей чистотой, и, возможно, потому, что я встретил ее на берегу моря и из-за всех тех пляжей, где мне пришлось с ней побывать впоследствии. Если бы я выбирал для нее место в пантеоне, я охотно сделал бы из нее божество воды.
Однако в Париже, в обеих квартирах, в которых нам доводилось жить, она часто кричала мне, что желает что-то срочно сказать, находясь в туалете – у нее была какая-то мания оставлять дверь открытой в такие моменты, потому что она скучала там, и, подобно тому, как другие люди любят там почитать, она любила поговорить. Итак, когда она навязывала мне, думаю, с некоторым извращенным удовольствием, испарения или шумы своих интимных отправлений, мне часто случалось раздраженно захлопывать дверь, но, если она настаивала, мне удавалось смириться и забыть прискорбно зловонную ауру, ненадолго заслоняющую от меня ее прекрасное обнаженное тело. Она испражнялась нагой. Она была – и считала себя – настолько естественной, что все, что могло случиться с ее телом, в том числе и это, казалось ей само собой разумеющимся, здоровым, достойным демонстрации. Она была совершенно бесстыдна. (Как только я написал эту формулировку, мне показалось, что она во всех смыслах лучше всего передает суть Летиции.) К моему удивлению, мои терпимость и даже растроганность дошли в этом вопросе до самого отъявленного фетишизма. У меня уже были пряди ее волос – как и волос одной-двух бывших подружек, и даже целая маленькая косичка, которую она позволила мне отрезать в день, когда была очень весела. Но какое-то время в моем кармане лежал, завернутый в платок – на этот раз без ее ведома, – один из ее гигиенических тампонов. Кровь на нем засохла, но еще обладала непостижимой магической властью. Наконец я выбросил его с отвращением, как человек, очнувшийся от лунатизма или вновь обретший волю, но в течение нескольких дней я был совсем близок к невозможным крайностям любви, в которых обращался бы с телом другого совершенно так же, как с собственным, и любил бы даже его запахи и выделения. Некоторые святые или великие влюбленные смогли достичь этих рубежей. Поцелуй прокаженного. Может быть, я достиг бы этого, если бы Летиция заболела или была ранена. Но она так и не доставила мне этого удовольствия.
Печеночная колика, сломанная рука, грипп или что-нибудь похуже: тогда удовольствие доставляет то, что другой оказывается в твоей власти. Наконец-то можно расточать эту (иногда подавляющую, пугающую) страсть, которую ты давно и тщетно питал к предмету своей любви. Значит, отныне можно его заполонить. Если тайная утопия любви – слияние двух существ, то есть взаимное проникновение в тело другого, – это многообещающее начало. В более мелком масштабе – причем для меня только это и реабилитирует телесные запахи – есть, конечно, когда просыпаешься рядом с любимым существом, удовольствие, которое можешь испытывать, проникаясь его таинственными испарениями. Нам открывается невидимая часть его существа. Даже у Летиции иногда по утрам исходил изо рта эдакий тревожащий запах. И наши первые поцелуи скрепляли между нами сообщничество почти физиологическое. Обмен кровью, до наступления эпохи СПИДа – самый торжественный и самый совершенный этому пример.
Но, повторяю еще раз, самое чудесное – это доступ к человеку, который нам позволяет болезнь. Сначала мы беремся за его квартиру (уборка, покупки, готовка) – здесь квартира не только обиталище его ослабевшего тела, но почти что его замена. Потом – ложками микстуры, которую мы даем больному, туалетной перчаткой, которой протираем все закоулки его тела, и наконец даже термометром, мы захватываем его все менее и менее метонимически и все более и более буквально. Мы манипулируем его телом, управляем им. Начинаешь даже мечтать о тотальной оккупации: подобно вирусу или микробу, хочется проникнуть в него, оккупировать и наконец, возможно – предел еще более отдаленный и увы! более недостижимый, – самому стать им. Если я мог наслаждаться Летицией и в те дни, когда у нее были месячные, так это потому, что все, что относилось к ее половым органам, было мне дорого. Мне трудно говорить так о женщине, которую я любил больше всего в жизни, и любовью возвышенной, даже более духовной, чем физической. Но что толку прятать голову в песок. Курбе мог бы назвать свою картину, написанную для одного эмира и приобретенную впоследствии Жаком Лаканом, на которой изображены крупным планом половые органы женщины, не только «Происхождение мира», но и «Происхождение счастья». Все туда идет, все оттуда исходит. Пизда Лэ была великолепна. Одновременно плотная и нежная, не узкая, но и не растянутая, она обладала розовой эластичностью маленьких кальмаров и влажной свежестью гвоздики. Сила страсти, наверное, сделала меня нечувствительным и к слишком резкому вкусу, и к излишней маслянистости – к тем запахам, которые отвращали меня от других. И мне не приходилось себя заставлять, – ей был присущ только вкус чистой и теплой слизистой оболочки, вкус рта с чистым дыханием без изъяна, поэтому я расточал ей не скупясь самые глубокие поцелуи. Она называла ее «мой тюльпан» или «моя тютька», а я – «твой розовый бутон», «твой цикламен», «твоя бархотка», «твои кораллы», «твоя монашка», «Амандина», «мадам Баттерфляй» (Она: «Да, это точно, настоящая бабочка»!) или даже, не мог бы объяснить почему – «Королева Альп».
Брезгливое отношение к интимным запахам – настоящая тайна. Наверное, оно объясняется общей эволюцией условий жизни, все более уходящей от деревни, все более гигиеничных и асептических, которая с детства сделала меня нечувствительным к очарованию пота и пердежа. Кроме того, такие запахи слишком хорошо символизируют жизнь семейной пары, небрежение к себе, договор «прощай мне мои приступы гнева, а я тебе прощу твои запахи», эти моменты близости, отвратительные, когда они уже не преображены любовью. И даже, возможно, когда они еще преображены ей. Вспомните о Радамесе и Аиде, погребенных заживо, в их гробнице – представьте, когда у одного из них начнет вонять изо рта. Но ведь Лэ и я никогда не были настоящей парой. Возможно, именно это и сохранило так надолго нашу любовь – во всяком случае, мою.
IX
Она не любила, чтобы я вел себя заметно. Из-за того, что я был почти на двенадцать лет старше ее, все было так, как будто бы я – ее отец или еще хуже – один из родственников, которых она стыдится: для меня же было лучше держать себя в рамках, не надевать слишком строгих костюмов, но и не придерживаться молодежного стиля. Она, напротив, была способна, с достаточной непоследовательностью, как я уже сказал, даже в трезвом виде – впрочем, пила она редко, но, выпив, становилась совершенно демонической – на приступы безудержного дурачества: тогда она могла окликнуть человека с двадцати метров, свистеть в два пальца, выкрикивать непристойности или ругать себя саму, раздеваться, целовать в губы первого встречного, короче, шокировать, прежде всего меня, и тогда я оказывался в ее власти, готовый на все, только бы она прекратила. Особенно доставалось от этих всплесков пожилой, весьма симпатичной, учтивой и незаметной англичанке, которую я ни за что на свете не хотел бы огорчать. Однако, как только мы подходили к ее двери на лестничной площадке, Легация, когда она была в таком настроении, с громким хохотом провозглашала мне крайне непристойные признания в любви, специально произнося самым громким голосом как можно чаще слова «хуй», «эрекция», «киска», «течет», «сосать», «жопа» (она и кое-что новое изобретала, уже не помню точно: «сморчок» вместо «тестикулы», «меренга» вместо «вульва», среди прочего), и главное – она сопровождала слова жестом, набрасываясь на меня с неожиданной силой, хватаясь за всякие места, так что среди нервных (и болезненных) смешков, которые вызывала во мне эта щекотка, возгласов «тссс!», которыми я пытался ее утихомирить, стараний, которые я прилагал, чтобы ее обуздать и в то же время как можно скорее затащить на наш этаж (тогда она обвисала на моих руках, веся целые тонны, предоставляя мне нести ее, словно красотку в обмороке), я оставался обессиленным, раскрасневшимся, и иногда, к великой радости Лэ, наши переплетающиеся тела громко ударялись о дверь миссис Кройдон даже среди ночи, с риском разбудить ее, чтобы она выскочила, испуганная, в ночной рубашке – что она так и не сделала, слава Богу, по своей тактичности или из-за глухоты, умножая этим до неисчислимости капитал смущенной благодарности, который я издавна ей задолжал. Так, в иные дни, на этой лестнице, на улице или даже в ресторане, с опасением следя за предвестьями этих взрывов дикой живости, я рядом с ней напоминал самому себе доктора Франкенштейна в тот момент, когда его творение выходит из-под его власти.
И правда, ничто не доставляло ей такого удовольствия, как дразнить во мне «жу-хана» («ханжу» на ее перевернутом языке) или, что еще более любопытно, «протестанта», хотя ни я и никто из моей семьи никогда не были приверженцами этой прекрасной религии. Вероятно, она путала меня с кем-нибудь из своих любовников, да еще считала, что все протестанты – пуритане. Во всяком случае, хотя она меня и шокировала гораздо меньше, чем думала сама, – но это доставляло ей такую радость! Это был один из тех редких случаев, когда она вдруг становилась похожей на девочку, я бы ни за что на свете не разрушил ее иллюзии – она тащилась в полный рост, по ее собственному выражению, не только когда произносила громко и публично те слова, которые я привел выше, что через некоторое время перестало производить на меня какое-либо впечатление, но прежде всего, когда проявляла самым откровенным и неприкрытым образом свое желание, направленное на меня или на одного из молодых прохожих, что было мне отнюдь не столь безразлично.
Нет, больно, иногда ужасно больно, было мне просто находиться рядом с ней, такой лучезарно прекрасной, увы! такой желанной для всех – мне, столь недостойному (думал я) подобной чести. Когда пришло время подводить итоги, и совершенно объективно (я, конечно, шучу: в любви существует в лучшем случае великодушная субъективность), я искал на другой чаше весов то, что могло хотя бы отчасти компенсировать все усилия, все разочарования, которые она мне доставила, всех жаб, которых она заставила меня проглотить, всю черноту нашей связи, я находил прежде всего, кроме сексуального удовольствия, этот пунцовый цветок – ее красоту – милость, роскошь, невероятный, достойный фей или джиннов «Тысячи и одной ночи» дар, которым она оказалась. И то, что именно мне на долю досталось это благословение: эта неслыханная удача – то, что я встретил ее и был принят ею, избран жить рядом с ней, быть тем, кто идет с ней рядом.
Никогда я не ощущал этой столь смущающей благодати так, как в один октябрьский вечер. На коктейле, когда я без особого успеха пытался забыть о ее отсутствии – она на несколько дней уехала к подруге, живущей в Туре, – мое плавающее внимание было вдруг поймано взглядом. На меня глядела антильская девушка со светлой кожей, невероятно тонкой талией, с серьезным и сияющим лицом и с прической по последней моде – волосы как попало разделены на мелкие прядки, закреплены гелем и похожи на пучки диких трав. И эта девушка улыбнулась и направилась ко мне. И вдруг я узнал ее: это была Легация! Она была еще красивее и моложе, чем в моем воспоминании – а ведь оно было совсем свежим – красивее, чем когда-либо. Она приехала раньше, чем собиралась, и решила сделать мне сюрприз.
Рядом с ней я чувствовал себя настолько же слугой или охранником, насколько любовником. У меня, наверно, как и у всех мужчин, которые встречаются с манекенщицами или кинозвездами, складывалось впечатление, что все мужчины планеты, начиная с моих друзей, должны завидовать мне. Но одновременно с гордостью или впечатлением незаслуженной привилегии, которые я только что упомянул, я испытывал от этого беспокойство и неопределенное расплывчатое чувство ревности. Скорее всего, я был неправ. Наши друзья ведут себя с нашими любовницами совершенно так же, как мы ведем себя с их: мы чаще всего безразличны к их прелестям, не понимая, что они в них находят. Благодаря дружбе мы рады за наших друзей, и больше ничего. В лучшем случае, мы им немного завидуем. Но, так как верность мешает нам что-либо предпринять, чтобы занять их место, мы стараемся гнать прочь от себя всякое желание, сохраняя, самое большее, в темном уголке своего сознания этот шепоток демона-искусителя: если когда-нибудь она ему наскучит, тогда…
Что до других женщин, не стоит ожидать от них большей объективности. Одна из моих подруг, Лаура, на которую у меня уже вовсе не было видов, хотя она и сохранила некоторое очарование, несмотря на возраст, однажды сильно меня удивила, приняв недоверчивый вид, когда я стал делиться с ней моими опасениями. Я говорил ей о том, как невероятно часто на Лэ смотрят – и даже строят ей глазки – на улице, даже когда она идет со мной под руку, стараясь скорее заставить ее пожалеть о своем выборе, чем подразнить меня. А Лаура не только не пожалела ее, но, по-видимому, раздраженная, что я провел между Лэ и другими женщинами (и ней самой в том числе) такое качественное различие – презрительной улыбочкой дала понять, что в этом нет ничего исключительного, что она знает это, что такое со всеми бывает.
Начинаешь думать, что в красоте нет объективности. И все же, когда я был с Лэ в метро или в кафе и чувствовал, да, чувствовал все эти взгляды, повороты голов, шепот, которые вызывала она, как же становилось ясно – ясно, как огонь, – что она есть!
Среди того, что отличало для меня Лэ от всех прочих, начиная с той ночи, когда я ее повстречал, я еще вернусь к этому событию, была не только красота. Красота, красота и только, вызывает восхищение, но не любовь. Любви нужна яркость. У нее была эта яркость, эта невероятная живость. С самого начала меня прельстила аура, блеск, изысканные обороты и в то же время игривая легкость ее остроумных ответов: когда она была в хорошем настроении – это был фейерверк, взбитые сливки, мимоза и фиалки – одновременно двор Версаля и взятие Бастилии!
Еще до ее прихода ко мне – на следующий день после моего возвращения в Париж, раньше, чем было предусмотрено, с двумя большими сумками, содержащими все ее земное имущество, – я побаивался жить вместе. Возможно, я преувеличивал – это было не так уж грустно, в подобной близости есть свое очарование. На самом деле проблема была не во мне и не в ней, а в том, что каждому было трудно принимать своих друзей, не напрягая другого. Я старался встречать ее друзей как можно более улыбчиво и раскованно; она, напротив, не делала никаких усилий: уходила, как только приходили мои гости, которым я тем не менее часто жаждал ее представить – уходила, иногда даже не прощаясь. Поэтому очень скоро я стал мечтать о переезде. Я с потрясающей ясностью представлял то, что нам было нужно: большой лофт с белыми стенами в американском стиле, эдакий ангар Ла Виллет и Пантена, в каких многие художники селились в восьмидесятых годах: с огромным холлом, с каждой стороны от которого было по нескольку изолированных (и звукоизолированных) комнат – это я уточняю из-за нее: она любила включать на всю громкость телевизор или стереосистему, – в которых и она, и я могли уединяться по своему усмотрению, в одиночестве и в компании. И постель, огромная постель любви – на нейтральной территории.
Мое рвение или скорее то небольшое количество энергии, которое оставляла мне каждый день эта трудная любовь, сподвигло меня лишь на покупку двух-трех номеров «Фигаро», рубрику недвижимости которых я, однако, тщательно разметил крестиками, и на посещение сырого и облупившегося сарая, где свободно гулял ветер, в переулке Малакофф. Впрочем, через три месяца проблема отпала: Летиция исчезла.
X
– Я как кошка, – сказала она мне как-то раз. – Когда все хорошо, я ухожу. Возвращаюсь, когда мне плохо, когда я хочу есть или спать.
Это было сказано в минуту большой нежности и взаимного доверия, в постели или в ресторане, в один из тех моментов, когда в словах любовников достаточно игры и улыбки, чтобы они не принимали их всерьез, хотя на самом деле это, возможно, единственный момент, когда они говорят правду. Позднее, в отчаянии покинутости, задним числом мне почудился цинизм в этих словах. Она просто знала себя, она знала, что это случится рано или поздно, она мягко предупреждала меня об этом, так, что я и сам этого не подозревал.
Впрочем, она по-своему подготовила меня к этому, в последнее время все чаще опаздывая и не являясь на встречи; ее опоздания достигали сорока пяти минут (сами понимаете, насколько это приятно в ресторане!), исчезая на ночь или две. Поэтому, когда в воскресенье – после того, как в субботу она сказала мне «до завтра!» – я проснулся один, я не был слишком обижен. Это воскресенье, однако, было мрачным и нескончаемым. Три дня спустя, начав беспокоиться, я позвонил ее матери: «Она только что вышла», – ответила мне мать. Так я одновременно понял, что она ушла от меня и что она снова живет в своей семье – а значит, по крайней мере, не у другого: второе компенсировало, сглаживало первое. Впрочем, оттого, что я знал (или думал, что знаю), где она живет, в зоне досягаемости телефонного звонка (на случай, если потребность поговорить с ней станет слишком настоятельной), это расставание делалось весьма относительным: не уход, а скорее отдаление. И хотя я повторял про себя, что все кончено, как повторяют официальный доклад, чтобы попытаться проникнуться им, мое подсознательное или скорее, не будем играть словами, мое сознательное Я, просто на более глубоком уровне, не было обмануто, оно даже насторожилось, убежденное в противном. Итак, я был грустен, не более; я был вяло грустен и почти не страдал: я то чувствовал себя способным весьма серьезно собраться потребовать у нее назад ключи от квартиры, то во мне брала верх некая оскорбленная гордость – и тогда не могло быть и речи о том, чтобы требовать у нее чего-либо: я намеревался одним своим молчанием дать ей понять, что вполне могу обойтись без нее, даже намекнуть – этим же аффектированным безразличием – на то, что я едва заметил ее отсутствие. Короче, начался сеанс армрестлинга, и главное было – не сдаваться. Иногда я даже с наслаждением перебирал в уме все, что я выигрывал от этого разрыва: отдых не только в моральном, но и в физическом, просто физическом смысле этого слова, возможность прийти в себя (как говорят, после обморока, но также с наслаждением вернуться к жизни наедине с собой) и главное, испарится ревность – туда ей и дорога. Ведь ревность (думал я тогда) не неизбежна, она имеет над нами власть и строит свои козни, только если мы каким-то образом предварительно согласились взять на себя за некое существо перед некоей воображаемой высшей инстанцией почти юридическую ответственность, и следовательно, согласиться на обязанность присматривать за ним. Когда эта угнетающая ответственность вдруг снимается с нас (а я наивно полагал, что это возможно), подозрительная напряженность полицейского надзора должна исчезнуть, словно по волшебству, как в сказках с первыми лучами солнца исчезают вампиры и щупальца ночи.
Итак, я находился на стадии спокойных решений («выкинуть ее из своей души»), в умиротворяющей монотонности анализов и медитаций (конец любви как подготовка к смерти), эмоциональных метаний, которые составляют самую суть затухающей страсти (а ведь моя страсть доросла пока лишь до детского лепета). Излишняя суровость чередовалась с излишней мягкостью. Ведь разлука вначале стирает обезоруживающие черты возлюбленной, все эти трогательные, хотя иногда и объективно невыносимые детали, которые составляют ее очарование и которые в ее присутствии не давали нам взбунтоваться. Освобожденные от этого сдерживавшего давления, наши обиды вырываются на свободу. Потом они иссякают: становится слишком ясно, что они уже беспредметны – они как солдаты, готовящиеся в казарме к бою, в который им никогда не суждено вступить. Тогда недостатки возлюбленной тускнеют, и из чертовки она вновь превращается в святую.
Но все это – решения, анализы, душевные треволнения – было как бы исподтишка, неотвязно, исподволь. Иногда о нашей разлуке и моей грусти напоминали мне другие. Действительно, из-за неловкостей других, которые, будучи не в курсе, продолжают связывать нас в речи и планах, приглашать нас вместе, смотреть на нас как на части неизменного целого, – разбитая любовь, разорванная дружба долго влачат посмертную жизнь, как, по легенде, растут волосы и ногти трупов.
Одно событие положило конец этим утешительным чувствам. Это произошло однажды вечером, когда, почти не думая о ней, я зашел выпить по стаканчику с Доннаром на террасу «Кафе Мэрии», что на площади Сен-Сюльпис. Уже давно пробило полночь. И вдруг, как сейчас вижу, словно удар молнии: она – она проходит мимо, сияющая, не видя меня, не видя никого вокруг, кроме своего спутника. На ней было очень элегантное светлое платье, которого я у нее никогда не видел, и широкое колье из мелких голубых бусинок – я надолго запомнил этот неяркий блеск цвета индиго на ее груди. У нее была новая прическа – короткие приглаженные волосы. Мужчина был по крайней мере в два раза старше ее, он был старше и меня, седеющий, на исходе четвертого десятка. Они обошли освещенный фонтан, совсем рядом с бортиком, рябь воды на мгновение отразилась на них; она опустила ладонь в воду, обрызгала его или просто сделала вид, что хочет обрызгать; они смеялись. Именно в этот момент я вдруг попросил Доннара извинить меня и встал. Я хотел догнать ее, сам не зная для чего, может быть, просто показаться ей и посмотреть на нее молча, или сухим тоном потребовать мои ключи, или разразиться криками, оскорбить другого и напугать его, или осыпать ее мольбами. Тогда этой столь нежной летней ночью на желтом, дрожащем фоне каскадов Сен-Сюльпис состоялся бы ремейк главной сцены «Свидания», прекрасного фильма Тешине, который меня так поразил, в котором актер Вадек Станцак кричал от любви, рыдая под дождем у этого фонтана (одна из самых многоводных сцен в кино, надо признать). Но пока я протискивался между стульями и людьми, толпящимися рядом с кафе, пока перешел улицу по которой даже в этот поздний час проезжали во множестве машины, пока пересек саму площадь – напрасно я обежал как безумный два-три раза вокруг фонтана и его львов, расталкивая влюбленных, даже чуть не столкнув в фонтан молодую туристку, которая шагала по бортику босиком, – я больше не увидел их, они и впрямь исчезли.
Когда я вернулся на террасу кафе и сел на место, не говоря ни слова, я был, должно быть, так бледен – и даже так дрожал, – что Доннар, который, как правило, не страдает от сочувствия или простого внимания к ближнему, спросил, как я себя чувствую. «Ничего страшного», – пробормотал я. Затем, впервые в жизни, возможно (во всяком случае, во взрослой жизни), я не смог, чтобы ввести его в заблуждение, выговорить ни слова больше. Я смотрел прямо перед собой, на освещенный фонтан, и держал руку у виска, чтобы Доннар не заметил, я плакал.
Следующие дни были жалки. Если я когда-либо и думал о самоубийстве, это было именно тогда. Но я был неспособен на покупки, манипуляции, движения, необходимые для этой мрачной работы. Я был разбит, опустошен, все время искал убежища во сне, что не исправляло положения, ведь утренние сны – самые долгие, самые точные – возвращали мне ее, ребячливую и любящую. Естественно, как всегда в этих случаях, машина ревности работала на полную катушку, изобретательная, как гениальный романист. Перед моим взором вновь возникали под призрачным светом площади Сен-Сюльпис последние дни нашей совместной жизни, даже самые давние: мелочи, слова, на которые я вначале не обращал внимания, вдруг обретали ясный смысл. «Старик», ради которого она пожертвовала мной, был не кто иной, как тот адвокат, о котором она мне однажды говорила, хвастаясь, что несколько раз отказывалась от его ухаживаний ради меня. Черт побери, так это чтобы поужинать у него, она купила те две бутылки розового шампанского, которые я однажды нашел в холодильнике и которых час спустя, когда она вышла, там уже не было! Кто знает – в тот вечер, когда я увидел ее у фонтана, не вышли ли они из того самого ресторана, который я показал ей, на улице Канетт, и меню которого она попросила перед выходом («Но у меня оно есть!» – воскликнул я. А она все же сунула его в сумочку: «На всякий случай!»)?
В свете этих реконструкций мне представилось, что смысл ее ухода изменился: это уже не было мимолетным увлечением, она не просто пропустила слишком много встреч со мной – это было хладнокровным предательством. «Разочарованный», «обиженный», «грустный», «раздосадованный» и даже «сконфуженный» – все слова, к которым я в душе прибегал до этого момента, чтобы обозначить мое положение и то, как я переживал его, уже не годились. Даже слово «уязвленный» не подошло бы, ведь оно предполагает некое отшатывание, какое-то до тошноты отвращение, то есть какое-то указание на жизнь. Я был убит в самом буквальном и самом сильном смысле, то есть смертельно ранен и обращен в ничто. Ибо теперь я был ничто для нее – это было слишком ясно. В редкие моменты, когда мне случалось встрепенуться и вырваться из полной убитости, это вызывало во мне какое-то слабое, почти метафизическое негодование: как, говорил я себе, нормальный человек может оторваться от другого так резко, так радикально, когда они так долго были переплетены, укоренены телом и душой друг в друге – желанием, наслаждением, смехом, привычками, разговорами, друзьями и родителями, путешествиями, воспоминаниями, планами на будущее? Каждый – часть другого. Как, если только не отличаешься чудовищной нечувствительностью, можно вынести ампутацию этой части самого себя? Легация, делал я вывод, эмоционально ненормальна. Я почти дошел до того, что начал ее жалеть.
Однажды в утреннем полусне мне пришла на ум странная фраза: «Умирает сама». В то же время я ясно видел, что душу подушкой что-то живое, и пытался убедить себя в том, что так метафорически умирает наша любовь. Но неизвестный голос, подсказавший мне эту фразу, ошибался. Она умирала не сама. Это была работа, в том смысле, в каком когда-то называли «работой» родовые потуги, или в каком Фрейд говорит о «работе траура» – последняя заключается в том, что человек одно за другим прокручивает в голове все воспоминания, с которыми связано любимое существо, чтобы отделить его от них, как отделяют переводную картинку от тонкой бумаги, к которой она прикреплена, для этого надо смочить и прогладить, сильно нажимая пальцем или лезвием ножа на каждый квадратный миллиметр поверхности.
Работа забвения, с которой я столкнулся теперь, была и безобиднее, и страшнее. Безобиднее, потому что не было настоящего траура: Легация была жива, что-то могло все же возобновиться между нами, хотя это и представлялось все менее вероятным. Но и страшнее, потому что простая возможность этого возобновления – которое, может быть, зависело только от новой внезапной встречи или телефонного звонка – каждую минуту рисковала поставить все под вопрос и мешала настоящему завершению и даже настоящему забыванию. (Вот почему – чтобы, по крайней мере, избежать этих «дурных» сюрпризов – те больные любовью, которые действительно хотят выздороветь, уезжают, не оставляя адреса, в далекие и долгие путешествия, которые могут и правда уравнять их работу с работой траура, обеспечивая себе таким образом спокойный итог, как бы ни был долог и болезнен путь.)
Но на самом деле ее образ был переводной картинкой, которая не отклеивалась. Я не мог оторвать ее от себя, как не может человек оторвать от груди припарку, смоченную кипящей водой: с ней вместе отойдет и кожа. Каждый день я просыпался с вопросом: как прожить еще один день вдали от нее, чтобы не слишком страдать? Чем отвлечься – серьезным или незначительным занятием? Все, что зависело от меня, совершенно не помогало, кроме разве что забытья или сна. Мне следовало скорее полагаться на случай – телефонные звонки, срочные работы, приглашения. Я принимал с особой готовностью, хотя и вяло, почти пассивно, любые возможности получить удовольствие, о которых я запретил бы себе даже подумать в те времена, когда желал быть ей верным. Скорее из мести, чем из тактического расчета (исцелиться от Харибды со Сциллой!), я предавался этим удовольствиям с неким покорным рвением, свойственным человеку, который только что потерпел в своей любовной или профессиональной жизни большой провал и который решает, для компенсации, сделать себе подарок или позволить себе небольшую прихоть (приступ гедонизма – бессовестного, безудержного, который принимает у наименее тонких натур пищевые формы – обожраться пирожными, напиться), или, еще лучше, позволить себе все то, что обычно запрещено по рекомендации врача или из самодисциплины. Для меня эту тенденцию лучше всего иллюстрировала прошедшая несколько лет назад реклама одной из марок трикотажа, которая свидетельствовала с юмором о новой свободе нравов: приунывшая и одновременно хохочущая телка – ничего себе радуга эмоций – заявляет с остатками недоверия и даже с каким-то восхищением: «У моего парня есть парень!» – и сразу же, в качестве компенсации: «Куплю-ка себе "Родье"!»
Так вот, я несколько раз переспал с бывшими подружками. Но в те самые минуты, когда я думал, что нахожусь дальше всего от нее, в дороге к забвению, она возвращалась ко мне, как во сне, и ее присутствие было ощутимым, как никогда. Особенно однажды. М., юной американке с восхитительными веснушками (рыжими до фиолетовости и разбрызганными по всему телу, как звездная мокрота), почти удалось меня обмануть. Ее манера целоваться напоминала мне Летицию: то ее язык был ребячливым, шаловливым, как будто пришел с визитом вежливости в домик к зубам, то врывался истерично и грубо, напоминая о монгольском нашествии. А еще она закидывала ноги мне на спину, совсем как Летиция. И все в ней было под стать Лэ – живое, порывистое, несравненное. На несколько минут мне даже показалось, что хорошо бы умереть вот так, в пароксизме слияния; слезы тихо полились у меня из глаз, М. стала Л… Но пятнистая прелестница двигалась слишком сильно, слишком жадно, слишком не хватало ей этой вдохновенной точности, этой грации гадалки таро, с па фламенко и выпадами тореадора – всего, что было свойственно Летиции в ее любовной дикости – итак, прощай, иллюзия, прощай, смерть!








