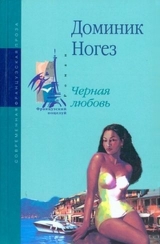
Текст книги "Черная любовь"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
XI
Самое ужасное ее исчезновение, самое безрассудное и самое парадоксальное, случилось во время путешествия в Японию, нашего первого путешествия за границу. Мы готовились к нему с таким волнением, особенно я. Я проводил Легацию в мэрию шестого квартала, когда она должна была забрать свой паспорт – ей не хотелось идти туда одной. К счастью, стоящая перед нами в очереди молодая девушка с Мартиники, разбитная и острая на язык, развлекла нас забавными рассказами и экзотичными подробностями: Лэ была очарована, они подружились.
Само путешествие началось плохо: рейс задержали из-за грозы. Потом в первые три четверти часа полета мы попали в такую тряску, в какой я не бывал никогда в жизни (разве что, может быть, в испанском самолетике над Пиренеями, когда мы летели из Сен-Себастьена в Барселону, я был тогда подростком). А сейчас мы сидели в «Боинге-747». Бесчинства бури выражались не в простой тряске и даже не в резких коротких спусках, как на ярмарочных американских горках, – это была сильная и равномерная бортовая качка. Ну и перетрусили же мы! Моя юная спутница, насколько я знаю, впервые летела самолетом. Что за боевое крещение! Тогда требовалось более двенадцати часов, чтобы долететь до Токио, даже через Сибирь. По прибытии к подруге моей было не подступиться. Она побледнела и замкнулась в молчании, которого не нарушила, даже когда таможенник спросил ее в аэропорту Нарита: «Синкоку суру моно ва ари-масенка?» Что значит – я еще припоминаю несколько фраз! – «У вас есть, что предъявить?» Неужели от усталости так побледнела ее кожа мулатки? Он принял ее за японку!
Но на этом наши мучения не кончились. Рейсовый автобус, который ходит от Нарита до терминала Хакосаки, как и все легковые и грузовые автомобили, которые днем или ночью пытаются въехать в Токио или выехать оттуда, застрял в гигантской пробке. Чтобы проехать семьдесят километров, нам понадобилось четыре часа!
Когда мы ехали в такси в гостиницу, моя спутница, обнаруживая зажигающиеся и мигающие в сумерках вывески или красные огоньки на крышах небоскребов, похожие на сигналы, адресованные инопланетянам, не разжимая еще губ, по крайней мере показала, к счастью, растущий интерес и даже радость. Я не терял надежду все же доставить тот восторг, который рассчитывал ей подарить. Вдруг я решил – пойти с козыря, и вместо хорошей, но не более того, гостиницы рядом с императорским парком, которую первоначально указал шоферу, я заставил его свернуть в квартал Синдзуку к Кейо Плаза, одному из самых роскошных отелей Токио. Небо услышало мои молитвы – там еще оставалась прекрасная свободная спальня, только на одну ночь. Было около восьми часов вечера по токийскому времени, мы давно не спали, было бы разумно лечь, чтобы наверстать разницу во времени, но после душа, который моя спутница приняла, насвистывая, она, не говоря ни слова, начала облачаться в самый свой изысканный туалет, и я понял, что придется выйти в свет. Я пошел на это охотно. Я привел ее к вокзалу Синдзуку, где в этот час толкается самая плотная и самая деловитая в мире толпа. Она, казалось, была в восторге от всех этих людей – мужчин в галстуках, подростков в джинсах и кроссовках, молодых женщин в светлых платьях, которые почти бегом пересекали во всех направлениях это огромное подземное пространство, не сталкиваясь друг с другом. И она приняла с улыбкой и нежным пожатием руки мое предложение пройти к «Люмину», гипер-маркету, нафаршированному маленькими ресторанчиками, и что-нибудь выпить. На первом этаже мы нашли кафе во французском стиле, «Кафе де Пари». Только мы успели устроиться – сюрприз: официантка, машинально ответившая с ужасным акцентом «Касикомари мастита!» (Одну минутку!) на мой заказ, была не кто иная, как девушка с Мартиники, встреченная накануне. Оживленный обмен любезностями: моя ликующая подруга даже осмелилась произнести несколько слов по-креольски. Она почти не знала этот язык – тогда она еще ни разу не была на Антильских островах, и поэтому я не мог не воспринять эту лингвистическую инициативу как способ отстранить меня от разговора. Я все же постарался сохранить улыбку на лице. В действительности я страдал, мне совсем не нравилось, что она вот так вошла в чужую орбиту – ведь я так давно мечтал быть в Японии ее единственным и внимательным гидом. Особенно неприятно мне было услышать, как девушка предложила ей встретиться после работы, часов в десять, и Лэ согласилась с радостью, причем и та, и другая не обращали на меня ни малейшего внимания.
По возвращении молчал я, а она, наоборот, высказывала замечания о сем короткими фразами, прилагая слишком много усилий, чтобы имитировать безразличие, – ей не хотелось, чтобы я почувствовал горячее ликование, которое за ними скрывалось. С изощренным садизмом человека, уверенного в своей победе, она забавлялась тем, что явно подавляла свое веселье, и это доводило меня до предельной ярости. К счастью, усталость вскоре закрыла для меня все умиротворяющим туманом. Я предполагал, что усталость одолеет и мою подругу и это помешает ей покинуть гостиничный номер. Сладкие иллюзии! Посмотрев краем глаза телевизор, переключая один за другим все имеющиеся двенадцать каналов – один из которых ретранслировал французскую программу, – я уже десять минут блаженствовал в успокоительном тепле эвкалиптовой ванны, когда услышал, как она крикнула мне через дверь: «Скорее там, мы опоздаем!» Да, не скоро же мы заснем; но я хотя бы имел удовольствие узнать, что и меня возьмут на прогулку. Я сразу вырвался из ласковых объятий воды и стал вытираться. Летиция подошла к большому зеркалу ванной, чтобы уложить волосы. В честь этого путешествия она сделала новую прическу: по-африкански разделила свою гриву на бесчисленные косички, как уже делала иногда раньше, но добавила к каждой искусственную светло-каштановую прядку. Это сочетание черного и русого делало ее похожей на венецианку. Не знаю, что на меня нашло – усталость, внезапное желание подшутить, подурачиться, вернуться к спонтанному согласию любовников, которого я был лишен из-за мрачного настроения, владевшего ею с самого отъезда из Парижа – как бы там ни было, я вдруг дернул за одну из этих фальшивых прядок, которая непрочно держалась на косичке и осталась у меня в руке. Что я натворил! Я получил одно из тех коротких оскорблений, которые причиняют боль не столько своим содержанием, сколько отчаянием и ненавистью, вдруг прорывающимися в их тоне. В свою очередь раздраженный, я выскочил из ванной, не преминув хлопнуть дверью, потом присел на край кровати в позе роденовского мыслителя и его же костюме, а затем, после минуты раздумий, улегся с книгой, таким образом ясно показывая свое намерение не покидать гостиницу. Я думал, что без меня Летиция не сможет найти место встречи, и готовился хранить в ответ на возможные вопросы самое упрямое молчание – и вдруг она прошла через комнату буркнув что-то вроде: «Я скажу подружке, что мы отменили встречу. Я тоже устала», и вышла, не давая других объяснений.
Я долго пытался заснуть. Потом выскочил из постели, как чертик на пружинке, решив превратить это затруднение в преимущество. «Я встречусь с ними, – решил – я, – я буду молод, внимателен, весел, настоящий заводила, она будет гордиться мной». Я побрился, переоделся и побежал в «Люмин».
Когда я пришел, антильская девушка была одна; ее смена еще не закончилась. «Она только что ушла с каким-то господином», – объявила она мне. Я попытался улыбнуться: «Она время не теряет!» «Они пошли туда, – добавила девушка. – Наверно, решили выпить по стаканчику». Так как девушка указала в направлении многолюдных освещенных улиц ночного Синдзуку – это было все равно что пытаться отыскать иголку в стогу, для очистки совести я походил туда-сюда, заранее смирившись с тем, что ничего не найду, и вернулся.
Утомленный до крайности, я лег. Но от малейшего шороха в коридоре я просыпался и каждую минуту ожидал, что она вернется, уже составляя в уме речь, то «благородную», то саркастическую, то просто гневную, вдохновленную ее поведением. Ведь я понимал, что она не могла заблудиться: она сама нашла кафе, где была назначена встреча, а значит, уже трижды проделала этот путь, и к тому же Кейо Плаза – одна из самых известных гостиниц Токио, стоит ей просто сказать это название, как ей без труда покажут дорогу.
Как описать терзания этой первой японской ночи – ночи без Петиции, – часы бессонницы, бешенства, кажется, даже слез, всепобеждающую жестокую усталость, внезапные пробуждения, кошмары?
К восьми часам, измотанный до предела, я принял долгую ванну и вышел на двадцать минут, чтобы позавтракать в одном из кафе отеля. Когда я вернулся, каково же было мое удивление – обнаружить под дверью комнаты записку от нее! Как случилось, что мы не встретились в коридорах или в лифте? Почему у нее не хватило терпения меня дождаться? Записка была составлена так, чтобы именно я почувствовал себя виновным (я прекрасно знал ее тактику – всегда атаковать, когда она должна была бы защищаться, и перекладывать свою вину на других): «Не знаю, куда ты исчез, я тебя ждала, зайду еще в 14 ч., Лэ». Это я «исчез»! Я не мог подавить нервный смешок бессилия и даже восхищения такой наглостью. Она напомнила мне одного бандита, который однажды вечером вдруг напал на меня прямо на Третьей Авеню: на минуту он был озадачен тем, что его удар не оглушил меня, что я смог даже встать и побежать к такси – но он сразу побежал за мной, крича с величайшей уверенностью: "Give me back my money! Give me back my money!» («Отдай мои деньги!»), как будто это я был бандитом, а он жертвой.
Я был вне себя. Как Лэ могла забыть, что мы сняли комнату только на одну ночь, что надо было освободить ее в одиннадцать часов, что мы пока даже не представляли, где остановимся потом. Вместо того чтобы снова прилечь ненадолго, что я собирался сделать и в чем весьма нуждался, мне пришлось пуститься на поиски другого жилья поблизости. В связи с праздниками все гостиницы были переполнены. Я все же нашел in extremis комнатку на двадцатом этаже Вашингтон-отеля, совсем нового и сверкающего на солнце, как красивый белый пакетбот. В одиннадцать часов, уплатив по счету в Кейо Плазе, я сам перенес наш багаж. Устроившись в «пакетботе» (где, кстати, довольно маленькие окошки напоминали иллюминаторы), окинув долгим взглядом крыши и небоскребы, на которые с этой высоты открывался великолепный вид, я прилег на минуту – это было тем более естественно, что кровать занимала две трети комнаты и нельзя было, так сказать, ее избежать. И вот какая ужасная вещь со мной произошла: я сразу погрузился в глубокий сон, от которого пробудился – внезапно – только к 14:30. Я побежал в Кейо Плаза. Ее не было – или она уже ушла, – хотя никто, ни горничные, ни портье, не мог мне сказать, заходила она или нет. Во всяком случае, она не оставила записки ни в номере, ни внизу. Последний шанс встречи был упущен. Я бросился в «Кафе де Пари»: девушки с Мартиники там не было. Все связи между нами порвались. Мне представилось, что Лэ, как несчастный космонавт из «Космической одиссеи-2001» в тот момент, когда злобный робот перерезает последний кабель, соединяющий его – космонавта – с кораблем, с головокружительной скоростью навсегда исчезает в бесконечной ночи.
Зря я все это рассказываю. К горлу мне подступают в порядке или скорее в беспорядке их появления противоречивые чувства и импульсы, которые мучительно завладели мной на несколько дней, – тогда. Сначала впечатление огромного нелепого провала, во-первых, потому что эта поездка обошлась весьма дорого, и, так как дату возвращения изменить было нельзя, мне предстояло убить три недели – три недели без Лэ, в Японии, которую я мечтал открыть для себя с ней, ее глазами, и которая, когда она исчезла, уже ничем меня не привлекала. Эта поездка была – не без колебаний прибегаю к настолько помпезному выражению – своего рода эксперимент, последний шанс спасения нашей пары. Позади был довольно мрачный период, полный ссор и побегов (прежде всего ее побегов, но и сам я специально исчез на несколько дней, чтобы наказать ее, обеспокоить – должен признаться, с весьма относительным успехом). Уехать в Японию, подальше от других ее любовников, действительных или предполагаемых, в страну, в которой она никого не знала, – это значило, что теперь все шансы на моей стороне и наша история начинается сначала. Кроме того, ее полное незнание страны – она разве что отличала Японию от Китая – и иностранных языков: она была полностью в моей власти, в нежной зависимости ребенка или ученицы, которая столь способствует сближению. И это путешествие, которое должно было стать чередой счастливых моментов для нас обоих, а для нее хранилищем восхищенных воспоминаний, где я навсегда останусь – я один! – как на фотографиях, которые она обязательно сделает, – это путешествие примирения и завоевания начиналось как путешествие вдовца, с грусти и одиночества. Отсюда досада, которая меня регулярно охватывала с силой, равной моему бессилию: я разбивал или пытался разбить все пепельницы в номере – это практически единственные непривинченные предметы в японских гостиницах, спроектированных в расчете на землетрясение.
Немного позднее, когда я увиделся с мартиниканской официанткой и та сообщила мне, похоже не думая о боли, которую может мне причинить, что Летиция «сейчас с японцем, который говорит по-французски», эпизодическим клиентом кафе, «он и за мной несколько раз пытался приударить», я почувствовал приступ холодного бешенства, я представил себе – воображая сцену ее возвращения, увы! все более и более маловероятного, – что я плюну ей в лицо, дам пощечину, повалю на землю и изобью. Мне даже пришлось взяться за блокнот, в котором я в самые невыносимые моменты начинал яростно царапать строчки, и вынести ей смертный приговор – реакция скорее литературная, чем действительно продуманная, мне было бы невыносимо трудно перейти к действию, я в жизни и мухи не обидел.
И все же мои чувства не были столь жестоки. Я забыл о главном – о нежности. Смешанные боль и нежность – как это выразить? Нежная боль? Страдание глухое и благодетельное, колющая боль, как при стенокардии, долгие минуты, когда сознание погружается в чуткий сон между эйфорией и прострацией, когда злость постепенно уступает место огромной нежности, мечтам, в которых все – свершается доверчиво и пылко, и в невыразимости бесконечной любви. В такие минуты я был готов все простить, даже умолять на коленях.
Уже не помню, что было потом. Кажется, девушка с Мартиники исчезла в свою очередь. Да, точно – она вернулась в Париж с французом, который в нее влюбился. К счастью, оставалось «Кафе де Пари». На всякий случай я оставил кассирше, которая раза два видела Летицию, номер телефона гостиницы. Я часто приходил туда, и однажды она сказала. – «Ну, наконец, она зашла, я дала ей ваш номер». Я бегом вернулся к себе в комнату и целый день ждал ее звонка. Но нет, она не позвонила, ни тогда, ни в следующие дни. Позднее я ухватился за деталь, которую вскользь упомянула девушка с Мартиники в последний раз, когда я ее видел: «По-моему, ее друг – архитектор, и живет он на Ётсуя Сансоме».
Я попросил написать мне три иероглифа слова кенчикука – «архитектор» – и гулял от дома к дому вокруг перекрестка Синдзуку Дори и Гаен Хигаси Дори. Никакого результата, кроме стыда, что меня примут за шпиона-неудачника. Я ничего не понимал – она оставила мне все свои вещи, свой паспорт, свой билет на самолет: придется ей проявиться, если она хочет вернуться в Париж! Но может быть, она не хотела возвращаться, может быть, она нашла свое счастье в Японии…
Наконец она позвонила. Я уже не ждал этого. За три дня до отъезда! Очень короткий разговор, ни слова извинений или объяснений. Она сказала: «Никуда не уходи, я сейчас приду». Я отвечал спокойно, как будто мы расстались только вчера». Наверное, от удивления. Я столько часов и дней провел, подготавливая каждое слово, которое скажу, если она мне позвонит, и вот она позвонила, а я только и нашел сказать, что: «Да, здравствуй, я по такому-то адресу, комната номер такой-то». Она все же добавила: «Я все объясню».
Не помню уже, что она мне рассказала, объяснила ли она мне что-то вообще. Помню только, что дрожал, ожидая ее, возможно, от опасения (а вдруг она передумает! Вдруг она не придет!), но главное от радости. И… не знаю, могу ли я это сказать… у меня стояло. У меня стояло как никогда, только от мысли, что скоро я снова смогу прижать к себе это тело… Это тело, молодое и горячее, так сильно любимое. И я уже не помню, как именно все произошло, что мы сказали и не сказали друг другу. Помню только это безумное желание, и еще слезы. Я заплакал и она тоже, кажется. Мы занимались любовью и плакали. Вот что остается у меня в памяти: потрясающая эрекция и слезы.
Летиция, любимая моя Лэ – потерянная, обретенная и снова потерянная…
XII
Все же были и счастливые дни. Хорошее ведь быстро забывается. Любовное наслаждение легко, и легкость его улетает. Был день, когда она сказала мне: «Ты не такой, как все», и дни, когда она говорила мне, как будто бы сравнивала в уме с чередой былых или нынешних соперников: «Как мне хорошо с тобой!» Был день, когда, чтобы отметить шестой месяц нашей связи, она подарила мне «Опыты» Монтеня (у меня уже было три экземпляра, но на этот раз речь шла об издании Кост 1725 года, она заняла денег у матери). Была та знойная августовская ночь, когда она разбудила меня, умоляя сейчас же пойти с ней на мост Искусств, чтобы заняться любовью под звездами, и мы почти так и поступили. Был тот день, когда она подвернула ногу в Винсенском лесу, и мы пробежали метров пятьсот по тропе, заливаясь безумным хохотом; она уцепилась за мою шею, хромая на одну ногу, а я для смеха хромал на другую. Был двенадцатый удар часов в полночь на Новый год – она увенчала меня омелой, когда я уже ее раздевал. Были выходные в Довиле… Была эта поездка в Ним, когда к пяти часам, после сиесты, у подножья лестницы собора Святой Троицы на Холме, рядом с цветочным прилавком, низким и взволнованным голосом она призналась мне в любви, объявив, что судьбы наши связаны до самой смерти. Была ночь в Болонье, когда мы только что приехали на машине, устали и нам хотелось пить, – мы пили ламбруско, игристое красное вино Модены, в ресторане «Диана», виа Индипенденца, и она была серьезна и немного бледна, в спальне простыни пахли душистой геранью, и на ее лице больше не было той улыбки, которая всегда, казалось, судит меня; как это редко бывало, я смог с наслаждением оставить всякую бдительность, эту сковывающую заботу о том, что она подумает, один из немногих раз, когда я подумал «мы», просто мы, только мы, единое существо, и нечего было думать, нечего чувствовать, кроме этого, наша кожа, тело, лицо – едино, мы не были больше ни в настоящем, ни в прошлом, мы плыли, возможно, в будущем, легкие, умиротворенные – над временем.
Над временем, но не вне его, как мне часто казалось, когда я был с ней. Я хочу рассказать об этой потери чувства настоящего момента, которую я так болезненно ощущал, когда мы занимались любовью. Как будто это счастье было нереально и не самодостаточно. Я так желал ее, рисовал себе в воображении с таким жаром и иногда так долго, что, когда это наконец происходило, это казалось не более реальным, чем предшествующие лихорадочные предчувствия. К этому прибавлялось сознание хрупкости и эфемерности моего удовольствия, боязнь следующей минуты, этого столь близкого момента, когда счастье пройдет. Как зараза, в меня проникало болезненное чувство, что это наслаждение только что закончилось, что оно уже состоялось (чтобы выразить это, надо бы изобрести новое грамматическое наклонение, помесь изъявительного и условного, что-то подобное нереальному наклонению близкого будущего – время «это прошло» в самом сердце времени «это сейчас будет»).
В результате у меня складывалось впечатление, что я отделяюсь от самого себя, плыву над нашими двумя телами, сплетенными в объятии, занятыми выверенными, гимнастически точными движениями, и наблюдаю их из другого времени, одновременно до и после, как фильм, который смотрел уже раз десять и конец которого известен. И это было горько, как все, что напоминает о смерти.
Вот почему, как бы ни была совершенна наша эротическая совместимость, как бы ни были разнообразны наши позы и как бы ни восхищали неожиданности, которые мы открывали друг в друге (прежде всего то, что мы не ведали ни усталости, ни монотонности, и каждая ласка, пусть она и была похожа на предыдущие – ведь наши тела знали друг друга до последней мелочи, как песня, которая кажется еще прекраснее, когда слышишь ее в сотый или тысячный раз, по-прежнему сохраняла свежесть первого влечения), мое счастье обретало реальные черты лишь потом, и не только в воспоминаниях много времени спустя, но уже и в последующие минуты или часы – в превращении, происходящем во мне и вокруг меня.
То, что происходило тогда, – это медленное распространение наслаждения по моим венам, это его излучение в каждую частицу окружающего меня мира; им, казалось, были проникнуты цвет неба, свет на улице, теплота воздуха, лица идущих навстречу людей, слова, которые я слышал. Долгожданное настоящее возвращалось – это было воплощение моего счастья, это было его единственное подлинное доказательство, потому что призрачный момент объятий еще ни о чем не говорил. И что это было за великолепное доказательство! Любовь, отданная и полученная в плотских объятиях, излучает особый свет. Она как то пиршество, когда «открывались все сердца, лились все вина», с которым Рембо сравнивает свое детство. Она освобождает сердце и грудь, она заставляет забыть о коже, отделяющей нас от вещей, она делает нас почти нематериальными, она приводит нас в прямое соприкосновение с миром, более того – в самое сердце мира. «Как чист тот воздух, что я вдыхаю!..» – часто хотелось запеть мне тогда, как пел берлиозовский Фауст после первой ночи с Маргаритой. Любовь открывает нас миру, но прежде всего другим людям. Я никогда не был так мягок, как после наших объятий, я готов был все простить, все принять – от кого угодно. Это время галантно пропускать вперед проходящих мимо прекрасных и не очень красивых женщин. Это время улыбки и умиротворенной нежности – как будто ангел вселился ненадолго в наше тело. Если мне и довелось узнать, что такое святость или по крайней мере что такое желание быть святым – я узнал это тогда.
И напротив, потеря чувства настоящего, которая мешала мне, несмотря ни на что, полностью отдаться, поставить на карту счастья все в ту сотую долю секунды, когда я чувствовал его, – возможно, помешала мне слишком страдать впоследствии. Ни один момент для меня на самом деле не настоящий. На нем всегда лежит какая-то тень. Но верно и обратное – прошлое никогда не бывает полностью потеряно для меня. Слишком хорошо мне удается, оживляя его самостоятельно или предоставляя это случайности, опять превратить его в настоящее. Не исключено, что одно объясняет другое: я никогда не проживал настоящий момент полностью из бережливости, чтобы оставить несколько капель, немного сока, который можно извлечь позже. Не оттого ли, что я уже помышлял о будущих радостях воспоминания, с Лэ я принял все страдания трудной страсти? Таким образом я готовился к любви на бис – отфильтрованной, избавленной от примесей и превратностей, к любви, которая нежнее и прекраснее, чем настоящая… (Жестокая иллюзия, не перестаю в этом убеждаться.)
Что касается времени как такового, его густоты и течения, увы, я мало что могу об этом сказать. По отношению друг к другу мы чаще всего пребывали в надежде, в ожидании, в предчувствии, в бегстве, в сожалении – а ведь все это способы отказа от бега времени – или, как в Болонье, в экстазе, который бег времени отрицает. А вот подчиняться ему, поселиться в нем, просто жить в нем – это очень редко с нами случалось. Самое частое в любовных мечтах и, в принципе, наяву – сладость повседневности, тишь да гладь дней, когда не происходит ничего примечательного, – все, что и эпикурейцы, и сентименталисты – Гораций, Марциал, Жан-Жак Руссо – описывали как скромную и счастливую жизнь: именно этого, как ни парадоксально, нам больше всего не хватало. Я припоминаю разве что два-три долгих вечера, два-три уик-энда, которые могли бы соответствовать этому поучительному образу. Я вижу ее в те редкие часы, когда она соглашалась ничего не делать, а только читать, устроившись нагишом в шезлонге на террасе в Биаррице. Она держала над головой для защиты от солнца книгу Колетт и читала вслух (плохо, слишком быстро) понравившиеся фразы. Или читала газету – новости, смешные объявления. Я помню, как она дремала в моих объятиях перед телевизором, на экране которого сменяли друг друга кровожадные герои документального фильма о животных: вначале она реагировала – вскрикивала, таращила глаза, притворно ужасалась и нервно посмеивалась, когда лев разрывал живую антилопу. Потом успокаивалась, когда на экране появлялись крокодилы, скользящие, как подводные лодки, и мирно засыпала, когда наступало время бабочек и стрекоз.
Но мы хотя бы избежали обменов междометиями, характерных для тех, кому особо нечего сказать друг другу. С ней было все или ничего, кукиш с маслом или воплощение самых буйных фантазий – даже музыкальный речитатив в качестве беседы за обедом, как в «Девушках из Рошфора». Если она была в хорошем настроении – и именно это в наших отношениях больше всего напоминало счастье, – ее слова, даже когда она просила передать соль или принести хлеба, выходили за рамки предсказуемого: это были выпады, фантазии, причуды, в будние дни отличающиеся легкостью праздничных реплик. Между двумя глотками или за мытьем посуды она изрекала глубокие истины с видом игры, никогда полностью не соответствуя своим словам, оставляя в них нечто неуловимое, некую игру и воздушность, так что слова касались излагаемого ими, как ласковая рука касается кожи: наверное, так беседуют в раю.








