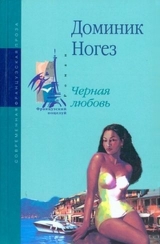
Текст книги "Черная любовь"
Автор книги: Доминик Ногез
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Доминик Ногез
Черная любовь
Я […] всю жизнь не мог даже представить себе иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать.
Ф. М. Достоевский. Записки из подполья
I
Сегодня вечером она сказала мне что-то столь бессердечное и свидетельствующее о таком хладнокровном намерении причинить боль, что, как будто удивившись собственной жестокости, замолчала, не закончив фразы. Тогда, после первых секунд недоверия, а потом боли, я взял ее лицо в ладони и пристально вгляделся в него. Она даже не моргнула и молча выдержала мой взгляд. Никогда еще я не смотрел в ее глаза так внимательно, так долго, так жадно. Они были темно-карие, и радужка по цвету приближалась к черноте зрачка. Я не могу написать, что заглянул в самую глубину ее глаз, потому что у этих глаз не было глубины. Лишь черная, безнадежно непроницаемая поверхность – нечеловеческие глаза, глаза хищной птицы или рыси, холодные, как мрамор или метеорит, глаза, которые смотрели на меня, но меня не видели, которые не любили меня, которые никогда не могли полюбить меня, которые не любили и никогда не полюбят никого, глаза из другого мира. И я сказал себе, когда пелена слез начала туманить мой взор и скрывать от меня их ужасный блеск, что от этих глаз мне суждено принять многие муки.
Были еще ее зубы, их чудесная белизна и прелестный маленький промежуток, между передними резцами. Однажды она, заигравшись, укусила мое запястье, и на коже остались довольно глубокие следы, я показал их с обиженным видом, когда в Бальзаре мы ужинали с друзьями после возобновления в театре Шатле пьесы «Дитя и заклятья».
Был еще ее рот, ее кожа, ее груди.
Была ее пизда, о которой я расскажу ниже.
II
Сначала она была просто белым силуэтом с копной темных кудрей, в сумраке аллеи, ведущей к казино, в Биаррице, одним июньским вечером. Я сидел на террасе кафе Гранд-пляжа. Как только компьютер, расшифровывающий внутри нас зрительные данные, чтобы определить их соответствие нашим внутренним моделям и в случае соответствия дать желанию сигнал о том, что оно может начать вырабатывать свой яд, не успел подать во мне сигнал тревоги (кровь сильнее забилась в сердце и висках), как она исчезла. Дело в том, что я промедлил и не последовал за ней: мне пришлось дождаться официанта, чтобы заплатить. Наконец я поднялся, быстро проложил себе дорогу среди гуляющих, довольно многочисленных в этот вечер, в том направлении, куда шла она. Я даже пробежался за какой-то уже поднимавшейся к казино «Бельвю» женщиной в белом, которую я принял за нее (но нет, это была довольно зрелых лет англичанка). Я дошел до самой площади Сент-Эжени, но напрасно: гуляющих все меньше, продавцы мороженого закрывают лавочки, семьи возвращаются домой, мне ее не найти.
Но к пляжу я вернулся без особой досады. Она была лишь силуэтом, мне не удалось различить ее черты, я едва разглядел, что она молода и темнокожа: это почти ничто для весьма легко возбудимого молодого холостяка, каким я был в тот вечер, – ничто не отличало ее от другой, возможной и заменимой, добычи. Только если бы я нагнал ее и незаметно вволю понаблюдал за ней, мог бы действительно включиться механизм желания, и даже действие ядовитых чар красоты. Ведь за женщиной можно идти по крайней мере по двум причинам. Потому что ты находишься в состоянии сексуальной неудовлетворенности и ищешь, в этом случае сгодится все, что хоть мало-мальски вписывается в рамки наших интимных стандартов, и в этой великой охоте гончая может двадцать раз за вечер сменить зайца. Или же красота подобна удару молнии: ты ни о чем не подозревал, она сразила тебя на ходу. Ты был повержен ею, как Саул, как Павел, пустился ты в путь; ведь за видением следуют, как сомнамбула или зомби. В тот вечер я был скорее гончей, чем зомби. Конечно, сыграл свою роль алкоголь, и настал момент признаться, что я дошел, по меньшей мере, до третьего бокала кока-колы с ромом, когда прекрасное видение вошло в мою жизнь.
На аллее Гранд-пляж было еще достаточно светло, а на свету хватало прекрасных лиц и желанных тел, чтобы занять мое внимание. Одно из них, кстати, направилось ко мне – загорелая дотемна блондинка, – и когда она поравнялась со мной, я уже готов был пойти за ней, но впереди, в полусотне метров от меня, я увидел, как с правой стороны, выйдя, вероятно, с площадки для боулинга, показалась моя девушка в белом, до сих пор одна, и направилась в направлении Палас-отеля. В тот момент – об этом я буду помнить всю жизнь – меня охватило жестокое колебание. С одной стороны, совсем рядом, в зоне мгновенной досягаемости – обольстительная блондинка; я разглядел черты ее лица, они мне понравились; с другой – там, вдали, безликая незнакомка, в пользу которой свидетельствовали только ее фигура и ее тайна – то есть если выразить это менее романтично, преимущество, которое придавало ей более раннее появление и мое недавнее тщетное преследование. И правда, на секунду я застыл, словно парализованный (что за сладкий паралич). Я был Парис с яблоком, Геракл на распутье и даже – что менее лестно, но более справедливо – Буриданов осел. Однако я сделал выбор. Уж лучше бы я в ту секунду подвернул лодыжку. Подумать только, от чего может зависеть судьба! Эти секунды колебания, доводящие до удушья, прикрывают хотя бы иллюзией свободного выбора жестокие капризы судьбы. Итак, я выбрал предшествие и тайну и, к величайшему моему несчастью (но и к величайшему счастью тоже, итог пока не подведен) – я последовал за белой тенью.
Случилось странное: когда мы поравнялись с Паласом, там, где аллея сужалась в узкую набережную, змеящуюся и просачивающуюся сквозь короткие туннели, проделанные в скале, до самого пляжа Мира-мар, тень снова рассеялась. Хотя ее было хорошо видно в поредевшей теперь толпе, хотя я держал ее не более чем в сорока метрах от себя на вытянутом взгляде (как говорят, на расстоянии вытянутой руки), но есть место за бассейном отеля, где дорога резко поворачивает. И вот, за поворотом я не увидел больше никого. Я почти бегом кинулся дальше, до очаровательно пологого подъема, который называют Венель Волн, – напрасно. Мне встретились лишь несколько гуляющих. Я никогда особо не верил в сверхъестественное, она даже издали не показалась мне ни феей, ни привидением: она казалась, и именно это привлекало меня к ее ускользающему облику, слишком живой. Вот почему мне вдруг пришло в голову искать ее в том направлении, куда человек, следующий по ее пути, мог бы свернуть: на пляже.
Пляж, разумеется, был пуст в такой час, насколько можно было судить об этом в сумерках, и кроме того, сыграло свою роль усиливающееся волнение. Я снял мокасины и пошел вперед. Так как ее белый наряд сливался с широкими оборками пены, я не сразу разглядел ее. Она подошла как можно ближе к полосе прибоя и стояла неподвижно, вглядываясь в волны. Босая, она чуть отпрыгивала назад с большой грацией, когда волны разливались слишком сильно и водяные кружева захлестывали ее лодыжки.
Я долго оставался на почтительном расстоянии. Решившись приблизиться к ней, я оказался в десятке метров слева от нее. Я смотрел прямо перед собой, чтобы она могла меня увидеть, но ей не показалось, что я пришел сюда ради нее. Довольно долго я не знал, какой ход действий предпочесть: подойти? отдалиться? Я не был даже уверен, что она меня заметила. Но я – потому ли, что в этот вечер было полнолуние (могу проверить это по старому календарю: я не забыл, в какой день это случилось – 14 июня 1984 года), или скорее из-за смешанного действия моего воображения, алкоголя и желания? – я увидел – или мне показалось, что увидел, – ее профиль. Когда она наконец оторвала свой взгляд от волн и вернулась на набережную, у меня была уверенность, что она молода, довольно красива, что она негритянка или мулатка или – еще точнее – бразильянка.
Сколько времени после этого я шел за ней? Я шел в пяти метрах от нее. Я был убежден, что она меня не заметила ни на пляже, ни на аллее. Она, казалось, не видела никого, ни одну из страдающих бессонницей старушек, еще сидящих на скамейках, никого из молодых людей, слоняющихся группами перед казино. Она шла быстро, и я не сказал бы, что она спешит к некоей цели, скорее ее оживляло тайное ликование.
Наконец на пустынной улице Моно, где самый тихий звук шагов разносился эхом, она уже не могла не обращать на меня внимания. Пришлось сделать вид, что я сам по себе: я решил обогнать ее, как будто быстрым шагом возвращаюсь к себе домой – так мы дошли до площади Клемансо и оказались перед маленькой табачной лавкой, примыкающей к Роялти, а потом я повернулся к ней, как будто вдруг узнал ее, и заговорил с ней.
Как я мог написать, что это я шел за ней и обратился к ней? Разве не верно также и обратное? Ведь можно сопровождать и идя впереди. Она несомненно заметила меня с самого начала, с тех пор, когда ждала у кромки волн или даже раньше. Во всяком случае, задолго до развязки. Поднимаясь по улице Моно, когда я обогнал ее, я не обернулся и, обгоняя ее, едва рассмотрел лицо. Я продолжил путь, как безразличный гуляющий, и, влекомый своим порывом и своей легендой, дойдя до площади Клемансо, повернул направо. Меня охватило минутное колебание, я остановился, потом бросился по улочке, проходящей с обратной стороны Роялти. Только здесь, под покровом тени, я решился обернуться. Не успел я это сделать, как услышал ее: «Эй!» – очень ясный, очень уверенный голос: она, без стеснения присев на капот автомобиля, там, перед табачной лавкой, смотрела на меня спокойно и с улыбкой. Я медленно подошел к ней и произнес полуутвердительно, полувопросительно, чувствуя неуверенность под ее торжествующим взглядом: «Мы знакомы?» К моему удивлению, она не приняла вопрос за ритуальную формулу знакомства (которая лишь немногим богаче, чем «Который час?», так как позволяет дать больше ответов: «Не думаю», «Возможно», «Кто знает?», «Я не прочь познакомиться», «Еще нет, но сейчас познакомимся…»), она очень серьезно ответила, что это «весьма возможно», что «вероятно, я видел ее в одном из спектаклей». В ее ответе было много информации: ее профессия (актриса? акробатка? стриптизерша?), но также и несомненный выговор парижского предместья, который ставил под сомнение мою бразильскую гипотезу, и наконец это «весьма возможно» (вместо, например, «вполне» или «очень даже возможно»), произнесенное с легкой аффектацией, которая говорила о том, что она получала некое удовольствие от речи, и в то же время об очевидном желании говорить «красиво», то есть подняться вверх по социальной лестнице. Все это я сначала уловил довольно смутно, так как меня занимало ее лицо, великолепные мелкие черные кудри, глаза темно-карего цвета, горящие, я бы даже сказал, повелительные, ее губы метиски, более тонкие, чем губы негритянки, ее безупречные зубы с этим небольшим промежутком в середине верхнего ряда, который называют «счастливым», изысканная форма ее грудей, по размеру лишь немного превышающих те, что мы обычно называем «упругими», ее исключительно тонкая талия, ее красивые бедра – ноги ее не были видны мне, скрытые белыми брюками (тем лучше, ноги были наименее красивым в ней, в чем мне предстояло убедиться всего десять минут спустя). Стриптизерша? Нет, еще «лучше». Она участвовала в недвусмысленно порнографических «балетах» в знаменитом кабачке «Шамбр-д-Амур», «Синяя лошадь», куда сбегались по весне старые ходоки и молодые снобы со всего побережья («от Бордо до Бильбао», как говорилось в рекламе), Едва я успел сказать ей, что, конечно же, слышал о таковом, но еще не имел случая сходить туда, что не премину сделать как можно скорее, она взяла инициативу в свои руки: «Не стоит трудиться, я дам вам кассету». Она назвала мне свое имя: Летиция. Потом: «Вы меня пригласите?» или скорее (все же она не была настолько непосредственной!): «Куда вы меня пригласите?». Не знаю, что на меня нашло, – я обнял ее за талию, как будто помогая ей слезть с капота, и прижался губами к ее губам. Она даже не вздрогнула от удивления и сразу же, как будто ждала этого, как будто это само собой разумелось и было предопределено от века, она покорилась самому глубокому, самому долгому и самому сладострастному поцелую, какой я с кем-либо разделял ночью посреди площади, в городе с населением более двадцати тысяч жителей.
Это она решительно прервала наше бесконечное маленькое счастье. Она спросила меня взглядом. И я решился в ту же секунду.
– Могу я пригласить вас… тебя…
– Куда?
– Вот сюда. – Я указал на тротуар напротив.
Самое забавное заключалось в том, что мы находились практически перед книжным магазином моих родителей и в тридцати метрах от их квартиры. Когда я остановил ее у дверей особняка всего лишь через тридцать секунд ходьбы, ее, казалось, рассмешила эта близость. Как правило, я старался не приводить сюда завоеванных мной девушек. Но у меня не было машины, а холостяцкая квартирка Жерома была у черта на рогах. На лестнице она стала расспрашивать меня о том, чем я занимаюсь. Слова «кино», «телевидение», «сценарий» возымели свое действие. Она слушала внимательно. Мне не понадобилось долго объяснять, что я живу не один и что не надо шуметь, проходя через прихожую и коридор: она, похоже, привыкла к таким ситуациям. После новых восхитительных прелюдий я пошел в гостиную принести чего-нибудь выпить. Когда я вернулся, она лежала нагая на кровати, с которой не сняла покрывало. Любопытно: был ли то признак привычки к тайной и скорой любви? рассеянности? скромности? Ах! я был не в таком состоянии, чтобы проявлять разборчивость. Она была сама чувственность. Ее кожа была не совсем черной: кофе с молоком – «но в это время лета (по ее милой формулировке, которую мне предстояло услышать немного позже), – немного молока и много кофе». Это была и не африканская кожа, немного шероховатая, почти шершавая, напоминающая великолепные доспехи для жизни на солнце. Тонкая и гладкая, почти жирная – упругая сливочная эластичность молодости. Сколько ей лет?
Она ответила:
– Скоро двадцать исполнится.
– Когда?
– Двенадцатого июля.
Я чертову уйму денег просадил на этот юбилей, меньше чем через месяц. Праздновать двадцатилетие любимой женщины! На самом деле она убавила себе годик. А тогда – я не успел еще раздеться, а она уже, улыбаясь, протянула мне презерватив.
III
И из-за всех этих воспоминаний мне захотелось починить старый видеомагнитофон, чтобы еще раз посмотреть кассету «Синей лошади», которая до сих пор у меня. Люблю подолгу сражаться с аппаратами, которые никому не удается заставить работать. Через некоторое время я забываю обо всем, кроме винтов, проводов, считывающей головки, приводных резинок. Благодетельный демон ручного труда принес мне много счастья и даже несколько удач. Увы, сегодня у меня ничего не получается.
Да и к чему это? Я знаю запись наизусть. Я мог бы описать каждый кадр: пустая сцена, вся в драпировках и пальмах, которую продолжает сеть, натянутая над публикой; прибытие двух путешественников, измотанных и изголодавшихся за недели странствий в саванне; крупный план движущихся листьев. Один из путешественников, белый, устремляется в заросли. Схвачена юная туземка (Летиция в леопардовой шкуре, босая, с красными цветами в волосах). Мольбы о пощаде остаются втуне. Европеец с силой встряхивает пленницу и бросает ее в угол. Та, на мгновение оставшись без присмотра, хватает нож и бросается на него. Он ее обезоруживает. В борьбе цветы падают, показывается грудь. Прекрасная строптивица связана. Свет тускнеет – наступила ночь. Один путешественник отдыхает, другой стоит на страже с ружьем в руке. Она не спит, стонет, плачет. «Лунный луч» выгодно подчеркивает ее формы. Европеец подходит. Она смотрит на него так, что он не может противиться искушению; он пытается ее поцеловать; она делает вид, что сопротивляется, потом уступает. Они целуются. Крупный план. Он развязывает ее. У костра (освещенные сзади красные бумажки) она в благодарность начинает сладострастный танец, а точнее стриптиз. Показывается другая грудь, набедренная повязка держится на честном слове. В тот самый момент, когда повязка падает, дикарка устремляется к сетке, преследуемая партнером с голым торсом. Здесь изображение расплывается: камера с трудом поспевает за двумя телами, пытаясь поймать их крупным планом. Когда оно снова становится ясным и четким, время романтических объятий прошло. Л. на четвереньках над лицом мужчины, который лижет ее, а она, в свою очередь, помогая себе рукой, сосет его член, который сразу же твердеет. Камера движется не меньше действующих лиц. Скрипят кресла зрителей; почти слышно, как они сглатывают слюнки.
Затем актеры покидают сетку – которая уже оставила некрасивые следы на коже белого человека, – и у самой рампы начинается эта сцена втроем, которую я никогда не выносил. Не из-за позы, совершенно банальной – Летиция сидит на одном из лежащих актеров, который ее трахает; другой актер стоит перед ней с расставленными ногами, и она у него сосет – даже не из-за того, что все это настолько механически (как это выразить? это больше чем холодность: лежащий актер то растягивается на полу, то приподнимает торс, опираясь на локти, со скучающим, в лучшем случае невыразительным видом; другой повесил голову, его глаза не видны, он, возможно, смотрит за кулисы или в пустоту, его руки свешиваются вдоль бедер). Нет, невыносим был именно их отсутствующий вид, при том, что покрасневшие члены, нелепые на фоне экзотического пейзажа, как пирожные эклеры, вздымаются, и на экране видна только их – именно их – блестящая жизнь! Именно эта двойная игра, разыгрываемая перед нами, ритмичная, отвратительно монотонная (иногда раздается музыка, грязная дряблая музычка, но еще хуже, когда она умолкает, и слышится только хлюпанье влажных, ударяющихся друг о друга тел), и выводила меня из себя. Эта ложь тела, в которой фрагмент уже не повинуется целому, в которой целое напрасно пытается заглушить фрагмент. Это спокойное тело, казалось бы, отдыхающее, рассеянное, отвлеченное, казалось бы, немое, которое на самом деле кричит об одном, только об одном: я трахаю Летицию! Я ее ебу! Я ее фарширую! Я ее набиваю! Я в ней роюсь! Я ее насаживаю! Я в ней! Я вошел в нее! И кошмар пленки, говорящей: можете смотреть меня убыстренно, от конца к началу, от начала к концу, делать стоп-кадр, стереть меня, но вы не сможете отменить то, что случилось навсегда – этот половой акт. Но я еще ничего не сказал, я оставил в тени центральную деталь этой омерзительной инсталляции плоти: Летиция между ними, взятая сверху и снизу, она-то делает это не механически, у нее не такой вид, как будто в нее проникли без ее ведома твари, подобные монстрам из фильмов ужасов, которые пробираются в тела и внезапно с силой сотрясают их изнутри и против воли, она-то не притворяется, она и горяча и холодна, и безразлична и возбуждена одновременно; она не фрагмент целого, она не разделена, совершенно цельная, храбрая, энергичная, наслаждающаяся всем своим существом, губы приподняты над плотно сжатыми зубами, широко открытые глаза, жемчужины пота на висках, вся ушла в свое дело, вся отдалась, вся пропала для меня.
И все же настал день, когда эта мерзкая кассета, которую я чуть было не отдал ей с отвращением и о которой она так и не узнала моего мнения (вначале я боялся обидеть ее или быть смешным, позднее, когда я мог бы поговорить с ней об этом спокойнее, она меня покинула), – стала мне драгоценнее иконы. Первоначальное отвращение, объясняющееся ревностью, конечно же – самой ужасной из всех видов ревности, ревностью физической, – и страхом перед сексуальностью других, который всегда мешал мне быть последовательным вуайеристом, уступила место чувству более эстетическому, то есть усмиренному – ностальгии и даже отчаянию. Мне казалось, что никогда больше я не увижу ее теперь, избавившись от грубостей, от терновых шипов непристойного сладострастия. Иногда, в те редкие периоды, когда я немного отходил от Л. и хранил какое-то время целомудрие, мне даже удавалось занять по отношению к этим неловко снятым кадрам и навязчивым крупным планам чисто утилитарную позицию, свойственную всякому при просмотре порнографических фильмов. Летиция была всего лишь прекрасным телом – увы! всего лишь призраком прекрасного тела! – одним из многих. Тогда, полностью меняя направление, этот жар, эта редкая чувственность, которые глубоко шокировали меня, когда были обращены к ее партнерам, возбуждали меня больше чем что-либо, потому что казалось теперь, что они обращены только ко мне.
Но чаще всего – так же, как несколько десятков уже уничтоженных фотографий, и еще сильнее, чем они, – эти движущиеся эфемерные кадры имели то величайшее преимущество, что возвращали мне ее такой, какой я знал ее в первое время нашей любви (если предположить, что, вынося решительное суждение о взаимности, я могу сказать «нашей любви»). Они, во всяком случае, являются единственным напоминанием – из вторых рук или скорее из вторых глаз, – которое у меня осталось о «Синей лошади». Что касается первых глаз – я зашел туда однажды вечером, несмотря на ее решительный запрет. Я ничего не мог с собой поделать. Я собирался остаться в глубине зала, чтобы она меня не видела, и скромно уйти или, кто знает, зайти к ней в уборную поздороваться (штучка вполне в стиле «Голубого ангела» или «Марокко»!). Возможно, когда первое раздражение пройдет, она почувствует, какую честь я оказываю ей, придя за ней в то место, которое мне претило посещать не столько из-за спектакля, сколько из-за публики; она увидит мой влюбленный и умоляющий вид, она будет обезоружена, она улыбнется своей улыбкой, открывающей очаровательный промежуток между зубами, и мы вернемся к ней вместе.
Но кабачок был вовсе не таков, каким я его воображал. Одна сторона зала была занята длинной стойкой бара, и когда я вошел, уплатив сто франков за билет, я был поражен, увидев ее сидящей с несколькими молодыми людьми: ее партнерами, возможно, или со знакомыми ей клиентами. Я сразу же ушел с колотящимся сердцем. Мне показалось, что она меня увидела или во всяком случае обязательно увидит, если я вернусь, ведь зал слишком мал, чтобы она не видела тех, кто занимает место, даже во время спектакля. Я ощутил, вероятно, ослабляющее воздействие любви, не уверенной во взаимности, – эта робость, от которой превращаешься в тряпку с ватными ногами, стоит заметить любимую женщину, перед которой вдруг испытываешь страх, как перед неким идолом, не в силах поднять на нее глаза. Это было прежде всего, я думаю, предчувствие страданий, которые мне предстояло испытать немногим спустя, просматривая кассету и лицезрея Летицию голой и принадлежащей другим; эти страдания, без сомнения, были бы куда мучительней, столкнись я с ней из плоти и крови: я исчез, убитый, и никогда моей ноги больше не было в «Синей лошади».
Ничего из этого, напротив – ничего похожего на страдание не было в ночь нашей первой встречи. Впрочем, за одним-двумя исключениями, к которым я вернусь, – именно в те моменты, когда мы занимались любовью, в те мгновения, которые, если сложить их вместе, составили бы, без сомнения, очень краткий срок (всего несколько недель или даже несколько дней) единственного подлинного счастья, которое я познал на земле, никогда я не знал другого страдания, кроме желания, доведенного до воспламенения, и других слез, кроме слез радости и благодарности. Все это, возможно, глупое прекраснодушие, но чего там! в ту ночь, например, – в тот краткий отрывок ночи – Летиция, по своему обыкновению не жалея сил, наконец заставила меня поверить в рай.
У меня не осталось точного воспоминания об этих первых объятиях. Другие ночи любви больше запомнились, поразили меня еще большей страстью, изобретательностью, какой-нибудь деталью. А потом, подобно музыке, которую слышишь сотни раз, но которая, если это настоящая музыка, каждый раз кажется новой и свежей, неисчислимые ночи любви с женщиной, по-настоящему любимой, накладываются друг на друга, как нежные волны, и сливаются, можно сказать, в одну, обладающую всеми характеристиками самых прекрасных из них: каждая заставляет забыть предшествующие, так как каждая и есть все предшествующие, и к ним прибавляется реальность. В первой ночи, во всяком случае, скорее всего уже заключались почти все характеристики других, и именно это меня поразило: отсутствие ужимок, страсть, исступление даже – вначале именно Л. вела меня, а мне оставалось только следовать за ней; и еще одна особенность, которую я не забыл, – она долго, с удовольствием целовала мою кожу, чего еще не делала ни одна до нее. Вот почему я ни о чем не подозревал, она показалась мне просто несколько прожорливой, и только назавтра утром, увидев в зеркале шифоньера синяки на шее, плечах, руках, я понял, что это так называемые засосы. (Слава Богу, она довольно скоро от этого отвыкла.)
Определенно, я напрасно пытаюсь объяснить, что этот первый раз не повлиял на меня сверх меры. А как иначе можно объяснить то, что я моментально подпал мод ее очарование, радуясь, что узнал наконец «женщину, непохожую на других», которая лучше всех, и главное – как объяснить любовь, которая уже молниеносно поработила меня? Действительно, у меня есть по крайней мере еще два точных воспоминания: состояние восторга, которое я испытал, увидев над ее бедром ямочку, отмечающую талию – я сказал, как она была тонка: моя рука все гладила ее, постоянно возвращаясь; и как мы поднимаемся на чердак, в хижине в дальнем уголке леса, – это одно из тех мест, что укромны, отдаленны, никому не известны, к которым ты привык и где испытал моменты величайшего тайного счастья. И еще, когда я долго гладил ее по голове, это нетерпеливое движение – вероятно, она хотела не столько защитить от посягательств свою прическу (кудри сами прелестно ложились на место), сколько показать мне, что она есть и останется единственной хозяйкой своего тела. Это мимолетное раздражение прошло бесследно, и в следующие наши встречи табу на прикосновение к волосам было снято. Но все равно, мне следовало лучше проанализировать это движение. Но разве любовь анализирует? Это как попросить кривого посмотреть в бинокль. Яд явно уже делал свое дело, и я закрывал глаза на все предвестия грядущего несчастья.
Надо сказать, что она еще и пыталась меня обмануть. После нашего второго оргазма – почти одновременного: это тоже было ново для меня – она чуть ли не робко сообщила мне «две вещи: одну хорошую, одну плохую». Хорошим было то, что она хотела встретиться вновь; плохим – что не могла остаться на всю ночь. (Это было лишь фигуральное выражение: птицы уже давно щебетали в платанах, окружающих площадь; через щель между занавесками мы видели рождение дня.) Уходя, она так хорошо предвосхитила мое желание – ведь я не очень-то представлял себе, что мы будем делать, если утром нас разбудит горничная или мы, голые, столкнемся в ванной нос к носу с моими родителями, – что я не обратил внимание на странность, которая заключалась в ее уходе: разве она не сказала мне, что работает только вечером, что сейчас у нее нет друга, что она живет одна в Англе? Значит, ничто не вынуждало ее вернуться так быстро. Я не увидел недоброго и в том, что, когда мы вышли на пустынную площадь Клемансо, куда я провожал ее до такси, она внезапно сказала мне прямым и убедительным тоном – таким, что это скорее было веселое утверждение, чем настоящий вопрос: «Дашь мне денег на такси?» – ничуть не пытаясь приукрасить свою просьбу одним из выражений («Я забыла сумочку», «У меня остались только чеки», «Верну тебе завтра»), которые обычно помогают проглотить горькую пилюлю. «Этого хватит!» – только и сказала она, схватив двухсотфранковый билет, который я протянул ей, поскольку у меня не было мелочи. А ведь это было в три-четыре раза больше, чем ей могло понадобиться, даже если она жила на самой окраине Англе, которая действительно считается самой большой коммуной Франции.
Назавтра, или скорее через несколько часов (я приколол на дверь записку с просьбой не будить меня), наконец встав, чтобы выйти к обеду, я был слишком занят тем, что скрывал под шейным платком под предлогом простуды синие отметины, оставленные моей прекрасной вампиршей.








