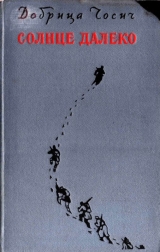
Текст книги "Солнце далеко"
Автор книги: Добрица Чосич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
– Нет, нельзя, никак нельзя! Мы обязаны тебя отвести. А ты не бойся. Только расскажи поручику все по-хорошему и не груби. Он из благородных, академию кончал.
Они уже подходили к городку. Йован замолчал, обдумывая новый план, строя различные комбинации. Смелость и присутствие духа не покидали его. Но, проходя мимо низких домов и магазинов с черепичными крышами, он почувствовал, что его охватила дрожь. Для партизана город – олицетворение оккупации, порабощения, фашистских казарм. Йовану казалось, что у него дрожат даже плечи, но он старался овладеть собой. «Если только я попаду к этому поручику – я пропал. Он немедленно изобличит меня». Йован опустил голову и шел, стараясь не подымать глаз, он боялся повстречаться с кем-нибудь из знакомых или школьных товарищей. Среди них могли быть всякие люди! Ему казалось, что теперь у него дрожит даже челюсть. Он стиснул зубы и, стараясь казаться как можно спокойней, стал придумывать самые разные вопросы, которые могли ему задать, и мысленно тут же на них отвечал.
Они шли по мостовой. Время от времени слышался стук сапог по тротуару, и Йован, не подымая глаз, старался разглядеть прохожих. Перед ним мелькали разболтанные, немного расширенные кверху сапоги немецких пехотинцев. Жандармы шли почти рядом с ним. Навстречу попались какие-то девушки. Он успел рассмотреть только зеленые носки да красные от мороза коленки. Ему ясно припомнилась девушка из этого городка, с которой он познакомился как-то у товарища. Сначала она ему не очень понравилась. Но потом, когда он ушел в партизаны, он почувствовал, что, кажется, влюблен в нее. Он даже написал ей однажды. Она ответила ему стишками из альбома. Она была красивая и почти такая же глупая девушка. Воспоминание о ней было сейчас неприятно Йовану. Он снова погрузился в мысли о Павле, о роте…
Недичевский поручик не захотел допрашивать Йована. Его даже не ввели в канцелярию. Поручик приказал отвести пленного к срезскому начальнику полиции, и Йована препроводили в самое большое здание города, выкрашенное в грязно-желтый цвет. На балконе, с которого когда-то произносились речи на предвыборных собраниях, развевался немецкий флаг со свастикой. Йован глядел на него с ненавистью и испугом. Они поднялись по грязной лестнице со стертыми ступенями и вошли в большую, почти пустую комнату. Прежде чем ввести Йована к начальнику, один из конвоиров отворил дверь, обитую зеленым сукном, и исчез за ней, вероятно, для доклада. Йован с нетерпением и страхом ждал, когда его позовут.
Наконец высунулось важное, озабоченное лицо жандарма, он кивнул Йовану головой.
Кабинетом уездному начальнику служила просторная и светлая комната с зеленым ковром и зеленоватыми узорами на стенах. Стол, за которым сидел начальник, был покрыт тоже зеленым сукном, потертым и порванным по краям. Посреди стола виднелось большое красное чернильное пятно. Начальник нервно вертел между пальцами металлическое пресс-папье без промокательной бумаги. У стола стояли два обычных канцелярских стула, в углу находилась кафельная печь, которая напомнила Йовану школу.
Вслед за ним в кабинет вошел с охапкой дров служитель – в суконных брюках, поношенных опанках на резиновой подметке и засаленном, застегнутом на все три пуговицы городском пальто. Служитель был кривоногий. Лицо его выражало лицемерное послушание и наглое любопытство. Йован взглянул на него с брезгливостью и повернулся к начальнику, который читал какую-то бумагу, не обращая никакого внимания на вошедших. Над столом начальника была приколота фотография премьер-министра Недича, а правее в позолоченной раме висел портрет королевской четы. У начальника был низкий лоб, жесткие, как щетина, черные с сединой косматые брови и бугристые красные уши. Когда он поднял глаза и встал, оказалось, что он очень высокий, сильный человек с живыми, беспокойными глазами. Он был в крахмальном воротничке и небрежно повязанном галстуке. Глаза их встретились, Йован поклонился. Начальник испытующе посмотрел на него.
– Откуда идешь? – строго, но негромко спросил он.
– Из штаба Кесеровича.
– Фамилия?
Йован назвал фамилию, стоявшую в его удостоверении.
– Куда идешь?
– В Каленич.
– К кому?
– К настоятелю монастыря.
– Покажи почту! Развяжите его! – обратился он к жандарму.
Йована развязали, руки у него затекли и онемели. Он нарочно стоял неподвижно, собираясь с мыслями.
– Почты нет. Я должен передать на словах, – начал он.
– Что передать? Скажи пароль.
– Я солдат, господин начальник. Я не имею права сказать пароль.
– Не имеешь права? – начальник отодвинулся от стола, все еще держа в руке пресс-папье. – А почему я должен тебе верить? Потому что у тебя молоко на губах не обсохло, что ли?
– Но ведь вы же знаете, господин начальник… – Йован почувствовал, что, отказавшись назвать пароль, он сделал свою ложь более убедительной. – Ведь это военная тайна. Я могу поплатиться головой. Вы знаете, как у нас строго…
– Ну, довольно ломаться! Если ты человек честный и говоришь правду, ничего с твоей головой не случится. А если врешь, все равно можешь проститься с ней. Так выкручиваться может и связной коммунистов. Я никому не верю на слово.
Йован молчал. На лице его изобразилось грустное раздумье.
– Ну, говори! Я не могу долго возиться с тобой, у меня другие дела. Ты у меня не один.
Йован помедлил. Ему было ясно, что так он ничего не добьется. И виноватым тихим голосом он произнес заранее придуманную фразу:
– Я должен сказать игумену: «Привет тебе от дяди с юга».
– Как, как? – переспросил начальник и, выдвинув ящик стола, взял карандаш и блокнот. – Повтори еще раз!
Йован повторил.
– Проверю. А пока отведите его в тюрьму.
Йован отошел от стола. В дверях он словно вспомнил что-то и, быстро обернувшись, сказал:
– Только, пожалуйста, как можно скорей: я должен явиться в штаб не позже, чем через три дня.
Начальник ничего не ответил. Те же жандармы повели его в тюрьму, обращаясь с ним, как и раньше, по-свойски.
Грязь и вонь в уездных тюрьмах могут ошеломить самого закоренелого преступника.
Когда Йован, угнетенный черными мыслями и своим все более безнадежным положением, вошел в сложенное из необтесанного камня длинное приземистое здание с черепичной крышей, его охватило чувство мучительного отвращения. Проходя сквозь маленькую дверцу, проделанную в тюремной, высотой в три метра, ограде, опутанной колючей проволокой, Йован старался найти самое удобное место для побега. Но когда он вошел в узкий темный коридор, а оттуда в камеру, он забыл обо всем на свете. Ему казалось, что от вони и духоты он вот-вот потеряет сознание.
Грязно-серый свет проникал сквозь решетчатое оконце, проделанное под самым потолком.
На неровном полу можно было различить несколько лежащих фигур. Они едва шевельнулись при появлении Йована. Очевидно, они уже успели утратить любопытство, обычное для заключенных.
Йован опустился было на пол в углу, но тотчас вскочил и, провожаемый злобным смехом арестантов, бросился на середину камеры, отдавив при этом ногу какому-то старику. Старик пробормотал ругательство. Йовану хотелось наброситься на обидчиков, смять их и растоптать. Вздрагивая от ярости, он несколько минут стоял неподвижно, стараясь привыкнуть к свету.
– Господину не нравится, видимо, в нашем отеле… Ему мешает парфюмерия… Ничего, привыкнет! – бросил арестант в зимнем пальто и в шляпе с франтовато загнутыми полями.
– Молчи, негодяй! – крикнул Йован и сжал кулаки, готовый кинуться в драку.
– Молодчик, да ты злой, как старый хрен! Ну, не волнуйся только, я из тебя котлету сделаю… – издевательски и вызывающе повторил арестант и еще громче засмеялся. Одни обитатели камеры стали на сторону арестанта и принялись высмеивать и задирать Йована. Другие, напротив, защищали его и ссорились с его обидчиками. Наконец, истощив все ругательства, арестанты затихли.
Йован молча присматривался к окружающим.
Двое заключенных лениво перебрасывались грязными, засаленными картами. «Берешь?» – «Нет!» – «Берешь?» – «Нет!» – приговаривали они. Остальные дремали от нечего делать.
«Куда я попал! Вчера еще я был в отряде, с товарищами, а сегодня – здесь… С этим жульем… Унизительно… Страшно!» – думал Йован, усаживаясь возле старика крестьянина. Ему почему-то казалось, что этот старик лучше остальных соседей по камере, внушавших ему отвращение. Он решил разузнать у него, какая здесь обстановка и возможен ли побег. В камере было жарко. Йован мельком слыхал, что комендант тюрьмы – хороший человек, не жалеет дров.
Думая сейчас обо всем, что случилось, Йован окончательно решил, что на мельнице он просто растерялся и струсил. Он дал арестовать себя. И кому? Недичевцам, известным своей трусостью. Почему он не пытался бежать? Ведь были удобные моменты. Он мог бежать, когда его вели в тюрьму. Мог! Ему даже руки тогда развязали. Вечером его будет ждать рота. Павле подумает о нем бог знает что! И будет прав!.. Как теперь отсюда выбраться? Начальник скоро откроет его обман. Тогда все кончено!.. Он не столько боялся за свою жизнь, сколько злился на себя.
Старик заметил, что Йован чем-то озабочен, и потянул его за ногу.
– Я вижу тебя что-то грызет… Не бойся! Ты еще молодой, все забудешь. Наверно, первый раз сидишь? Да это все ничего, и в тюрьме люди. На, возьми хлебца и солонины. Небось, ты голодный? Ну, чего вылупил на меня глаза?
Йован поблагодарил, но отказался.
– Ладно!.. Только смотри, на сытый желудок жить веселей. У голодного забот вдвое больше… А вот скажи мне, ты, верно, грамотный, что это там вырезано на камне, видишь? Непутевые эти все навыворот читают.
Йован взглянул на стену.
На стене под окошком были нацарапаны какие-то слова. Он подошел и прочел: «Я сизый сокол Милич Янкович молод и зелен, безвинно загнал меня кмет [40]40
Кмет – сельский староста.
[Закрыть] (здесь следовало сочное крестьянское ругательство) на три года в каторгу».
– Бедняга! Все они такие, кметы эти, – сказал, ни к кому не обращаясь, старик.
Йован улыбнулся при виде этой необычной надписи. Но она ненадолго заняла его мысли. Если бы этот отчаянный, вырезанный на камне вопль случайно прочел гимназист седьмого класса, каким был до войны Йован, он думал бы о нем неотступно днем и ночью и переписал бы его в тетрадь. Может быть, он написал бы сентиментальный рассказик об этой надписи и прочел бы его на собрании школьного кружка. Но сейчас у партизанского связного, который, сидя в тюрьме, выдавал себя за связного командира корпуса четников, эта строка не вызвала ничего, кроме короткой мимолетной усмешки.
– Дядя, а ты почему попал в тюрьму? – обратился к старику Йован.
– Да все из-за властей, парень! Никогда не уважал я властей, не захотел уважать и этих – они хуже всех. Налог я и до войны не платил. Так они бывало сами у меня скот заберут, на рынке продадут, а меня каждый год по месяцу в тюрьме держат. А этим, кроме налога, еще и реквизицию подавай. А я не дал. Да им скоро надоест меня держать, они и выпустят. А ты за что, украл что– нибудь?
– Да нет, не украл. Поссорился там с одним из-за девушки и разбил ему голову, – солгал Йован, стараясь перевести разговор на тюремную жизнь.
Под вечер в решетчатом квадрате, вырезанном в двери, показалось лицо жандарма. Заключенные заволновались; игроки отложили карты, бурча себе под нос, что идет комендант. Услыхав, как отпирают висячий замок, все поднялись и встали навытяжку, согласно тюремным правилам. Вошел жандарм лет сорока, с черными подстриженными усами, и сказал не особенно строго:
– Давайте-ка сюда новичка, которого привели сегодня утром!
Йована словно что-то кольнуло, сердце его заколотилось. «Неужели так скоро? По телефону?.. Что делать? Бежать немедленно».
Но, очутившись в коридоре и следуя за сутуловатым капралом, который приказал ему идти в канцелярию, он успокоился. Жандарм обращался с ним доброжелательно и, очевидно, вел его не на допрос.
В комнатенке у коменданта гудела затопленная печь. Кроме простого стола, накрытого газетами, на котором выстроились бутылки с вином и водкой, в комнате стояла аккуратно заправленная солдатская койка.
– Садись, парень! – обратился капрал к изумленному Йовану и предложил ему стул. – Бери бутылку, это старая комовица [41]41
Комовица – водка из выжимок.
[Закрыть]. Стакана у меня нет, да солдату он и не нужен.
Йован поднес бутылку к губам, потянул и, делая вид, что жадно пьет, сказал с видом знатока:
– Хороша! Настоящая жуплянка [42]42
Жуплянка – вино из области Жупа.
[Закрыть].
– Да! Я слышал, ты оттуда, из ставки. Ты, значит, должен знать Васу. Он до войны был капралом, как и я, а теперь, слышно, уже фельдфебеля перешагнул и командует ротой. У вас его зовут Босняком.
– Как не знать Дядю Босняка! Строгий командир. Я всегда, как вернусь с задания, что-нибудь ему приношу. Он подарил мне на память свой перабеллум, вот который ваши отобрали у меня сегодня утром.
– Смотри ты! А ведь мы с ним вместе стояли в Косове, когда были албанские бунты. Потом нас перевели на станцию возле Чачка. Там мы провели четыре года. Винтовки рядом ставили, и койки наши рядом стояли. Значит, говоришь, он теперь повыше фельдфебеля и получил роту? Ну и молодчина! Умный человек. Уж он-то никогда не терялся. Когда мы были в Косове, так он у одного албанского бега забрал малость дукатов. Говорят, он за них зарезал дочку этого бега. Только кто знает, правда ли это, нет ли. Сам он никогда в этом не признавался. Однако же дом в Чачке построил. На солдатское жалованье этого не сделаешь. Я вот жил хуже собаки, каждый грош берег, а на дом скопить не сумел. Так, говоришь, командир роты? Умный человек! А я вот еще капрал… Офицеры, растуды их, жуликов, после каждой стычки с партизанами получают новый чин. А мы вот сидим все, как я. Я ничего уже не жду… Правда, стоит появиться коммунистам, как офицеры обещают нам чины и прибавку жалованья… – продолжал рассказывать жандарм.
– А у Босняка теперь и вестовой есть! И коня горячего вороного получил лично от Дяди. Он у нас сила. Последнее время все ходит с английским майором; его выделили в сопровождающие, – продолжал врать Йован.
– Что ты говоришь? И вестовой есть?! Люблю я Васу! Только он всегда был ловкач, как и все, впрочем. Сейчас, брат, каждый сам о себе заботится… Умные-то люди понимают… Если уж он с англичанином, так тот, наверно, фунты ему дает. Вам там легко… А у нас в команде – одно жулье, перебежчики и немецкие шпионы. Я вот в тридцать шестом произведен, а так и останусь капралом, пока партизаны котелок мне не разобьют… – говорил с обидой жандарм, изо всех сил завинчивая флягу.
– Да тебе-то уйти ничего не стоит! Идем со мной! Васа тебя знает, больших боев у нас сейчас нет, за свою голову бояться тебе нечего. Чего тебе торчать в этом свинарнике вместе с жульем?
– Нет, до весны я не уйду. Нам по секрету сообщили, что мы войдем в состав армии Драже и весной вместе с ним двинемся. А если этого не будет – только меня здесь и видели!
Йован всеми силами стал убеждать его уйти сегодня же вечером, но все эти уговоры не имели никакого успеха.
– Да не бойся ты, братец, ничего, – уговаривал его в свою очередь капрал, – начальник завтра же получит сведения о тебе. Завтра днем и уйдешь. Мы еще и солдата тебе дадим в провожатые.
– Нет, не верю я начальнику! – настаивал Йован. – Я слышал, что он работает на немцев…
– Неправда. Он старый волк. Он только притворяется, что за немцев.
Йован так долго и упорно уговаривал коменданта бежать, что в конце концов вызвал подозрения даже у этого, крайне доверчивого и доброжелательного жандарма. Комендант строгим голосом приказал ему наконец вернуться к себе в камеру.
В темноте, спотыкаясь о лежащих на полу людей, провожаемый матерной бранью, восклицаниями «доносчик», обещаниями переломать ему все ребра, Йован кое-как нашел свободное место и лег, свернувшись калачиком, у стены.
«Все пропало… Как же вырваться отсюда? Нет, кончу я на виселице!»
Наконец все поплыло и закружилось у него перед глазами: Гвозден, расстрел, гестапо, какая-то комната со стальными стенами, виселица и он сам… Стоит он под ней и кричит что-то страшное… Мать… Отряд ждет на берегу Моравы… Они бранят его и грозятся…
И тут он заснул.
20
Прекрасная ночь в долине Моравы, когда лунный свет заливает снежные просторы. Дремлют усталые равнины. В тени ясеней и вязов темнеют безмолвные села. Ночь прижимается своей синей грудью к горам, вздрагивает от прикосновения их острых краев, блестит голубыми бусами.
Месяц плывет вниз по Мораве, заглядывает в гущу тополей, до самой зари полощет в реке свои белые руки. Морава шумит, злится на плотины, мельничные запруды и целую ночь журчит по отмелям, хохочет над луной. На юге Ястребац злобно поднимает свою синюю бровь, а Гоч, сгорбившись, тянется к реке с севера.
В такую ночь рота засела в тополях, дожидаясь переправы.
Река гудит и скребет берег обломками льда, но эти звуки не нарушают общей тишины.
Только иногда вороны в тополях вдруг закаркают и захлопают крыльями да сорока в ивняке закричит. То удаляясь, то приближаясь, скрипят по снегу шаги.
Дожидаясь условного свиста Йована, Павле расхаживает по берегу Моравы. Жестокий мороз сделал еще строже и чище красоту ночи в его родном краю. Беспокойную душу комиссара охватил радостный трепет. Он словно сбросил в Мораву бремя тяжелых мыслей.
И волнения, и страхи, и мучительную ответственность за отряд, за исход борьбы – все поглотил этот сияющий лунный свет. Павле весь отдался воспоминаниям детства…
…Здесь когда-то – сколько с тех пор утекло в Мораве воды – бродил он вместе с другими мальчишками вот этими мелями. Разбивая в кровь пальцы и коленки о чистые округлые камни кварца, они прыгали с ивы в зеленый омут и, зажав нос пальцами, ныряли, как лягушата, состязаясь, кто дольше пробудет под водой.
Устав от купанья, мальчишки бежали на берег, ложились на спину и засыпали песком свои загорелые, вздувшиеся от фасоли животишки.
Вода струйками ползет по волосам, стекает в песок. Они лежат, зажмурив глаза, горячее солнце обжигает им щеки. Проголодавшись, ребятишки бегут обедать в тополя. Овцы стоят, сбившись в кучу, тяжело дышат от жары и прячут головы друг другу под брюхо. Мальчишки садятся возле овец, разложив на траве котомки из козьей шерсти. Они вытаскивают маленькие заструги [43]43
Заструг – деревянный сосуд с крышкой.
[Закрыть] с сыром и жадно грызут черствый кукурузный хлеб, заедая его сыром и луком.
Потом они снова купаются, катаются на лодке. Павле, как самый искусный, обычно выкрадывал ее у мельников, а мельники не раз ловили его и немилосердно стегали прутом. Он еле спасался от них, прячась в ивняке на мелях.
Когда солнце опускалось за линию горизонта, мальчишки выгоняли овец пастись.
Вот было счастье, если в это время хлынет дождь и ветер подымет брызги на реке, а овцы мирно пасутся под деревьями.
Ближе к ночи рыба начинала играть, выскакивая из воды. Ребята шли с бреднем, ловили пескарей и вьюнов. Пескарики, говорят, обладают чудесной силой: от писка их можно оглохнуть. Во время ловли мальчишки молчали, насупившиеся и серьезные, потому что ведь рыбы все слышат. А потом самые сильные отнимали рыбу у слабых и били их, если они сопротивлялись…
Павле громко рассмеялся. Ему припомнился один случай в тополях, на том берегу. Он был уже в четвертом классе начальной школы. Однажды весною он вместе с товарищами таскал яйца из вороньих гнезд.
Взбираясь по стволу молодого тополя, он неосторожно наступил на тонкую хрупкую ветку и упал. Он расшиб колено о кусок кварца, разорвал ухо и потерял сознание. Очнувшись, он пролежал еще несколько часов, испытывая такую страшную боль в груди, что, казалось, вот-вот умрет. Когда наступила темнота, он насилу поднялся, приказал перепуганным товарищам, чтобы никому ничего не говорили, и дотащился домой. Он не стал ужинать, потихоньку залез в постель и стал уже засыпать, как вдруг подошел отец, поднял одеяло и, ни слова не говоря, как следует выдрал его. Он не стал плакать – назло. Тогда отец рассвирепел и избил его самым безжалостным образом.
И, вспомнив все это, Павле пощупал левое ухо. На нем все еще был рубец, оставшийся после падения с тополя. Павле грустно улыбнулся далекому воспоминанию и, прижимая ладонью замерзшее ухо, нежно погладил рубец, словно лаская свое детство.
«Конечно, все ушедшее всегда кажется прекрасным, – подумал Павле. – Особенно на войне».
У ног его, подо льдом бурлила вода. И хотя он не чувствовал жажды, ему захотелось разбить лед, зачерпнуть горстью воду, плеснуть себе в лицо и напиться. Но желание это ему самому показалось детским. Он подумал, что, пожалуй, не так еще стар, чтобы жить воспоминаниями детства… Впрочем, нет! Он больше не молод. На войне люди быстро старятся – должно быть, от близости смерти. И как быстро прошла его молодость!
А ведь ему нужна не одна, а пять жизней, чтобы достичь всего, чего он хочет! Какая страшная жестокость, если он умрет в самом начале! Он слишком мало жил! Слишком мало! Да! И жизнь началась так обыкновенно…
Вот здесь, за рекой, на этих полях и тропинках, лет десять-пятнадцать назад пастушок резал ножом узоры на тыквах, пас коров, ждал, пока они наедятся до отвала.
Мир его простирался до Крушевца – они с отцом были там несколько раз на ярмарке, – а что находилось за Крушевцом, этого он не знал. Ведь и небо кончалось где-то неподалеку. Пастушок мечтал о желтых башмаках, таких, как у сына учителя. Ему казалось, что, если десять раз подряд повторить без ошибки какой-нибудь стишок из песенника, который ему дали в конце первого класса за отличную учебу и примерное поведение, – вот тогда, откуда ни возьмись, на его босых ногах окажутся желтые башмаки. И, повторив в десятый раз длинное стихотворение, пастушок сломя голову бросался бежать по дороге через поле, словно он был уже в ботинках. И он в бешенстве сшибал своим прутом тростник – один, другой, третий, все подряд, и ему казалось, что они живые. Он уничтожал целое поле и с таким ожесточением размахивал своим прутом, словно желал сравнять с землей и село с его деревьями, и горы за Моравой – все, что видел перед собой.
После Видов-дана [44]44
Видов-дан – годовщина битвы на Косовом поле, 15 июля.
[Закрыть], идя за стадом, он нес подмышкой, так, чтобы все ее видели, полученную в награду книгу.
Летом мальчик боялся, как бы град не побил виноградники. Он слышал жалобы отца и деда, и ему хотелось, чтобы каждую ночь шел дождь и поливал кукурузу и огород и чтобы мать по вечерам не стонала у плиты и не жаловалась, что она ободрала все руки о котлы.
После Славы [45]45
Слава – праздник святого, который считается покровителем дома, семьи.
[Закрыть] он хвастался перед мальчишками, что к нему приходил Андра – жандарм, который после обеда оставляет в тарелке два динара, и показывал пакетик «шелковых» конфет, полученных от него.
Турок он представлял себе как высоких худощавых людей с острыми усами и длиннющими кривыми саблями и был убежден, что они – вечные и единственные враги его народа.
А швабы – о них он почти и не думал, ведь о них ничего не говорилось в песеннике.
Мальчик не боялся ни темноты, ни ведьм, которые в ночное время вскакивают верхом на людей, ни чертей, что на пнях возле Моравы дуют в волынки, держа в руках свадебные фляги с вином.
Когда он окончил начальную школу, отец по настоянию учителя отвез его в гимназию. В памяти о первых днях гимназии осталась радость от ученической фуражки с желтой цифрой и чувство тяжкого стыда перед господскими детьми из-за дважды подшитых опанок и старых суконных штанов, которые он не снимал круглый год. И еще – субботы, сотни суббот, когда отец привозил в котомке припасы его хозяйке и каждый раз, прощаясь с ним, говорил: «Смотри учись хорошо! Весь дом из-за тебя постится. Сырный рассол весь хребет мне разъел, а от котомки у меня уже горб на спине, как у цыганского осла».
Да, земля перестала оканчиваться у Крушевца. Она походила скорей на корыто, как Моравская котловина, стиснутая горами.
Он знал теперь не только все пять частей света и столицы всех государств. Он знал уже в шестом классе, что мир делится на тех, кто работает, и тех, на кого работают. И был он уже не застенчивым гимназистом, а озлобленным, взъерошенным юношей, который громко говорил опасные слова. Он влился в кипящий поток молодежи своей родины, что бурлил на улицах Белграда и, разливаясь по всей стране, орошал кровью и новой верой измученную жаждой сухую крестьянскую землю.
И мысль его задержалась на воспоминании об этих студенческих днях, как усталая птица, которая отдыхает на высоком дереве.
Потом пришла та весна, когда он в растерзанной серой колонне солдат проходил мимо цветущих вишен, засыпанных снегом [46]46
В апреле 1941 года в Сербии неожиданно выпал снег.
[Закрыть], спасаясь от оливковых танков со свастикой. И когда в июне серые печальные лица людей осветились улыбками, и песни Красной Армии заглушили рыданья и ропот, и вместе с кровью восставших в горы хлынула новая вера, он был среди многих других. Революция представлялась ему вздыбленным лесом рук и винтовок, заполнившим городские улицы людским потоком, штурмующим баррикады. Он слышал лозунги: «Да здравствует социалистическая революция!», «Долой буржуазию!», он видел портреты Ленина над толпой. Ему грезились красные знамена, штурм заводов, почт, банков и министерств, рабоче-крестьянская Красная Армия, охраняющая диктатуру пролетариата. Такой он представлял себе революцию! Правда, пока все это сбудется, могут пройти долгие годы. Но сама революция мгновенна, в ней побеждают или гибнут! У него хватит сил, чтобы погибнуть за будущее!
А когда революция пришла, для него она оказалась продолжительной борьбой заброшенного отряда в сто человек, с горстью патронов, с разногласиями в штабе, с поражениями, отступлениями, с необходимостью принимать сложные решения и нести тяжелую ответственность…
И все же Павле в какой-то мере был рад этой ответственности. Революция казалась ему тем величественней и значительней, чем трудней была борьба за ее победу и чем дороже она обходилась. И было только одно, о чем он не думал, что революция потребует этого именно от него…
Отряд покинул Ястребац под звук выстрела. Это Вук привел в исполнение приговор над заместителем командира.
Обе роты шагали целую ночь, каждая в своем направлении. Никто не заговаривал о том, что произошло.
Павле в ту ночь не шел только замыкающим, он не отставал и не останавливался, как обычно. Он то уходил вперед, то возвращался, отдавая приказания, вызывая и опрашивая проводников. Словом, делал все, чтобы скрыть свою тревогу. Он и вида не подавал, что в глубине души его беспокоит то же, что и всех. Он знал это, хотя они и молчали. Он мучительно думал все об одном, и мысли комиссара были ответом себе и другим.
…Вы думали, что нам предстоит бороться только с врагом? Нет, случай с Гвозденом показал, что нам мешают не только враги. Почему так происходит?! Наша борьба – не просто война, это революция. У нее своя мораль: бороться до конца, не щадя сил. Что еще может погубить революцию, как не недостаток решимости вести борьбу до конца? Жертвы?! Но разве не боязнь жертв отдалила революцию во многих странах?
Как могут произойти изменения в обществе и в истории, если бояться жертв, которых требует борьба? Именно из-за боязни жертв люди так долго терпят несправедливость…
Сейчас надо отбросить гамлетовские настроения. Почему? Я сам расстрелял своего товарища, я! Какой там военный суд!
Почему нищета существует так долго? Неужели потому, что мы боимся того, что нас ждет после смерти? Конечно, нет. Только из-за того, что мы боимся жертв и колеблемся.
Но сколько ни старался Павле обобщить случай с Гвозденом, он неизбежно возвращался только к самому Гвоздену. Поведение Гвоздена после вынесения приговора Павле считал проявлением храбрости человека обреченного. Ему даже казалось, что Гвозден, хотя и верил в свою правоту, все же чувствовал вину перед отрядом. Он вел себя так, вероятно, чтобы показать, что если он заблуждается, то заблуждается искренне. Если бы он не чувствовал себя виновным, он бы держался по-другому: он бы кричал, призывал распустить отряд, старался бы дорого продать свою жизнь.
Нет, поведение Гвоздена не было великодушием. Это было поведение обреченного. Случай с Гвозденом – проявление кризиса в нашем отряде…
Чем больше размышлял Павле, тем ясней ему становилось, что успех похода за Мораву решит не только вопрос жизни и смерти отряда. От его исхода зависит, следует ли оправдать или осудить казнь Гвоздена.
Сейчас, когда Павле размышлял в одиночестве, все эти вопросы и сомнения превращались в спор с самим собой, со своей совестью.
Медленно и размеренно шагал он по снегу, втянув голову в воротник куртки.
…Жизнь перевернула все – сурово, немилосердно. Ни пастушок, ни гимназист не могли предвидеть, что когда-нибудь лунной ночью вот в этих кустах, среди этих плетней, где дрожали легкие тени и пели соловьи, его будут подстерегать винтовки четников, жандармов и немцев.
Он не знал, что бузина на его поле, за его рекой станет засадой, где вражеские пули поджидают того, кто был пастушком, пытавшимся некогда сосчитать мелкие цветочки, осыпавшиеся поздней весной белою пеной. Пастушку и не снилось, что полевые тропинки, по которым он любил шагать после дождя, оставляя свой след от кривого мизинца, станут опасными местами, которые нужно обходить, пересекать как можно быстрее. Гимназист никогда не думал, что лунный свет, созданный для любви и стихов, станет однажды врагом и смертельной опасностью.
«Да! Всё – другое, совсем другое, чем было когда-то. Всё не так, как думалось, как мечталось». И Павле ощутил смутное чувство разочарования, словно впервые в ту ночь осознал все это.







