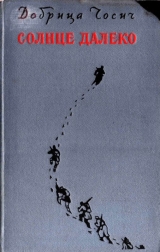
Текст книги "Солнце далеко"
Автор книги: Добрица Чосич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
18
Есть люди, которые надолго остаются в памяти окружающих. Необыкновенная смерть делает необыкновенной маленькую будничную жизнь. Героев помнят чаще всего по их необычной смерти.
Такой казалось Уче и смерть Гвоздена. Героическое поведение партизана перед казнью потрясло командира. Его не переставало мучить чувство собственной вины перед ним и ответственность за случившееся. Обычно Уче не свойственно было раскаиваться в своих поступках. Он старался как можно меньше критиковать свои ошибки и копаться в себе. И именно это качество давало ему ощущение превосходства над окружающими, которые нередко считали его недалеким. Но вся эта история с Гвозденом – разговор с Павле, собрание, выступления перед строем, а особенно участие его, Учи, в вынесении смертного приговора – не давала ему покоя и заставляла страдать.
Шагая за дозором впереди колонны, которая змеей извивалась по темному лесу и осторожно пробиралась мимо немецких засад, он совсем забыл об опасности и продолжал размышлять о Гвоздене и о себе.
Гвозден и умирая остался верен своему убеждению. Его выступление грозило страшной опасностью отряду. Если бы Павле не проявил такой решительности, кто знает, чем бы все это кончилось. Но как он держался перед смертью!.. Какое превосходство прозвучало в его голосе, когда он сказал: «У вас нет времени». Каковы бы ни были причины его поступка, он проявил замечательное мужество. Только исключительно сильные люди способны так поступать. Много ли их, этих людей? А он, командир, – он заколебался!
Почему он сдался, раз уверен в своей правоте? Он заставил себя отказаться от собственного мнения, для того чтобы сохранить единство. Ради единства отряда и партийной дисциплины он пошел на авантюру, которая, несомненно, приведет к гибели отряда. К чему же тогда его совесть, воля, готовность отдать свою жизнь борьбе?! Почему он прямо не выступил против Гвоздена и не стал защищать свою точку зрения? Неужели пустое, чисто формальное единство важней, чем судьба отряда?.. Как воевать дальше, если так нельзя, так невозможно воевать?.. Если нет веры у командира, значит нет ее и у бойцов. Они инстинктивно чувствуют, что он сомневается. Нет, бой проигран заранее. И куда они пойдут? Сейчас вот, ночью? А завтра? А в последующие дни? И чем все это кончится?
«Вот Павле – тот никогда не колеблется в выборе средств. Он ни перед чем не остановится, чтобы осуществить свой план. Но, может быть, он тоже сомневается?.. Мы всегда беспощаднее всего боремся с теми слабостями в окружающих, которые свойственны нам самим». Эта мысль сразу показалась ему низкой и несправедливой. Но помимо его воли, она все больше овладевала его сознанием, вытесняя все остальные, и чем больше боролось с ней дружеское чувство к Павле, тем сильней она становилась.
Вскоре немцы обнаружили движение колонны и накрыли ее пулеметным огнем. Уча почти обрадовался неожиданной опасности, которая прервала его тяжелые размышления. В лесу гремели выстрелы, но командиру казалось, что они как-то не имеют отношения к противнику, что стреляют, сражаются сейчас не люди, а лес и ночь. Отсутствие видимого противника делало эту стрельбу еще более опасной, и Учей вдруг овладел непонятный страх.
Колонна быстро вышла из-под огня. Все стихло. После стрельбы густой сумрак как бы ожил, замелькали причудливые тени, и Уче казалось, что вот-вот в этой тьме за деревьями раздастся страшный взрыв. Он весь превратился в ожидание, напрягая зрение и слух. Мало-помалу напряжение прошло. Кругом вновь были обычные лес и ночь, безмолвные, безжизненные, словно нарочно созданные служить укрытием для партизан. И вдруг он весь затрепетал от волнения. Чья-то рука махнула ему. Может быть, кто-то даже улыбнулся ему. Мягкая, теплая рука, словно тень, взметнулась над тесным строем. И снова потонула во мраке леса. И Уча почувствовал дрожь – томительную, печальную и в то же время радостную. Он посмотрел на платок, на котором висела его раненая рука. Девушку, верно, обрадовал бы этот взгляд. Вернется ли то, что было?.. И что будет тогда? А если никогда не вернется?
Но мысль о Бояне, мелькнув, тут же исчезла. Нахлынули прежние думы и захватили сознание, и Уча забыл о своей мимолетной грусти и радости.
Отряд наконец поднялся на гребень. Отсюда он должен был спуститься и обойти стороною деревню. В это время Учу догнал комиссар его роты Мирко и предложил сделать привал. Уча приказал остановиться. Команду быстро передали по колонне. Отойдя в сторону, Мирко и Уча остались вдвоем. Уча кратко информировал Мирко о дальнейшем движении отряда и сразу заговорил о том, что мучило его весь этот вечер.
– Сегодняшний день – самый тяжелый в моей жизни.
– Да, и мне тяжело.
– Интересно, что думают бойцы. Ты что-нибудь слышал?
– Нет, все молчат. Но я вижу, что они переживают. Впрочем, когда я шел вдоль колонны, я слышал один разговор. Только в темноте я не мог распознать, кто говорит. Один говорил: «Молодец он, герой». А другой не соглашался: «Нет, – говорит, – это не геройство, геройство – другое».
– А ты как думаешь, Мирко? Герой он или нет?
– По-моему, нет.
– А мне кажется, что герой. Я весь вечер только об этом и думаю. Ты скажи, кто бы мог так держаться? Ты слышал, что он сказал перед смертью Вуку?
– Слышал, но во всем этом не было никакого смысла.
– Нет героизма вне цели. Только в зависимости от цели мы называем поведение людей то героизмом, то трусостью, – говорил Мирко готовыми фразами, придуманными специально для дневника, куда он собирался занести этот случай. – До войны я прочел где-то такую фразу: «Нет героизма в борьбе против отечества». Значит – и против свободы. Когда я пошел в партизаны, я записал эти слова, как эпиграф к своему дневнику. Мне они очень понравились. – Молодой полиграфист даже и сейчас выражался, как все студенты.
– Может быть, то, что ты говоришь, мудро, но я не согласен с тобой. Когда человек, пусть из гордости, умеет владеть собой так, как Гвозден, по-моему, это героизм.
– Я уверен, что он держался так из упрямства. Он хотел отомстить нам, взорвать отряд изнутри.
– Нет! Он вел себя так прежде всего из гордости. Я никогда не думал, что у крестьянина может быть столько достоинства. И, знаешь, Мирко, без гордости нет героизма. Самый прекрасный и самый редкий героизм тот, в основе которого лежат гордость и честь. Я не оправдываю позиции Гвоздена по отношению к отряду и к нашей борьбе, я считаю его предателем и поэтому голосовал за расстрел. Но я удивляюсь стойкости и храбрости, которую он проявил после приговора. Ты видел, какое действие это произвело на людей? Я убежден, что, если бы Павле не действовал так быстро и так решительно, весь отряд встал бы на защиту Гвоздена, хотя большинство его осуждало и презирало.
Но Мирко, видимо, не хотел продолжать этот разговор. Он упорно молчал. Уча решил, что партизан не только не согласен с ним, но решительно настроен против. Командир разозлился. Ему очень хотелось сказать Мирко прямо в лицо, что нет ничего глупее и никчемнее человека, который, прочитав несколько книг, ничего ровным счетом в них не понял, а теперь лезет в интеллигенты да еще других собирается учить уму-разуму. Но вместо этого он только строго-настрого велел Мирко следить за арьергардом.
Склон был покрыт глубоким снегом, но колонна спускалась с горы быстро. Уча все время поторапливал бойцов, разрешая только изредка делать короткие привалы. Надо было до зари выйти из гор и провести колонну мимо деревни, где был расположен вражеский гарнизон. Стоял лютый мороз, и, вероятно, поэтому у него тупо ныла рана. Чем ближе подходили они к селам в предгорье, где отряд мог столкнуться с немцами, тем больше возрастали страх и сомнения Учи в успехе операции. Он все сильней ощущал в себе разлад между партийным долгом и голосом собственной совести и был близок к отчаянию. Несколько раз он готов был остановить отряд и приказать ему двигаться в противоположном направлении. И все же он чувствовал, что у него не хватит сил сделать это; что-то толкало его вперед, словно лодку, увлекаемую потоком в ворота плотины.
В эту ночь и военное счастье повернулось к нему спиной. На заре, когда они уже кончали спускаться, рота наскочила на немецкую засаду. Вряд ли кто-нибудь мог сказать, как это произошло: то ли просто по неосторожности, то ли они неправильно оценили обстановку, то ли еще по какой причине.
Немцы спокойно пропустили дозор и голову колонны и, выждав, пока вся рота попадет под прицел, разом открыли ураганный огонь. Застигнутые врасплох, партизаны растерялись и бросились беспорядочно бежать. Большинство бежало по редкому мелколесью назад в горы, даже не стреляя.
– Не бежать! Не бежать! Ложись! Бей! Товарищи, огонь! – кричал Уча, опускаясь на колено и стреляя в группу немцев, видневшуюся сквозь утренний туман.
В ярости и отчаянии он продолжал командовать и стрелять, твердо решившись не отступать, хотя по нему били два немецких пулемета. Только через некоторое время на горе затрещали партизанские пулеметы и послышались винтовочные выстрелы.
Светало. Он вынужден был покинуть свое укрытие. Правда, густой туман защищал его, но зато в тумане он легко мог наскочить на неприятеля. Чувствуя себя самым несчастным человеком на свете, Уча стал медленно отходить. Отступая, он наткнулся на комиссара роты Мирко.
Очередь прошила ему голову, прежде чем он успел снять винтовку. Стоя возле убитого, Уча несколько минут неподвижно смотрел на него. Вдруг он вспомнил о дневнике и снял с Мирко сумку. Он был в такой ярости, в таком отчаянии, что у него не хватило сил для жалости. С чувством страшного ожесточения он повернулся и пошел в гору. Стрельба продолжалась, постепенно слабея. Партизаны теперь тоже вели огонь, стреляя наугад в туман. Уча наткнулся еще на несколько трупов, но уже не стал останавливаться возле них. Отчаяние его переходило в равнодушие. Когда Уча догнал наконец партизан, ему хотелось выругаться, но у него не хватило сил.
– Замаскируйтесь, и чтобы ни одна живая душа не двинулась с места! Застрелю!.. Патронов зря не расходовать! – Это было все, что он произнес. Он сел под куст молодого можжевельника и стал всматриваться сквозь туман в том направлении, откуда могли появиться немцы.
«Я неудачник, несчастный и дурак. Так мне и надо. Я сам во всем виноват. Что теперь делать? Куда я пойду с потрепанной ротой? Я даже не знаю, сколько человек погибло. Да разве теперь это важно! Я открыл немцам наше направление, они подтянут силы и будут ждать, когда мы подойдем на расстояние выстрела. Да если бы мы и пробились, они станут преследовать нас и загонят на Копаоник. Дурацкая тактика!..» – думал Уча, беспомощно качая головой. Что же делать? Отказаться от намеченного маршрута и вернуться в горы? Нет, это неправильно; это значит нарушить решения штаба и партии. На войне нельзя поступать как кому хочется. Подчинение – закон войны, и если есть в отряде человек, который должен отвечать за дисциплину и повиновение, так это именно он. И неужели же он, командир, нарушит теперь дисциплину? Так, не желая подчиниться этому закону, погиб Гвозден. Почему же он, Уча, не отстаивал тогда свое мнение? Почему согласился с тем, во что ни капли не верил? А теперь, когда он остался один, когда никто не противостоит ему, когда комиссар роты погиб, он станет менять решение штаба?.. Нет! Но он убежден, что это решение неправильно и ведет к разгрому отряда. И ведь именно командир, а никто другой, призван решать военные дела отряда. Обязанность командира поступать так, как он считает наиболее полезным. Действовать иначе – это значит предать борьбу.
Уча ломал голову, не зная, на что решиться. Посоветоваться было не с кем. Может быть, следует поговорить со своим заместителем? Но партизаны сообщили, что заместитель исчез сегодня утром – вероятно, погиб.
– Сколько людей мы потеряли? – спросил Уча. Было уже около полудня, когда он вспомнил об этом.
Вуксан, который теперь считал себя вторым лицом после Учи, подошел к нему грустный, как будто он был виноват.
– Погибло одиннадцать товарищей… Раненых мы не сумели вынести. Если они были, немцы, конечно, перебили их.
– Одиннадцать!.. Одиннадцать мертвых! Бабы! Убежали, как козы! Кто вам велел отступать? Вы слышали мою команду?
– Почему ты кричишь на меня, товарищ Уча? Я дрался, ты ведь слышал пулемет. Что же я мог еще сделать? Я и обернуться не успел, как все разбежались.
– Да что там твой пулемет! Что толку, что ты дрался! Созови роту! На вершине пусть останется автоматчик!
Вуксан ушел, обиженный и мрачный.
Молчаливые, нахмуренные, измученные ночным маршем, партизаны молча собирались. Они озябли и совсем упали духом.
– Кто вам приказал отступать? Вы кто – партизаны или четники? Вы воевать хотите или бегать? Мы не банда обреченных, мы армия коммунистов! Вы понимаете это? Вы чем думаете? Ну, чего уставились на меня?! Немцы потому и перебили столько народа, что вы бежали, словно козы! Позор! Надо было всех, как скот, перебить! – кричал Уча, трясясь от ярости. – Если кто-нибудь хоть раз еще попробует побежать от немцев, я убью его как изменника! Вы обязаны слушать мою команду. Смерть так смерть! Вот и все! По местам!
Партизаны стояли и переглядывались. Они хорошо знали вспыльчивый характер Учи, его привычку кричать. Его часто критиковали за это на собраниях отряда. Но никогда еще он не вел себя так, как сегодня. Оскорбленные поведением своего командира, партизаны молча разошлись.
Уча кипел от ярости. Взваливая всю вину за утреннее поражение на партизан и на их трусость, он продолжал ругаться про себя. Охваченный гневом, Уча на некоторое время совсем забыл о том, что его терзало и мучило.
К полудню туман рассеялся, показалось голубое небо и на слабом зимнем солнце засверкал снег. Внизу, в кустарнике, глухо прокричал дрозд. Над видневшимся вдалеке селом светлой пряжей потянулся к небу дым.
Вскоре немцы, расположившиеся на другом гребне, заметили партизан и открыли по ним огонь из пулемета. Но эта стрельба издалека опасности не представляла. Уча приказал партизанам не отвечать. Сидя на корточках или лежа за кустами можжевельника, они слушали привычный свист пуль.
Уча упрямо ходил от куста к кусту, наблюдая за бойцами.
Односторонний огонь продолжался почти до ночи. Когда в темной синеве неба появилась ясная и дрожащая первая звезда, рота двинулась в путь.
19
В эту ночь роте Павле удалось без единого выстрела выбраться из окружения. Отряду предстояло выйти к Западной Мораве, тайком переправиться через реку, а затем двинуться на Левач и Шумадию. Людей, которые должны были обеспечить лодки для переправы, знал только связной Йован.
На день рота расположилась в двух крайних домах селения, и Павле послал Йована установить связь с другим берегом. Йован должен был перебраться ночью через реку и завтра вечером в условленном месте ждать с лодками.
Йован, в новой крестьянской одежде, с револьвером и гранатами, без всякой помехи прошел по деревне и вышел на дорогу, спеша до темноты добраться до первой явки. Там его должны были перебросить на другой берег. Но крестьянина, до которого он добрался вечером, арестовали два дня назад. Жена крестьянина сообщила, что немцы потопили на Мораве все лодки и паромы, оставив лишь несколько для собственного пользования. Но их охраняли недичевские жандармы. Известие это сильно встревожило Йована. Очевидно, немцы нащупали направление, по которому двигались партизаны, и решили, что отряд будет искать переправу.
Йован не стал терять времени. Он решил, не колеблясь, перейти реку и любой ценой выполнить задание. Но ему не удалось в деревне найти людей, которые бы согласились перевезти его на ту сторону, и он отправился искать лодку. Йован рассчитывал, что, невзирая на угрозу смертной казни, крестьяне, как всегда, обошли приказ немецкого командования, и он надеялся как-нибудь перебраться возле одной из мельниц.
Но в эту ночь на мельницах, где в любую погоду кто-нибудь, да ночует, не оказалось ни мельников, ни лодок у плотин. Ночь была ясная, лунная. Йован брел по берегу Моравы и, увидев мельницы, принимался стучать в двери, кричал, грозил и уговаривал. Но все мельницы были пусты. Привязанные к берегу стальными канатами, они, скрипя, качались на воде. Время шло, беспокойство и нетерпение все сильней охватывали Йована. Однако он не терял надежды отыскать лодку. Он продолжал бродить взад и вперед, спускался к заливам, шарил в кустах и упорно искал лодку даже там, где ее заведомо не могло быть. Потеряв всякое представление о времени, он все ходил и ходил, и только рассвет, с которым пришла усталость от бессонных ночей, напомнил ему о поджидающей его опасности.
Заря застала его возле одной из мельниц. Из трубы валил густой дым, внутри были люди. Йован спрятался в ивняке и решил подождать, пока наступит день, чтобы хорошенько все высмотреть. Он надеялся, что найдет здесь лодку и сумеет переправиться.
Морава с шумом вертела мельничное колесо. Слышался тихий, усыпляющий шорох жернова. Мороз обжигал лицо, как крапива, пробирался под одежду. Йована клонило ко сну. Боясь заснуть, он руками открывал веки, но сон победил. И, как птица, опустив голову на грудь, он заснул в кустах.
Его разбудил чей-то свист. Йован вздрогнул, сердясь на себя. Ему казалось, что он спал долго. От холода у него стучали зубы, но он и пошевелиться не смел. Почти рядом с собой он увидел двух крестьян. Засунув в рот пальцы, они громко свистели, вызывая мельника.
Против мельницы, на другом берегу, стояли сани, нагруженные какими-то мешками. Покрытые попонами волы неподвижно смотрели на холодную воду. У столба чернела привязанная лодка, волны с плеском качали и подбрасывали ее. На пустынном белом поле грустно чернели деревья. Растрепанные кусты торчали на межах. Вода причудливо обтачивала ледяные кромки вдоль берегов, от нее на морозе шел пар, как от кипятка.
Наконец на свист вышли два мельника, они сели в лодку и начали грести к противоположному берегу. Йован обрадовался, но решил переждать, пока перевезут крестьян. Когда они высадились, он вышел из кустов и, засунув в рот пальцы, несколько раз свистнул. Ждать пришлось недолго. Лодка скоро вернулась. Йован поздоровался и, внимательно оглядевшись, спустился в лодку. Ничего подозрительного как будто не было. Йована удивило только то, что его ни о чем не спросили – это было непохоже на крестьян. Перевозчики, они же мельники, были, как обычно, осыпаны мукой. Мука осела на усах и ресницах. Йован сидел, слушая, как прозрачная зеленоватая вода размеренно плещется о нос лодки, рассекающей течение. Несмотря на сильный мороз, в плеске воды, в тумане, поднимавшемся над рекой, было что-то сонное и теплое. Забыв об опасности, Йован весь отдался движению. Ему хотелось бы так плыть целый день. «Ляжешь в лодку, и пусть плывет, куда хочет. Несет ее течение, вертит, а ты глядишь на кусты, на маленькие облачка в небе и дремлешь. Так и уснешь. Вот кончится война, так я и сделаю! Достану лодку, запасусь едой на несколько дней, возьму удочки и отправлюсь по Мораве до самого Джердапа». Лодка ударилась носом о мельницу, подалась назад и закачалась. Мельник постарше, стоявший на коленях у руля и державшийся одной рукой за стальной трос, перекинутый через реку, схватился за борт и обернулся к Йовану.
– Теперь плати двадцать динаров, а потом иди вон по тому бревну и через мельницу на берег!
Йовану не понравился его резкий, грубый голос. Он хотел ответить дерзостью, но сдержался. Заплатив, он поднялся на бревно и, придерживаясь рукой за шест, прошел мимо колеса, лопасти которого равномерно и лениво то поднимались, то опускались в воду, роняя дождь прозрачных капель. Не подозревая опасности, Йован отворил скрипучую дверь мельницы. Там сидели недичевцы…
Йован резко остановился, отпрянул, словно собираясь бежать, и оцепенел… У него мелькнула мысль прыгнуть в Мораву, и он потянулся было рукой к револьверу, но в ту же секунду испуганным голосом произнес:
– Доброе утро…
Пристально посмотрев на него, жандарм схватился за винтовку и вместо приветствия крикнул:
– Документ! Покажи документ!
– Потише, потише, зачем же винтовки? Можно бы и повежливей… – заговорил Йован, только чтобы выиграть время. «Граната… Прыгнуть в Мораву… Граната…» – мелькнуло у него в голове.
– Показывай документ, чего тянешь?! – заорал жандарм с красным, как обожженный кирпич, лицом и приставил к груди Йована винтовку.
Времени для раздумий не было. Ствол винтовки упирался ему в грудь, прямо в сердце, стучавшее часто-часто. Засунув руку в карман Йован достал удостоверение. Краснорожий унтер-офицер вырвал его, остальные жандармы с винтовками наготове окружили Йована. Пока недичевец читал фальшивое удостоверение, что заняло у него довольно много времени, Йован, работа которого и опыт связного научили быстро и сосредоточенно думать, успел сочинить свой рассказ.
– Нехорошо так обращаться со мной. Вы знаете приказ… – начал он дерзко, но ему не дали договорить.
– А ты хочешь, чтобы мы тебя чаем с вареньем угощали? Приказ тебя не касается? Что за приказ?
– Да приказ, который вы получили из штаба о нас, о связных.
– Я тебя не спрашиваю! Покажи разрешение на переход в другой срез! – крикнул жандарм, внимательно и недоверчиво разглядывая буквы печати.
– Что мне разрешение! Нет у меня никакого разрешения! – вызывающе ответил Йован.
– А кто вы такой, что ходите без разрешения, скажите, пожалуйста?! – громко спросил унтер-офицер, сверкая крохотными птичьими глазками. И не успел Йован ответить, как он заорал: – Руки вверх! Я вижу, что ты за птица!
Йован медлил. В голове его, словно искры, пролетали отрывочные мысли.
– Руки вверх, когда приказывают! Убью! – заревел унтер-офицер. Толстые, как ремни, жилы вздулись у него на висках.
– Да что с вами? Погодите, давайте договоримся! Я не…
Но Йован не кончил. По знаку начальника жандармы кинулись на него сзади. Он извивался, вырываясь, бил их ногами, но они справились с ним. Двое жандармов держали его, третий обыскивал карманы и, нащупав у него под поясом револьвер, крикнул:
– А-а! Так вот где твое разрешение! – и вытащил парабеллум.
– Граната! – воскликнул четвертый, доставая из кармана резную «крагуевчанку» [38]38
В Крагуевце находятся крупнейший в Югославии военный завод и арсенал.
[Закрыть].
– Еще одна! – добавил державший Йована и извлек из его кармана гранату без запала.
«Что теперь делать? Неужели я так и погибну?» – думал Йован, скрипя зубами от боли в предплечье.
– Так ты коммунист? Мать твою… – понизив голос, выругался унтер-офицер.
– Думай, прежде чем говорить! Я связной Кесеровича [39]39
Кесерович – командир Расинского четнического корпуса. В 1945 году расстрелян по приговору военного суда Народно-освободительной армии Югославии.
[Закрыть]. Вы меня попомните! – кричал Йован, кривясь от боли. Жандармы все сильней выворачивали ему руки. – Поплывете завтра по Мораве, как Тоза из Куклина! – прибавил он, намекая на жандарма, которого четники убили и бросили в Мораву за то, что он ослушался их.
– Ты что ж, дураками нас считаешь, а? Только больно ты мелок. У меня в руках и покрупней звери бывали! Говори, из какого отряда и куда идешь? – продолжал допрашивать краснорожий унтер.
– Никакой я не зверь! Слышишь ты? Я связной Кесеровича! Как вы смеете! Вы мне дорого заплатите! Погодите только! – кричал Йован. – Забились в города! Как сыр в масле катаетесь! А мы мерзнем в горах!
Жандармы вопросительно уставились друг на друга. Державшие Йована за руки несколько отодвинулись.
– А к кому ты идешь? Где твой пункт? – Унтер-офицер и не думал снижать тона.
– В Левач!
– К кому, спрашиваю?
Йован, как назло, не знал ни одного командира четников в Леваче. Не теряясь, он сразу ответил:
– Тебя это не касается!
– А раз меня не касается, вяжите его! – разозлившись, скомандовал унтер.
– Вяжи, кто посмеет! Я его запомню!
Жандармы быстро и ловко связали его и цепью крепко-накрепко скрутили за спиной руки.
– Последний раз говорю – пустите меня. Мне нужно во-время добраться до места назначения. Пустите, а то завтра ночью ваши жены будут искать вас вместе с мельниками в Мораве.
– Грози лучше своему папаше, который сделал такого дурака! – ответил унтер-офицер и изо всей силы ударил его по лицу. У Йована пошли перед глазами круги.
– И за это заплатишь! – сказал он, придя в себя. – Я требую, чтобы вы немедленно провели меня к вашему командиру.
– Не шуми! Об этом и просить не надо.
– Если ты действительно тот, за кого выдаешь себя, никто и пальцем тебя не тронет. А если врешь, тогда простись со своей головой, – прибавил другой жандарм, смущенный дерзостью и упорством Йована.
– Ну-ка, вы, двое, проводите его в срезское управление да захватите его оружие… на всякий случай, – уже спокойней сказал унтер.
Йован шел под конвоем жандармов по занесенной снегом дороге и раздумывал, нельзя ли как-нибудь сбежать или уговорить конвойных отпустить его. Если они доставят его в срез, ему будет трудно вырваться. Его могут там опознать, перед войной он частенько ездил туда. Они легко установят, что он не связной четников, а тогда – гестапо и конец!.. Повесят!.. Рота не сможет переправиться через Мораву. Ее обнаружат на равнине и уничтожат, и в этом будет повинен только он. Как он мог быть так неосторожен и ненаходчив! Надо было швырнуть гранату и броситься в Мораву. Ничего бы с ним не сделали. А теперь, со связанными руками, не убежишь. Его убьют при первой попытке к бегству… Что же делать? Связной Кесеровича – а почты при нем нет. Идет к командиру, а имени его не знает. В штабе четников тоже никого не знает. А в срезском управлении у него, конечно, станут спрашивать имена. Что он наделал? Как это случилось? Испугался и глупейшим образом влип. Нет, он должен вырваться.
Капли холодного пота, словно мелкие рисовые зернышки, проступили у него на лбу. Одна едкая соленая капля покатилась вниз, обжигая ему глаз; оттопырив нижнюю губу, Йован стал дуть вверх, стараясь разогнать эти назойливые капли, повисшие у него на ресницах.
Морозный плотный воздух обжигал лицо. Скрипел под ногами снег. По дороге ехали крестьяне в санях, нагруженных хлебом, свиными тушами, бочками вина – немцы забирали все. Сани скрипели и трещали на поворотах. От вспотевших волов валил пар. Озябшие крестьяне суетились возле саней, покрикивая на волов, то и дело подтыкая рогожу; они боялись, как бы чего не обронить. По заснеженной дороге с котомками, корзинками и узлами, согнувшись и прихрамывая, плелись крестьянки, закутанные в темные шали. Когда Йован с жандармами обгонял женщин, они громко, стараясь, чтобы он слышал, начинали причитать, словно на поминках:
– Чем же прогневил господа бога этот несчастный? За что они его связали?.. Молоденький еще, вот матушка его горемычная!
Йована коробило от этой жалости, он ускорял шаги и каждый раз твердо решал бежать на следующем повороте! Будь что будет!
Жандармы молчали. Время от времени кто-нибудь из них щелкал ремнем, забрасывая винтовку за спину. Они шли на положенном расстоянии от пленного. Это были, видно, опытные солдаты, их нелегко будет провести. Йован пристально глядел вперед, и каждый раз ему казалось, что на том вот крутом повороте или возле этой рощицы он сможет убежать. Но дойдя до намеченного места, он каждый раз убеждался, что ничего не выйдет. Куда броситься? Где спрятаться? Кругом открытое поле. Его застрелят на месте. Быть может, это все-таки лучше, чем попасть в гестапо? Нет, необходимо что-то придумать. Вот он, словно мелкий деревенский воришка, идет в жандармерию, где его, вероятно, убьют, а рота напрасно будет ждать вечером у переправы. Без него бойцы не сумеют перейти реку. Куда им тогда деваться? Из-за его трусости пострадает целая рота!.. Нет, уж лучше погибнуть!..
Он окончательно пал духом и готов был заплакать от собственного бессилия и злости. Надежды на побег больше не было. Он решил прощупать жандармов.
– Ну и мороз! Мать его… – заговорил он впервые за всю дорогу. – Что это мужики бросились в город, словно овцы на соль?
Жандармы молчали.
«Хитрая сволочь! Погодите-ка, я с другой стороны к вам подъеду!» – подумал Йован и продолжал:
– Один английский майор неделю назад спустился в наш штаб на парашюте, так он говорил, что зима у нас холодней, чем в Англии. Обещал передать по радио, чтобы нам прислали меховые сапоги. А Старик ему и говорит: «Не нужны нам сапоги, мы привыкли к опанкам. Вы нам пушек подбросьте и тяжелое оружие, а с обувью мы и сами обойдемся».
– А подбрасывают они вам? – спросил, не удержавшись, жандарм.
– Как не подбрасывать! Каждую неделю прилетают два транспортных самолета. Получили мы взрывчатку, чтобы взрывать железные дороги, противотанковые ружья, бесшумные револьверы для покушений, боеприпасы, канадскую муку, белую, как снег, обмундирование, рубашки – в общем, всякие чудеса! А когда спускался майор, они сбросили несколько мешков шоколада и сахара.
– Значит, жизнь у вас неплохая?
– Нет, неплохая. Живем лучше, чем до войны. Об этом все офицеры открыто говорят. Только нам вот, связным, достается от ходьбы, да и на дорогах всякое случается.
– Что поделаешь, служба есть служба! – прервал его конвоир. – Станешь офицером – не будешь болтаться пешком. А нам разве легко? Чуть что – в бой с партизанами. А с ними не просто. Налетают как бешеные. Ни пуль, ни штыка не боятся, чудной народ.
– Да и у нас последнее время неспокойно. Несколько дней назад потрепали у нас топличскую бригаду. – И Йован начал пространно рассказывать о партизанах, о их смелости и энергии. Он добавил, что в последнее время в деревнях появилось много сторонников партизан, и Кесерович приказал уничтожать не только их, но и семьи.
– А вы слышали, что англичане подбросят оружия и мы с вами весной объединимся в одну армию под командованием Драже Михайловича?
– Да, поговаривают. Только, видно, время для этого еще не пришло, – серьезно ответил ему жандарм.
Разговаривая так, они поднялись на возвышенность, с которой был хорошо виден городок…
– Послушай, брат, отпустите вы меня, – сказал Йован, обращаясь к жандарму постарше. – Зачем мне таскаться попусту по канцеляриям! Завтра ночью я должен быть в Калениче, там меня ждет лично связной от Драже. Никак не пойму, что это с вами сегодня утром случилось. Ведь все посты полевого охранения получили приказ встречать связных и провожать через свои районы. Мне ничего не будет, но я боюсь повстречаться с гестаповцами. Если они меня узнают, мне трудно будет выпутаться. Да как бы и вам не попасть в беду.
Жандармы о чем-то пошептались меж собой.
– Мы бы отпустили тебя, если б смели. Повстречайся ты нам один, мы и задерживать бы тебя не стали. А теперь нам нельзя. Унтер-офицер со света сживет. Состряпает рапорт – нас и упекут за решетку.
– Ну, что там унтер-офицер! Я запишу ваши имена и доложу нашему начальнику штаба. Он все устроит, не бойтесь.







