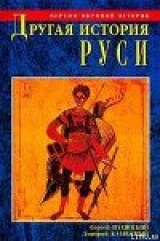
Текст книги "Другая история Руси. От Европы до Монголии"
Автор книги: Дмитрий Калюжный
Соавторы: Сергей Валянский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Страна Ордения
Обратимся к двум арабским книгам: «Книге Путей и Государств» Ибн-Хаукаля, которую историки относят к 967 году, и «Книге Климатов» Аль-Истахри, якобы написанной в то же время. В них дана общая этнографическая схема «трех русских племен»: это Киевляне, Славинцы и Орденцы. Вот что написано в «Книге Климатов»:
«Русь состоит из трех племен, из коих одно ближе к Булгару, царь его живет в городе, называемом Куяба (считается за Киев), который больше города Булгара. Другое племя называют Славия, а третье племя называется Артания, и царь его находится в Арте (таков традиционный перевод; на наш взгляд, правильнее – в Орде).
Купцы из Византии ездят в Куябу, что же касается до Арты, то никто туда не входит, ибо жители убивают всякого чужестранца, путешествующего по их земле. Из Арты вывозятся черные соболи (такие соболи обитают только в районе озера Байкал, на Руси в тогдашних границах они не водились) и свинец. Русы сжигают тела свои, когда умирают, а вместе с богатыми сжигаются их девушки для блаженства душ их. Одежда их – короткие куртки (ложь). Арта находится между Хазаром и Великим Булгаром, граничащим с Румом к северу. Они (артенцы или орденцы) многочисленны и так сильны, что наложили дань на пограничные места Рума. Внутренние же Булгары – христиане».
Как видим, «Книга Климатов» и «Книга Путей и Государств» могли быть написаны никак не в десятом, а не ранее XIII века, так как авторы знают уже, что третье племя русов было под властью крестоносных орденов, которые также наложили дань на «Рум», Ромейскую (Византийскую) империю. А нахождение Орды между Болгарией и Хазарией (Венгрией) показывает, что арабы имели уже точные представления о географическом положении славянских народностей.
Во всяком случае, название части русов орденцами является общепринятым у мусульманских писателей со времен крестовых походов, потому что кроме Аль-Истахри, Ибн-Хаукаля и Идриси, мы встречаем его у Ал-Балхи, Димешки, Ибн-Аяса, Ибн Аль-Варди и других.
Из сообщения же автора о черных соболях можно заключить, что автор никогда не видел их мехов; пассаж о привозе свинца (или олова) славянами-артанцами правилен только в том случае, если они жили в районе Татр-Карпатов.
Востоковед А. Я. Гаркави пытался согласовать сообщения из разных книг, упоминающих Артанию. Он высказал такое мнение, что это название возникло от мордовского племени Эрзя, считая за город Арта Арзамас. А что касается до того, что Истахри причисляет мордовскую Эрзю к Русам, то это сделано просто по незнанию, или же на основании того, что эрзяне были по имени русами. Если встать на такую точку зрения, то получится, что мусульманские писатели обнаружили в России три племени русских: киевлян, волжских булгар и мордву.
Лишь став на нашу точку зрения, мы всё тут приведем в порядок. Три племени Русов были: киевляне (теперь украинцы), славинцы (юго-западные славяне) и орденские славяне (великороссы), находившиеся тогда в унии с католиками под протекторатом одного из крестоносных орденов.
Исследователи творчества Аль-Истахри считают, что у него в географических представлениях большая путаница. Он, например, ничего не знал о Каспийском море; его Хазарское море при общем сопоставлении сказаний есть ни что иное, как Черное море, а река Итиль более похожа на Дунай, чем на Волгу. Но скажем прямо: часть этой «путаницы» возникла не у Аль-Истахри, а в головах его исследователей.
Вот что еще пишет он в своей «Книге Климатов»:
«Что касается Хазар, то это имя племени людей, а не название столицы, имя их столицы Итиль: она названа так по реке, которая протекает по ней в Хазарское, по нашему словопроизводству в Кайсерское море. Хазары находятся между Хазарским морем, Русом, Руззией (византийские узы?) и Сериром, иначе Сербаром (такова арабская транскрипция слова Сербия, – примечание Гаркави).
Что же касается до реки Итиль, то она вытекает вблизи Кархиза (нет никакого созвучия с Тверской областью, из которой вытекает Волга), течет между Каймакией (Кумакией?) и Гуззией (Узией? – ни то, ни другое не имеют созвучия с Ярославской и Костромской областями, через которые течет далее Волга, с которою отождествляют эту „Итиль“), так что образует границу между ними. А затем Итиль течет к западу (чего нигде не делает наша Волга) по верхнему Булгару и обращается опять к востоку, пока не проходит по Руси, потом по Булгару (как, снова?), затем по Буртасу, пока не впадает в Хазарское море».
Примените все эти три описания к Волге, хотя бы даже взявши Каму за ее начало, и у вас не окажется даже и тени подобия. А если считать за Итиль Дунай, признав за его верховья также его притоки Тиссу и Прут, то подобие с «Итилью» видно сразу.
Если считать, что эта книга описывает некую реальность, тогда выйдет следующее. Вся Татрская область и земли, находящиеся в унии с папской церковью через посредство светских и духовных католических орденов, естественно называлась мусульманами Орденией со столицей этой области Ордой. Там находилась резиденция папского наместника (примаса Русов), а потому и показания арабских писателей получают логический смысл и даже освещают нам общее положение дел на славяно-русском Востоке в том самом виде, как мы вам это положение дел только что обрисовывали.
Летопись другого арабского писателя, Ибн-Эль-Асира «Совершенство по части летописания», издана в XIX веке. Считают, что автор жил с 1160 года по 1233 год в городе Моссуле, и сам на черноморском побережье не бывал. Этим объясняется замечание редактора русского перевода В. Тизенгаузена: «Рассказы свои о татарах он почерпнул, по-видимому, частью из расспросов очевидцев, частью из дошедших до него слухов» (что, на наш взгляд, одно и то же). Однако при правильной точке зрения на татар оказывается, что он передал слухи вполне правдоподобно:
«Когда Татары овладели землею Кипчаков и Кипчаки разбрелись, как мы рассказали, то большая толпа из них ушла в землю русских; это страна обширная, длинная и широкая, соседняя с ними, и жители ее исповедывают веру христианскую. По прибытии к ним кипчаков (генуэзцев) все собрались и единогласно решили биться с Татарами, если они сойдут на них.
Татары пробыли некоторое время в земле Кипчакской, но потом в 620 году (эры Хиджры; в нашем летоисчислении это 4 февраля 1223 – 3 февраля 1224 года) двинулись в страну Русских. Услышав весть о них, Русские и Кипчаки, успевшие приготовиться к бою с ними, вышли на путь Татар, чтобы встретить их прежде, чем они придут в землю их, и отразить от нее. (Совместное войско составило якобы 80 000 человек.)
Известие о движении их дошло до Татар, и они обратились вспять. Тогда у Русских и Кипчаков явилось желание (напасть) на них, полагая, что Татары повернули вспять со страху перед ними и по бессилию сразиться с ними, они усердно стали преследовать их.
Татары же не переставали отступать, а русские и кипчаки гнались по следам их 12 дней, (но) потом татары обратились на Русских и Кипчаков, которые заметили их только тогда, когда уже наткнулись на них. Для преследователей это было совершенно неожиданно, потому что они считали себя безопасными от Татар, будучи уверены в своем превосходстве над ними. Не успели они собраться к бою, как на них напали Татары со значительно превосходящими силами. Обе стороны бились с неслыханным упорством, и бой между ними длился несколько дней. Наконец Татары одержали победу».
Затем идут подробности о беглецах и о преследовании их татарами, и параграф кончается словами: «Рассказывал об этом деле участвовавший в нем».
Но если татары отступали на восток, откуда, по традиционной версии, пришли, то каковы же были интересы западных русских князей для участия в такой авантюре, как погоня за ними? Если армия в 80 000 человек двинулась в пустынные степи, то чем же она там питалась?
На самом деле население генуэзских северо-черноморских колоний (половцы и кипчаки) бежало после завоевания их земли немецким орденом; кипчакское купеческое государство превратилось в Дешт-Кипчакское, то есть немецко-купеческое (Дейч-Кипчак). Немецкие «татары» (пришедшие с Татр) разбили генуэзцев, а затем проникли в Крым, где разграбили их главный город Судак. Так рассказывал Ибн-эль-Асир, и это подтверждается целым рядом других источников, восточных и западных.
Битва на Калке
В 1223 году, в дни нашествия крестоносцев со стороны Австро-Венгрии на славянские земли, Лаврентьевская летопись действительно отмечает приход иноземцев. Но никто, говорится в тексте:
«…не ведает, кто они суть и отколе изыдоша и которых одни зовут татарами, другие тауменами, а иные печенегами».
Часть сообщений об этом событии слово в слово повторяется в различных летописях, причем таумены чаще называются таурменами. (Слово «таурмен», возможно, от немецкого taur-manner, человек-башня: что-то вроде рыцаря, закованного в сталь от своей макушки до копыт коня.) Никаких «монголов» в летописях нет. Однако интересные вариации описаниях показывают, что их авторы пользовались еще и какими-то другими источниками.
Вот как описывает знаменитую битву «при реке Калке» Суздальская летопись (по списку Московской духовной академии):
«Того же лета побили Татарове князей Русских. По грехам нашим, приидоша языци незнаеми, при Мьстиславе князе Романовиче, в десятое лето княжения его в Киеве. И прииде неслыханная (рать), безбожники Моавитяне, рекомые Татарове, их же добре никтоже не весть ясно, кто суть и отколе приидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их; и зовут их Татары а иные глаголют Таурмени, а друзии Печенези. Бог же один весть их; но мы здесь писахом о них памяти ради, Русских князей и беды, яже бысть им от них. Слышахом бо яко многи страны поплениша: Ясы (Яссы в Румынии?), Обезы (Аббазию в Австрии?), Косаги (Кошице в нынешней Словакии?) и приидоша на землю Половетьскую (в Крым)».
А что это за «безбожные Моавитяне» упомянуты летописцем? «В земле Моавитской», на побережье Мертвого моря, как известно из Ветхого Завета, похоронен великий патриарх Моисей, выведший народ свой из Египта. Ну никак тут нету никакой Монголии, а вот крестоносных орденов здесь было создано латинянами, во времена их господства над Иерусалимом, немало. Однако пойдем дальше:
''Князю (половецкому) Юрию Кончаковичу было хуже всех Половцев, не мог устоять против них. Он бежал. Половци же не могли противитися им (таурменам), побежали до реки Днепра, а иных (таурмены) загнали до Дону и в луку моря, (это возможно, только если нападавшие шли с запада на восток) и там измерли убиваемы гневом Божиим и пречистые его матери. Много бо те Половци зла сотворили Русской земле. Того ради всемилостивый Бог хотел погубить безбожных сынов Измаиловых, Куманов (восточной части Венгрии), чтоб отмстить кровь христианскую. Победили те Татары и иные народы. И прошли всю страну Куманскую и прошли близь Руси. А Котян (половецкий князь) с иными князьями и с остатком Половцев прибежал туда, где вал Половецкий. Данил Кобякович (половецкий князь) и Урий (Юрий Кончакович) убиены были, а иные и многие Половцы разбежались в Русскую землю. Котян же был тесть Мстиславу Мьстиславичу Галицскому, и пришел с поклоном (с князьями) Половецкими в Галичь к князю Мстиславу, к зятю, и ко всем князьям Русским, и дары принес многие, коней, верблюдов и буйволов и девок, и одарил князей Руських, говоря так: «Нашу землю отняли сегодня, а завтра возмут вашу. Обороните нас, а если не поможете нам, мы ныне иссечены будем, а вы завтра иссечены будете».
И помолился Котян зятю своему о помощи. Мьстислав же (из Галиции с Карпат) начал молиться князьям, братии своей говоря: «Ежели мы, братие, не поможем им, то они предадутся тем (таурменам) и у них большая будет сила».
И так, подумавши много, русские князья взялись пособить Котяну, слушая моления князей половеческих. По бывшему совету всех князей в граде Киеве, створили решение: «Лучше нам встретить (таурменов) на чюжой земле нежели на своей», – и начали войска строить каждый в свою власть. И совокупили они всю землю Русскую противу Татарове и пришли к реке Днепру на Заруб острову Варяжьскому. Татарове же уведавши, что идут противу них князья Русские, прислали послов к князьям Русским: «Мы слышим, что против нас идете, послушавши Половцев, а мы вашей земли не заняли, ни городов ваших, ни сёл, и не на вас идем, но пришли, богом попущены, на холопов наших и на конюхов своих, на поганых Половцев („наших“, „своих“, „поганых“ – сами эти определения показывают, что пришельцы относятся к половцам, как и должны относится истинные паписты к „своим“ схизматикам). Заключите с нами мир, у нас с вами борьбы нет. Если бежат к вам половци, вы бейте их, а товар их (что показывает, что половцы – купцы) берите себе, ибо мы слышали, что и вам они много зла творят, того же ради мы их и отселе бьем».
Князи же Русские того не послушали, избили послов татарских, а сами пошли против них, но не дошедши Олешья стали на Днепре. И прислали Татарове второе посольство, говоря: «Хотя вы послушали Половцев и послов наших избили, и идете против нас, но уходите. Мы вас не затрагиваем ничем, всем нам (один) Бог».
Но (князья) отпустили ни с чем их послов. И пришла тут вся земля Половецькая и все их князья: из Киева князь Мьстислав со всею силою, из Галича князь Мстислав со всею силою, Володимир Рюрикович с Чернеговцами, и все князья Русские и все князья Чернеговские, и из Смоленьска 400 мужей и из иных стран на Заруб (считающийся за село Зарубинцы на Днепре, километров сто южнее Киева).
Тогда же князь Мстислав Галицький перешел Днепр с 1000 мужей, напал на сторожевые отряды татарьские, и победил их, а остаток их побежал с воеводою их Гемя-бегом, и им не было помощи. Услышавши сие, Русские князья пошли все за Днепр во множестве людей: и Галичане, и Волыньцы, и Куряне, и Трубчане, и Путивльцы (Путивль Курской губернии), каждые с своими князьями. Одни пришли на конях, а выгонцы Галичьски поехали в ладьях по Днепру, и пошли в море тысяча ладей и стали у реки Хортици на роде на рукаве реки (на повороте Днепра от юго-восточного направления к юго-западному, где на острове была потом Запорожская сечь). Был тут с ними домамеричь Юрья Держикрай Владиславовичь. Пришли вестовые в стан, говоря, что видели рать. Юрий сказал, что это стрельцы, иные говорили, что простые люди. Юрьев домамеричь молвил:
«Это ратники и добры воины. Поидем противу них!»
Все люди, все князья и Мьстислав Черниговский перешли реку Днепр (не слишком ли много переходов через Днепр?), и пошли на конях в поле Половецьское. И встретили Татарове полки Русские, но стрельцы Руськие победили их и гнали в поле далече, секущи их и взяли скотов их. Оттуда они шли за ними 8 дней до реки Калкы (где же она находится?).
Тут встретили их сторожевые Татарове, и ударили на Русскых, и Половцев, бившихся с полками Русскыми, и убит был тут Иоан Дмитриевичь (и еще два с ним). Татарове же отъехали прочь. На реке Кальце встретили Татарове Половецкыя и Русскыи полки. Князь Мстислав Мьстиславич повелел Данилу перейти реку Калку со своим полком и еще с иным полком, а сам после них перешел и зашел за реку Калку, и послал в сторожа Яруна с Половцами, а сам стал станом, и князь Мстислав поехал вскоре после них. Увидевши Татарьские полки он повелел быстро вооружиться.
А князь Мьстислав и другой Мстислав, сидя у себя в стану, не ведали ничего. Мстислав не сказал им из зависти, так как распря между ними была великая. Данил выехал наперед и (с ним) Семьюн, Олюевич и Василко был ранен и Данило ранен в грудь, но из-за молодости и буести не чюял раны, бывшей на теле его, ибо был он возрастом 18 лет и силен. Данил же крепко избивал Татары.
Увидев это Мьстиславь Немый подумал, что Данил ранен, и побежал сам в бой. Татары убежали. Данило избивал их своим полком, и Олег Курьский бился крепко. А Ярун и другие полки Половецькии побежали и потоптали бегущи станы князей Русских, а князи не успели ополчитися противу их. Пришли в смятение все полки Русские и была сеча зла и люта. Из за грехов наших Русские полки побеждены были, и даже Данил увидев, что крепчает брань Татарьская, обратил назад своего коня и тоже бежал от устремления противных. Зажаждав воды он пил, почуяв рану на теле своем. И была тогда победа врагов над всеми князьями Русскими, какой не бывало никогда от начала Русской земли. А великий князь Мьстислав Киевский, видя сие зло, не двигался с места. Он стал на горе над рекою Калкою, где место каменисто, и тут учинил город (ограду) из кольев, и бился с врагами в ограде три дня. Остальные же татарове пошли вслед Русских князей до Днепра… И убийство бесчисленное створили… И тогда же князь Мстислав Мьстиславич перебежал Днепр, и придя к ладьям, повелел жечь их, а иные разрубить и отринуть от берега, боясь погони по себе от Татар. Он едва убежал в Галичь, а князь Владимир Рюрикович прибежал в Киев и сел на своем столе. (Все правильно, Киев на правом берегу Днепра и чтобы попасть туда, не надо переходить реку, если битва была к западу от Днепра.)
Сия злоба створилась от Татар в 16 день июня. Татары победивши Русских князей за прегрешения хрестьянские, дошли до Новагорода Святополчьского. Русские, НЕ ВЕДАЯ ЛЕСТИ ТАТАРЬСКОЙ, ВЫХОДИЛИ ПРОТИВУ НИХ С КРЕСТАМИ,[65]65
Лесть – «угодливое (часто из корыстных побуждений), лицемерное восхваление»… Др. – рус. (с XI в.) и ст. – сл. «льсть» – «хитрость», «обман», – П. Я. Черных, «Историко-этимологический словарь». В летописи речь идет о том, что русские не поверили обману татаровей, что они – тоже христиане («Всем нам один Бог»), а потому и выходили против них с крестами, а те их избивали, в полном соответствии с идеологией 4-го Крестового похода против православия. Иначе – где же тут обман?! Дважды присылали татары послов для переговоров!
[Закрыть] а они избивали их'.
После этого в Лаврентьевском списке сделана позднейшая пояснительная вставка, которой нет ни в одной из Новгородских копий той же летописи:
«Но ожидал Бог покаяния христианского, и обратил Татар вспять от реки Днепра на Землю восточную (Öster-reich – Австрия?) и завоевали они землю Таноготскую и иные страны и тогда же и Чагониз кан их убит был».
Что это за «земля Таноготская»?.. Это Данао, или Дунай-готская земля. Начало слова от Данаос-данаец, как называли греков в связи с рекой Дунаем, откуда и легенда о его дочерях данаидах, то есть многих устьях Дуная, наполняющих водою бездонную бочку, Черное море. А конец этого слова – гот, германец, откуда слово готический. Это просто давние колонии германцев, вера которых отличалась (за давностью лет) от «истинной» католической веры. Называть тангутами жителей китайской провинции Кан-Су, которых сами китайцы называли Си-фан, нет никаких оснований.
А после этой вставки Лаврентьевский список содержит опять общий для всех копий текст, совершенно противоречащий тексту вставки: «Сие было нам за грехи наши, Бог вложил недоумение в нас и погубил без числа много людей; и были вопль, и вздыхание и печаль по всем городам и по волостям. Сих же злых Татар Таурмен не сведаем, откуда пришли на нас и куда делись опять. Только бог знает…» – фантастика! Если вчитаться в летопись, то картина такая: ушли татары на землю Восточную, и завоевали там народы (перечисление), и убит был там их вождь, хотя откуда пришли и куда делись – только Бог знает, а мы и не сведаем.
Таково летописное сообщение о поражении русских князей от татар-таурменов в 1223 году. Поразмыслим теперь над ним немного.
Из последних слов «не ведаем куда (татарове) делись опять, только Бог один знает» становится ясно, что текст написан никак не по следам событий, когда так называемое «татарское иго» едва началось, а значительно позже. И даже более того: написано это спустя много лет после отказа великого князя московского Иоанна III (в 1480 году) платить дань этим самым неизвестно куда девшимся татарам. Не могли же они «неизвестно куда деться» за 257 лет до отказа платить им дань; ведь кому-то же Русь платила! Даже сам суздальский список Московской духовной академии доводит свое повествование лишь до 1419 года, когда татарам еще платили дань. А основной Новгородский список, где о «Таноготской земле» и ее владетеле Чингис-Кагане вообще нет упоминаний, оканчивается на 1333 году.
Становится понятным, что если русские летописи и написаны по каким-то заслуживающим доверия первоисточникам, то они подвергались пояснительным вставкам и искажениям даже и в XVII веке, когда татарского ига уже не помнили старожилы. К тому же летописи редактировали из каких-то идеологических, религиозных соображений, ставя целью своей специально внедрить в умы читателей идеи, нужные редакторам.
Внедрили успешно.
Первоначально же это иго называлось «Татерским» или прямо «Татрским».
Латинское слово «иго»
Европейские «хвосты» высовываются в нашем отечественном «монголоведении» в самых неожиданных местах. Так, Е. П. Савельев в книге об истории казаков вдруг сообщает:
«Жан Жуанвиль, один из правдивейших французских историков того времени (1224–1238 г.), принимавший участие в пятом крестовом походе Людовика IX, откровенно говорит, что сам Магну-хан в присутствии французского посланника говорил одному русскому князю: „если Русь взбунтуется то мы пошлем за французским королем, чтобы стереть вас с лица земли“. Эта угроза побудила многих русских князей отдаться во власть татарам».
К выводу о связи захватчиков с Европой приводит и анализ отдельных эпизодов русской истории, с самого начала ига и до его конца. Рассмотрим подробнее некоторые из них.
Вот новгородский князь Александр в 1240 году в большой битве на Неве разбивает шведского полководца Биргера (от чего и получает свое прозвище «Невский»), затем наносит сильное поражение соединенным силам рыцарей Ливонского и Тевтонского орденов на льду Чудского озера (1242). А что же этот герой и победитель делает потом? Уж не сошел ли он с ума? В 1245 году он вместе с братом Андреем с великими трудами, по диагонали через всю восточную Европу скачет на нижнюю Волгу! Прибывает в кочевой город Сарай, в юрту к басурманскому Бате-хану, но тут дело становится еще хуже. Батя-хан велит ему продолжить путь, причем отправляет его за несколько тысяч километров, в Забайкалье, в какое-то урочище на реке Амуре к Великому Хану. Он едет и (счастье-то какое!) Великий Хан выдает ему неведомый документик, только при наличии которого князь и может княжить в Киеве и в том самом Новгороде, который он же сам спас от реального и близкого врага, от шведов и крестоносного ордена! Александр возвращается после долгого отсутствия с этим «ярлыком», а его брат Андрей с разрешением на княжение во Владимире. Потом за великую покорность и усердие Александр Невский получает из Забайкалья еще и ярлык на великое княжение во Владимире, и умирает через 11 лет (14 ноября 1263 года), после чего, несмотря на такую свою преданность поганым басурманам, причисляется православной церковью к лику святых.
Другое дело, если после своих блестящих побед над Ливонским и Тевтонским орденами он почувствовал, что они все-таки не оставят его в покое, и решил отдаться под покровительство более влиятельного гроссмейстера Ордена Святого Креста на Балканском полуострове. Возможно, он учитывал политический расклад: Ватикан с германскими императорами был «на ножах» и, конечно, защитил бы верного русского князя от немецких поползновений. И тогда, значит, поехал князь не в Сарай в степях за Волгой, а в Сараево в Боснии, где жил папский наместник. И послал его этот наместник не в дикое урочище на реке Амуре, а в Рим на реке Тибре, к римскому Великому Первосвященнику, и привез оттуда князь буллу на княжение (ярл). Поездка понятна и оправдана, ведь таким путешествием князь вполне обеспечивал свое княжество от нападений соседних с ним Ливонского и Тевтонского орденов. И он действительно этого добился, что и подтверждает наш вывод. За такое усердие он, естественно, был причислен к святым своею церковью, поскольку была она в то время униатскою и в Киеве, и в Новгороде, и во Владимире.
И вот вся историческая нелепица исчезает, а деяния русского князя получают вполне реальный смысл, отлично гармонирующий с феодальными отношениями в Европе того времени. Например, за семьдесят лет до этого император Священной Римской империи Фридрих I Рыжая Борода[66]66
Барбаросса.
[Закрыть] (1152–1190) тоже воевал против воли папы с итальянскими папистами, но в 1177 году поехал в Венецию, принес папе земной поклон и покаяние и, прощенный, был утвержден папой в императорских правах.
Также явно с европейской политической ситуацией связаны события времён окончания ига. Нам говорят, что, опираясь на дружественные отношения с крымским ханом Менгли-Гиреем Великий князь Московский Иоанн III Васильевич (1462–1505) перестал с 1480 года платить дань Золотой Орде, и так «прекратилось 240-летнее иго». Но ведь это совпадает с крушением латинских завоеваний на Балканах: отвоевание Царьграда турками произошло лишь за 27 лет до этого, в 1453 году, а еще раньше, в 1441 году Иерусалимский собор отверг унию восточной церкви с западной. Приободрившийся такими неудачами крестоносных орденов Московский Великий князь, представитель молодого поколения Иоанн III, опираясь на крымского союзника турок Менгли-Гирея отказался платить дальнейшую дань «Золотому Ордену». А если б дело шло о единоверных Гирею заволжских кочевниках, то с какой стати он стал бы помогать против них Московскому гяуру Ивану?
Так, начавшись одновременно с крестовыми походами, одновременно с ними и окончилось jugum tartaricum (иго на латыни, ярмо по-русски, хомууд по-монгольски). Хотя и после этого существовали рыцарские ордена, но были они лишь тенью прежних, утеряли свое могущество и платить им из Москвы дань стало так же смешно, как и возить ее в прикаспийские степи.








