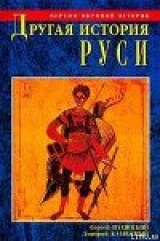
Текст книги "Другая история Руси. От Европы до Монголии"
Автор книги: Дмитрий Калюжный
Соавторы: Сергей Валянский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
РУСЬ ВЕНГЕРСКАЯ И СКАНДИНАВСКАЯ
Реконструкция истории
В воссоздании реальной истории Руси летописи мало чем помогают, если не научиться правильно их читать.[25]25
Официальная история Южной Руси приведена в приложении 6.
[Закрыть] Попробуем реконструировать историю предшествовавших роковому XIII веку столетий, так сказать, своими силами.
Мы писали уже о значении международной торговли в деле возникновения государств. Чтобы обслуживать торговый путь, нужен некий персонал. Но ему тоже нужно как-то существовать: где-то жить, питаться и одеваться. Все эти потребности можно удовлетворять за счет местного населения и его трудами. Население, конечно, для достижения поставленных целей нужно определенным образом организовать, то есть создать государство. И оно со временем создается путем утряски интересов, через конфликты, соглашения, новые конфликты и новые соглашения.
До появления на карте мира Руси среднее течение Днепра, одной из важнейших транспортных дорог средневековья, контролировали выходцы из венгерской Паннонии или подчиненные им племена: венгры, печенеги, хазары и так далее, совсем не «дикие кочевники».
В определенный момент на арену вышли северные германцы, решившие «взять на себя» торговлю севера с югом, благо избыток воинственного населения они имели всегда. Их поход частично описан как поход готов, но переселялся не народ целиком, а только отряды воинов. Женщин они с собой не вели, благоразумно рассчитывая на местный контингент, и это, кстати, послужило их последующей ассимиляции с туземцами.
Результатом северогерманской экспансии стало образование в 839 году Русского каганата в Киеве. Из-за этого начались трения с хазарами, а позже, когда устья рек, впадавших в Черное море, взяли в свои руки генуэзские купцы (половцы, тоже не дикие кочевники) – то и с ними.
Походы из Европы (из Венгрии) в Азию давали время от времени обратные потоки людей – внуки прежних переселенцев возвращались на «историческую родину»; но не всегда могли ее найти. Отсюда жуткие сообщения европейских авторов о нашествии монголоидных захватчиков с Востока, давшие основу мифу о походах гуннов и монголов. Скорее всего, такое нашествие случилось лишь однажды, но было «размножено» летописцами в различных вариантах. Если пришельцы – потомки бывших европейцев, становится понятным, откуда у них были железное оружие и хорошая военная дисциплина.
В летописных сообщениях следует искать лингвистические следы реального прошлого, учитывать географическую и экономическую возможность и целесообразность тех или иных деяний, не увлекаясь буквальным толкованием старинных сказаний. Они легко варьировались, переходя из уст в уста, или искажались переписчиками, которые всегда «редактировали» документы ради политической или идеологической выгоды.
Одна из проблем истории допечатного периода России, да и не только ее – недостаточность критического отношения к локализации мест действия. Какова география русских летописей? Прежде всего, если мы не желаем переставлять исторические народы русских летописей по карте, как фигурки по шахматной доске, то должны признать, что Дунай в славянских землях назывался Волгой. Точно так же, читая у византийцев о Херсоне, мы не должны забывать, что под этим именем не следует непременно подразумевать Херсонес таврический, ведь слово Херсонес по-гречески значит просто полуостров; Херсос – твердь. Таким же именем, без особого определительного прилагательного, назывался ещё и Фракийский полуостров между Дарданеллами и Черным морем.
Да и город Корсунь русских летописей, который будто бы захватил киевский князь Владимир Святой в 988 году (а позже вернул его грекам, женившись на греческой царевне), – действительно ли надо отсылать в Крым, в какие-то генуэзские развалины? Ведь недалеко от самого Киева, на реке Роси, есть и теперь город Корсунь со старинным замком внутри, с развалинами крепостных укреплений.
Или рассмотрим упоминания о Переяславском княжестве в русских летописях. И ныне цел Переяславль Залесский между Москвою и Нижним Новгородом, во Владимирской области, – как считается, много пострадавший от литовцев и татар. Однако рядом с ним был и другой Переяславль, переименованный в Рязань в XII веке. Затем есть город Переяслав при Днепре, в XVII веке ставший центром борьбы против католической Польши, которую вел Богдан Хмельницкий в 1648–1657 годах, объединившийся с крымским ханом Ислам-Гиреем («Героем Ислама»; слово гирей греческого происхождения от герос, откуда и русское герой). Есть еще и Преславу (или Пряславу) на Дунае в Болгарии, сейчас небольшой городок, бывший, однако, столицей первого Болгарского царства до перенесения ее в Тырново около 1186 года. Это же название можно узнать в имени города Бреслау (Бреславль) в Силезии, где в XII–XIV веке располагалась резиденция самостоятельных герцогов (затем город перешел к Богемии, а в XVIII веке – к Германии).
И вот, когда мы в летописных сводках встречаем название Переяславского княжества, то где оно: на Днепре, Дунае, Оке или еще где? Определив его на карте ошибочно, не ошибемся ли мы и с событиями, связанными с этим городом, которые в действительности совершались в другом месте? Не ошибся ли и летописец-переписчик?
Или о каком городе Владимире говорится в отдельных летописных упоминаниях, ведь их было два: Владимир Волынский и Владимир Залесский? И если все упоминания о Владимире Волынском как центре Волынского княжества правильны, то не заимствованы ли из его истории некоторые детали и в историю Владимира Залесского как центра Ростовско-Суздальского княжества, тоже называемого Владимирским? Летописец XIII, XIV или XV века по крохам собирал любые сведения об истории более чем двухсот-трехсотлетней давности; трудно ли было ошибиться ему?
А когда сообщается о «татарах» под Ярославлем или Новгородом, то действительно ли они были в этих приволжских городах, а не в Галицийском Ярославле?
«Житие Александра Невского» сообщает, что появился в Восточной стране сильный царь, и прислал он к Александру послов, склоняя его покориться силе.
«Князь же Александр пришел во Владимир с большим войском. И был грозен приезд его, и промчалась весть об этом до самого устья Волги. И стали жены моавитские пугать детей своих, говоря: „Александр князь едет!“»
О чем тут идет речь? Если Александр шел из ныне известного нам Новгорода в ныне известный нам Владимир, то, значит, он двигался на юго-восток. Библейская «Земля моавитская» – на юге, и достаточно далеко на юге. Совершая марш от русского Новгорода в русский же Владимир, князь к земле моавитской вовсе не приближался, чего же всполошились тамошние «жены»?
Однако вспомним, в те времена при переводе рукописей с одного языка на другой переводились и географические названия. Перед нами просто переведенное на русский язык и приложенное к русскому князю сообщение из какой-то западной хроники о крестовом походе. Новгород – Новый город, он же Неаполь. Владимир – город, Владеющий Миром, Иерусалим по-еврейски. Да и Александр, кстати, означает Спаситель Человеков.
Аналогично этому надо критически рассмотреть и топографию остальных названий, доставшихся нам в наследство почти исключительно от старинных монахов, географический кругозор которых был очень ограничен, так как тогда не было даже географических карт.
Все рассказы о народах, соприкасавшихся с Русью до крестовых походов и в продолжение их, конечно, отчасти вполне мифичны, а отчасти стоят на границе между мифом и реальностью. Но ведь и миф не есть продукт абсолютного вымысла, всегда есть некоторое реальное событие, бывшее в далеком прошлом. И хотя место действия часто переносится в очень отдаленную местность, а содержание по мере устных передач изменяется до неузнаваемости, все же есть один признак, по которому можно восстановить и первоначальное место события, и повод к его возникновению. Признак этот – сохранившиеся в мифе лингвистические следы. Фонетические законы, обусловливающие изменения звуковых сочетаний (имен, названий), при переходе от народа к народу позволяют восстановить весь путь этого имени и место его возникновения в том лингвистическом бассейне, где оно перестает быть бессмысленным набором звуков и приобретает осмысленное значение.
Печенеги
Советский Энциклопедический словарь (1989 год) сообщает:
«ПЕЧЕНЕГИ, объединение тюркских и др. племен в заволжских степях в 8–9 вв. В 9 в. – в юж. – рус. степях. Кочевники-скотоводы совершали набеги на Русь. В 1036 разбиты вел. киевским кн. Ярославом Мудрым, часть печенегов откочевала в Венгрию».
Вот с Венгрии и начнем.
Название «печенеги» по своему звучанию явно славянское: жители какой-то специальной страны печей. И такая специальная страна, действительно, была в раннее средневековье. Вспомним графство Пешт (Pest-Pilis) в Венгрии, между Дунаем и Тиссой, с главным городом Буда-Пештом. Его название Пешт – слегка искаженное по немецкой фонетике славянское слово пещь, как о том свидетельствует и немецкое название города Пешта Ofen, которое тоже значит «печь».
Название области Пешта произошло не от обычных печей, а от особых башнеобразных сооружений для выплавки из руды железа, называемых домнами не потому, что они похожи на дома, а потому, что вечно дымят. Их первоначальное имя «дымны» естественно могло перейти в домны. На Руси в старину смешивали оба слова, говоря, что в том или ином селе столько-то «дымов».
Оснований, чтобы дать целой области название «Печная», было предостаточно. Ведь именно здесь началась впервые в истории человечества массовая выплавка железа. Этому благоприятствовало географическое положение страны: по притокам Дуная сюда легко было доставлять железные руды с Карпат, а обилие топлива позволяло наладить выплавку. Затем и развозить железные продукты (доспехи, оружие, орудия производства) было чрезвычайно удобно, – по Дунаю в Балканские славянские земли и в Царьград, а оттуда по всем побережьям Средиземноморского бассейна.
Железоделание в Пеште создало политическое могущество Византийской империи. Оно держалось, пока в Саксонских Рудных горах не были открыты новые огромные залежи руды для производства железа, этого носителя культуры, который стал распространяться из Дрездена по Эльбе в Германию, сделав ее конкурентом Византии. Это и привело в конце концов к образованию в 800-м году новой Романской империи Карла Великого. Из-за быстрого открытия таких же руд на Рейне и появления нового конкурентоспособного центра производства металлов империя рассыпалась, и лишь в 962 году была воссоздана императором Оттоном I как Священная Римская империя (с XV века – Священная Римская империя германской нации).
Так что вся европейская культура в ее территориально-политических проявлениях зависела от открытия удобных для обработки железных руд, а не от простых случайностей или психологических качеств царей. А первоначальная Русь появилась на стыке интересов Ромейской (Византийской) и Романской (Римской) империй.
Венгерское графство Печь (Pest), с его дымными печами (домнами), дало и своим жителям прозвание печенегов (печников). Посмотрим теперь, что говорят нам о печниках-печенегах летописные сказания.
Византийский автор Георгий Кедрон, написавший хронику «Синопсис», события в которой доведены до 1057 года, говорит, что в его время «между Балканскими горами, Дунаем и Черным морем, в местности, богатой лесом и пастбищами, жили пихцинаки». Это местоположение точка в точку соответствует современной Болгарии, а если считать за Балканские горы также Татры и Карпаты, то и Венгрии.
П. Голубовский, автор книги «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар», считал возможным, что русские заимствовали имя печенегов от венгров (опять же с запада, а не востока). Кроме того, он приводит слова Константина Багрянородного (Х век) о том, что «соседями печенегов были мазары и узы». И что интересно, мазары существуют до сих пор почти под тем же названием – это польские крестьяне, мазуры, жители Мазовии, от которых распространился повсюду в XIX веке танец полька-мазурка. Так что и по первоисточникам выходит, что печенеги были совсем не кочевниками в южнорусских степях между Дунаем и Доном, а оседлым населением у Балканских гор.
Н. А. Морозов пишет:
«…вышел на историческую сцену загадочный украинский народ. Греческие авторы называют его биссенами, латины – пацинаками, а русские – печенегами (печниками?), и дают им пространство от Нижнего Дона до Нижнего Дуная, а в следующем IX веке они вместе с хазарами провалились сквозь землю, не оставив ни малейшего следа на ее поверхности. Но никаких катастрофических землетрясений тогда не было, и потому можно думать, что слово печенеги лишь особое название венгерцев и казаков».
Казаки здесь упомянуты как часть оседлого населения, составляющая конную армию.
Лишь при таком понимании места печенегов на Земле и приходит в порядок вся географическая неурядица. Только так осмысляется целый ряд иначе совершенно неуместных сообщений вроде того, что в 1078 году эти печенеги вместе с куманами (так до сих пор называют себя восточные венгеры-куманы) осаждают Адрианополь, ныне город Эдирне в Турции. Они могли предпринять это лишь из глубины Балканского полуострова, а отнюдь не из заволжских или южнорусских степей.
Становится понятным и выражение Константина Багрянородного, что в его время к западу от печенегов жили венгерцы, к югу – хазары, а к востоку какие-то «Хузы» или «Узы», которых П. Голубовский отождествляет с торками, жителями Крыма.
Лишь в качестве давнишних местных жителей прочно установленного государства, сознательных граждан, могли эти печники-печенеги в 968 году послать достаточно хорошо вооруженное и организованное войско, чтобы, как рассказывает «Ипатьевская летопись», осадить Белгород. Никак не могли быть печенеги кочевниками-скотоводами. Кочующие народы по самому характеру своей жизни бродят отдельными патриархальными группами, неспособны они к общему дисциплинированному действию, требующему экономической централизации, прежде всего налога, который позволил бы содержать войско взрослых холостых людей.
Соединившись вместе в количестве хотя бы нескольких тысяч, кочевники-скотоводы должны были бы соединить друг с другом и десятки тысяч голов скота, принадлежащих разным патриархам. В результате всего этого ближайшая трава была бы быстро съедена (а скорее того вытоптана), и всей компании пришлось бы вновь рассеяться прежними мелкими группами в разные стороны, чтобы иметь возможность подолее пожить, не перенося своих палаток каждый день на другое место. Кроме того, огромные затруднения (и неминуемые ссоры) вызвало бы непрестанное отделение своего скота из огромного общего стада.
Для скотовода-кочевника понятия «общего» не существует. Как же ему вдруг придет в голову идея объединения? В цивилизованных-то условиях не всегда возможно добиться, чтобы человек поступился личным ради общего! Для простоты понимания этого факта советуем проанализировать практику коллективизации в СССР в 30-е годы XX века и ситуацию со сбором налогов в России в конце того же века.
Вот почему следует отбросить саму идею о возможности организованного коллективного действия и победного нашествия на оседлые народы любого широко раскинутого кочующего народа, питающегося от стад.
Первое нападение печенегов на Русь, согласно Ипатьевской летописи, было в 915 году. А последняя отчаянная битва русских с ними произошла в 1034 году. Они были разбиты наголову: «тако погибоша, а ярок (остаток) их пробегоша (пропал) и до сего дня» – до какого «сего дня»? – не очевидно ли, что это записано задним числом? Но вот после 32 лет отсутствия на исторической сцене они неожиданно являются снова, на Дону, в 1116 году:
«В се же лето (1116) бишася Половцы с Торкы и с Печенеги у Дона, и секошася два дня и две нощи, и придоша в Русь к Володимиру Торци и Печенези».
В дальнейшим печенеги появляются всегда вместе с торками:
«Прогна Володимер (в 1121) береньдичи из Руси, а Торци и Печенези сами бежаша»… «Печенеги и Торки вместе поселились по реке Роси (западному притоку Днепра)».
Но ведь и торки задолго до этих событий, в 1060 году померли все, по словам того же летописца! И тоже неожиданно появились! Как же так? Судя по всему, в это время генуэзские торговцы (половцы), осваивая Крым, совсем подмяли местных крымских жителей, торков, и они, в союзе с печенегами, пытались противостоять колонизаторам. Печенегам, разумеется, не хотелось уступать освоенный ими рынок сбыта товаров. Вот они на Руси и не появлялись, пока нужда не достала.
Походы Святослава
Под 964 годом в Начальной части всех наших полных летописей написано про Святослава:
«…И так ходил на реку Оку и на Волгу и наткнулся на вятиков (вятичей) и сказал вятикам: „кому даете дань?“ Они же ответили: казарам дань даем по шьлягу от орала».
Очень интересная подробность. Оказывается, что вятики, на которых наткнулся в своих разбойничьих набегах киевский князь Святослав, за тысячу лет до нашего времени платили дань хазарам по «шьлягу с сохи». А шьляг уже давно и не без основания отождествляется историками с существующей и до сих пор английской монетой шиллингом. Как попал он из Лондона, да еще в достаточном для ежегодной дани с каждой сохи, к вятикам в 964 году?
Историки объясняют: эти вятики – не те вятичи, говорят они, что живут на современной реке Вятке, притоке Камы на северо-восточном конце европейской России, где ныне Кировская область; это какое-то языческое «ответвление» поляков, племя, исчезнувшее с лица земли в XIII веке. Такое объяснение можно было бы принять, если бы не одно «но»: взимание дани в шиллингах на Украине было столь же невозможным, как и на Каме.
Прелагаем другое объяснение: составитель русской летописи «позаимствовал» для нее сообщение из какой-то другой, не русской летописи, и приписал его Святославу.
После этих удивительных событий в 967 году Святослав пошел на Дунай на болгар и одолев их, взял восемьдесят городов по Дунаю и сел там княжить «в Переяславци», «взимая с греков дань».
Историки говорят, что первой столицей Болгарского царства был действительно Преслав (или по старой орфографии Пръслав) и лишь в 1186 году она была установлена в Тырнове. Но этот ли город брал Святослав? Полагаем, в русской Начальной летописи под именем Переяславца подразумевается город на восточной стороне Днепра, современный украинский Переяслав, на 80 километров ниже Киева, лежащего на западной стороне Днепра, – хотя и относят историки основание этого Переяслава к 993 году.
И вот откуда это следует. Под 968 годом (в лето 6476), в следующем году после завоевания якобы болгарского Переяславля, читаем:
«В первый раз пришли печенеги на русскую землю, а Святослав был тогда в Перяславле, и заперлась Ольга с внуками своими Ярополком, Олегом и Владимиром в Киеве. Печенеги в бесчисленной силе обступили город, нельзя было ни вылезать из города, ни послать вести. Изнемогали люди от голода и жажды. И на другой стороне (восточной, ведь Киев находится на западном берегу) собрались люди в ладьях, но оставались по ту сторону, и нельзя были войти в Киев ни одному из них, ни из города к ним. Загоревали люди в городе и сказали: „Нет ли кого, кто мог бы достигнуть той стороны и сказать (тамошнему отряду русских): если не выручите до утра, нам придется сдаться печенегам?“»
Далее летопись рассказывает об отроке, который сумел перебраться через Днепр и предупредить русских. Затем:
«…Воевода по имени Претич сказал: „Подступим завтра в ладьях и, попав туда, умчим на эту сторону княгиню и княжичей, потому что, если не сделаем этого, то погубит нас Святослав“. Утром сели они в ладьи против света (светившего в лицо печенегам, так что ясно – русские плыли с востока), сильно затрубили, а бывшие в городе закричали. Печенеги, думая, что привели князя (Святослава), побежали в разброд от города. Ольга с внуками и людьми вышла на берег к ладьям. Увидев это, князь печенежский один возвратился и, подойдя к воеводе Претичу, сказал: „Кто это пришел?“ „Люди с той стороны“. „А ты не князь ли сам?“ „Я его воин и пришел в сторожевом отряде, но за мной идет полк с самим князем, множество без числа“.»
Понятно, что печенеги знали: князь вернется с востока, где находится Переяславец, а не запада, и вернуться он может быстро. О намерении же своем княжить в болгарской столице Святослав «вспомнил» лишь через три года, в 971 году:
«В лето 6479 (971) пришел Святослав к Переяславцу (Болгарскому городу Преславу), и болгары затворились в городе. (Но ведь три года назад он уже захватил этот город, если считать эти оба Переяславца за один.) Они вылезли из города на сечу, и была сеча великая. Стали одолевать болгары. И сказал Святослав: „И придется нам здесь пасть. Напряжем мужественно силы, о братья, о дружина!“ К вечеру одолел Святослав, взял город приступом и сказал: „Вот мой город!“ Он послал к грекам, говоря: „Хочу на вас идти и взять ваш город, как этот“.»
Греки стали ему льстить, стараясь провести его любовными переговорами и предложением дани.
«Он взял многие дары, возвратился к Переяславцу с великою похвалою и сказал: „Пойду в Русь, приведу побольше войска“, и пошел в ладьях. Свекельд воевода отчий сказал ему: „Иди, князь, на конях, ибо стоят ПЕЧЕНЕГИ в порогах (днепровских)“. Но он не послушал его и пошел в ладьях… Пришел к порогам и, так как нельзя было пройти через них, стал зимовать в Белобережьи. И был великий голод: по полу гривне конская голова».
Весной (972 года) он пошел в пороги. Там напал на него печенежский князь Куря, убил Святослава, сделал чашу из его лба и пил из нее.
Таково единственное место, где старая болгарская столица Преслава фигурирует в русских летописях в своем собственном виде и притом в союзе с печенегами. А затем она исчезает со страниц летописей, и появляются на них Переяславль Киевский и Переяславль Залесский рядом с Владимиром. Ни о каких боях с печенегами около этих городов нет ни слова, печенегов же в последний раз упоминает Новгородская летопись под 1016 годом:
«И побежал Святополк (сын Владимира Святого, принявший католичество) в Печенези между Чехами и Ляхами, никем не гоним, и пропал окаянный, худо окончил свою жизнь, как дым до сего дня».
И даже это последнее упоминание относит печенегов не на восток, а на запад – в область Татрских гор.








