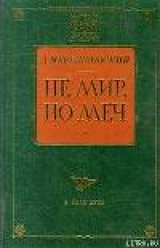
Текст книги "Не мир, но меч"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
– Оставьте, меня Серафим испортил!»
Здесь, конечно, «испортил» значит «исправил». Едва ли, впрочем, вся метафизика христианской святости когда-либо разберется, что же, в конце концов, – «испортил» или «исправил»?
Доведенный до исступления муж, согласившись с матерью Пелагеи, притащил ее в полицию и попросил городничего наказать жену розгами. Это – второе вмешательство полиции в тайны дивеевской святости.
Городничий велел привязать Пелагею к скамье и так высек, что «клочьями висело тело, кровь залила всю комнату, а она, моя голубушка, хоть бы охнула», рассказывала впоследствии мать.
На время «дурочка» как будто утихла. Но потом опять стала буйствовать. Тогда муж заказал для жены, как для дикого зверя, железную цепь с кольцом, собственными руками заковал ее, привинтил кольцо к стене и начал истязать. Но иногда ночью она обрывала цепь, потому что была очень сильна, и бегала по городу, наводя на всех ужас.
Однажды в лютую зимнюю стужу, полуголая, спряталась на паперти церкви, в гробу, приготовленном для умершего от холеры солдата, и здесь ждала смерти. Завидя церковного сторожа, выскочила из гроба и бросилась к нему, моля о помощи. Тот, в ужасе от привидения, взбежал на колокольню и, забив набат, всполошил весь город.
Тогда муж окончательно отрекся от жены и выгнал ее из дому. Младшая сестра ее, Авдотья, думая, что ее не берут замуж, потому что боятся, как бы и она не сошла с ума, подобно Пелагее, подговорила негодяя, хорошо умевшего стрелять, убить сестру в то время, когда она будет бегать за городом и юродствовать. Он подкараулил ее и выстрелил, но дал промах. Она предсказала ему, что он стрелял не в нее, а в себя, а через несколько месяцев он действительно застрелился.
«Дурочку» стали возить по святым обителям, к чудотворным иконам и мощам, к Тихону Задонскому, к Митрофанию Воронежскому, к старцу Антонию Смирницкому в Киев, не исцелит ли кто-нибудь. Никто не исцелил. Наконец, как бы описав полный круг, вернулись туда, откуда все началось, – к Серафиму в Саров. Ему рассказали все, что произошло с Пелагеей с тех пор, как она у него побывала.
Что же Серафим? Ужаснулся, прослезился хотя бы над великою скорбью человеческой, подобно Господу над гробом Лазаря? Нет, «Серафим рассмеялся». Ужасающий смех! Пусть мы тут чего-то не понимаем; пусть хранит он какую-то последнюю тайну святости, которая объяснит и оправдает все – даже этот смех; но ведь тайну-то эту он хранит для себя одного, молчит о ней. А не молчит – вопиет к Богу кровь Пелагеи, у которой тело висит клочьями, кровь детей, умерших по молитве матери или выброшенных, как щенята в воду, кровь мужа, этого жалкого и страшного «Сергушки», который умер без покаяния, «не зная, кто кого замучил, он ее или она его, кровь того злодея, который из-за нее застрелился; и на всю эту вопиющую кровь единственный ответ – тихий смех Серафима. Земля залита кровью, а он идет по воздуху чистыми, белыми ножками. „Тобою некоторые соблазняются“. – „А я не соблазняюсь тем, что мною соблазняются“».
Пелагея добилась-таки своего: родные окончательно отступились от нее, привели в Дивеево и там оставили. Сорок лет «безумная Палага» – так звали ее сестры – прожила в Дивееве, и эта жизнь – сплошное самоистязание, медленное самоубийство, как добровольных «осужденников» в древнем Танобе.
Теперь, когда другие не мучили ее, она сама себя стала мучить, и это второе мучение хуже первого. Десять лет «работала с камнями» – надрываясь, перетаскивала их в мешке с места на место, без всякой цели. «Когда уже стареть стала, – рассказывает ходившая за нею старица Анна, – помню, как сейчас, иду я к вечерне, гляжу, подымается и она и говорит: „Господи, вот уж и моченьки нет!“ – вздохнула, а слезы-то, слезы крупные так и катятся по щекам. И так-то мне ее, голубушку мою, жаль стало». Потом придумала «работу с палками»: «наберет большущее беремя палок и колотит ими о землю изо всей мочи, пока всех их не перебьет, да и себя-то всю в кровь не разобьет». Потом – с кирпичами: бросала их в яму с водою нарочно так, чтобы вода брызгала и окачивала ее с ног до головы; возвращалась домой ночью поздно, вся грязная, мокрая – «тина тиной». И эта «работа» длилась множество лет. Наконец, в старости сделалось у нее что-то вроде водобоязни. «Бывало, нечаянно чуть обрызнешь ее, – рассказывает та же сестра Анна, – так и всполошится, так вся и встрепенется: уж больно доняла себя, столько-то лет водою окачиваясь».
Целые дни просиживала в яме навозной, которую сама выкопала, и всегда за пазухой платья носила навоз. Летом и зимой ходила босиком, становилась ногами нарочно на гвозди и прокалывала их насквозь. Однажды, уже в глубокой старости, заблудилась на пустырях, осенью ночью, под ледяным бураном, в одном легком сарафанишке; выбилась из сил; ветер сшиб с ног; повалилась, сарафан примерз к земле, и она уже не могла встать; так и пролежала девять часов, окоченелая; наконец, сестры нашли и едва отходили.
Иногда бегала по монастырю, бросая камни; била стекла в окнах, колотилась головой и руками о стены монастырских построек. Вызывала всех на оскорбления, побои и, когда били, радовалась.
Вид имела страшный: седые, спутанные волосы, голова проломлена, вся в крови, и кишат на ней насекомые; на босых ногах и руках – длинные когти, подобные когтям зверя.
Когда посещали ее другие «блаженные», то начиналась «война», которая наводила на всех ужас: бывало, на кладбище, между могилами, «бегают, гоняются друг за другом, оба большущие да длинные», безумная Палага с палкой и безумный Федька с поленом, бьют друг друга и ругаются, непристойною руганью. «Я сижу, еле жива от страха, – рассказывает Аннушка, – грешница я, думаю себе: „Ой, убьют!“ Ходила даже несколько раз к матушке-игуменье: „Боюсь, говорю, матушка, души во мне нет, – пожалуй, убьют“… А матушка-то, бывало, и скажет: „Терпи, Аннушка, дитятко; не по своей-то воле, а за святое послушание с ними, Божиими-то дурачками, сидишь. И убьют-то, так прямо в Царство Небесное попадешь“».
И мы должны верить, что исполнилось пророчество: «будешь свет миру»? Полно, какой это «свет»! Не свет ли того черного солнца, которое взошло из преисподней Таноба, не темный ли свет убийственного радия?
Когда умер Серафим, Пелагея сделалась в Дивееве «вторым Серафимом». Не игуменья, а «безумная Палага» была для обители матерью: «ничего без нее не делалось; что она скажет, то свято – так тому уже и быть».
Мало того: в мудрость безумной верят не только дивеевские сестры, но и люди мирские, «весь христианский народ». «К ней стал стекаться народ, – говорит Летопись, – люди разных званий и состояний; все спешили увидеть ее и услышать». «С раннего утра до поздней ночи нет нам отбою, так совсем и замотают: кто о солдатстве, кто о пропаже, кто о женитьбе, кто о смерти, кто о болезни – всяк со своими горями и скорбями идет к ней». «Она вытащила меня со дна ада», – сказал о ней кто-то, и это повторяли многие. «Голос ее, – по выражению автора Летописи, – звучит над народом, подобно колоколу – кто раз услышал, тот уже никогда не забудет».
Что это такое? Какая сила влечет к ней людей? Любовь? Едва ли. «Любить особенно, Бог ее ведает, любила ли она кого, я не заметила. Ей были все безразличны», – замечает Аннушка, которая прожила с ней сорок лет. Какая же любовь, для которой «все безразличны» и которой заметить нельзя? Если христианская, то уж, во всяком случае, не Христова, ибо эта последняя утверждает всякую отдельную личность в едином вселенском лике человечества, идет от человека к человечеству, от единого ко всем – не говорит: да буду я один, а говорит: да будут все едино. Тайна Христовой любви раскрывается миру; в тайне этой единый сообщается со всеми, единый приобщается всем; каждый человек через плоть и кровь Христа-Богочеловека приобщается к плоти и крови Христа-богочеловечества.
Пелагея очень редко приобщалась – просто не чувствовала в этом потребности.
– Что это ты не приобщишься? Ведь все сестры говорят, что ты «порченая», – говорили ей.
– Ах, нет, – отвечала она, – старик-то, батюшка Серафим, ведь мне разрешил от рождения до успения.
То есть разрешил не приобщаться.
Со страшной последовательностью метафизики, конечно, бессознательной, она, отрекшись от всей вообще плоти, как будто отрекается или, по крайней мере, не имеет достаточного основания, чтобы не отречься и от Плоти Христовой. Ведь последняя тайна христианской святости не в приобщении, а в разобщении со всякой плотью, в утверждении духовности как бесплотности.
В сущности, и «второй Серафим», так же как первый, – вне Церкви, вне последнего соединения плоти человечества с плотью богочеловечества, ибо если отрицается одно из двух соединяемых, то не может не отрицаться и само соединение. Не Серафим в церкви, а церковь в Серафиме. «Кто пойдет против меня, убогого, тот пойдет против Господа»: кто пойдет против меня, тот пойдет против церкви, – это ведь и значит: я – церковь. Тут восточное христианство переходит в западное, православие – в католичество: всякий святой – первосвященник, папа, наместник Христа. И, далее, христианство переходит в христовство, хлыстовство: святой – «преподобный», подобный Христу – «сам Христос во плоти».
Но если не Христова любовь, то какая же сила влекла людей к Пелагее? Не знаем и никогда не узнаем, пока мы – мы, пока мир – мир. Тут опять тайна, которую и второй Серафим, так же как первый, сохранил для себя одного. Пусть каждый, кто подходил к Пелагее, – что-то видел, что-то узнавал, но ведь тоже для себя одного. Каждый навеки оставался с нею один, в тайне – без мира, без церкви, без любви, без Христа. Ибо сущность тайны Христовой именно в том, что она открывается миру, как «свет», который «во тьме светит» и которого «тьма не объяла».
Когда зажигают свечу, то не ставят ее под сосуд, а на стол, чтобы она светила всем в доме. Ежели свет обоих Серафимов – не тьма, то это все-таки «свеча под сосудом». И если бы даже было не два, а десять Серафимов, то до скончания века не смогли бы они поставить свечу на стол – не смогли бы уже потому, что вовсе не хотели.
Ко гробу Пелагеи собрались тысячи народа. Все плакали над ней, как над родной матерью. В церкви было так жарко, что потоки воды текли со стен и на холодных папертях было тепло, как в кельях. Она лежала в гробу точно живая, даже не холодная, а теплая, «прекрасная как ангел», с ног до головы осыпанная свежими цветами, которые любила при жизни.
Эти потоки воды, текущие по стенам церкви, – как бы слезы любви человеческой, которая согревает холодное мертвое тело. Но какая же связь между этим «прекрасным ангелом, спящим в гробу», и той уродливой, страшной, старой, скорченной, грязной, зловонной, сидящей в навозной яме, с длинными ногтями-когтями на руках и ногах? Опять не знаем и никогда не узнаем.
Пелагея оставила нам внешнюю оболочку свою – юродство, безумие; а внутреннее ядро – вещая мудрость, – если и была в ней, то исчезла бесследно, так, как бы ее вовсе не было.
Юродство есть отречение от человеческого разума во имя Божеского. Но если разум человеческий несоизмерим с Божеским, то как возможно явление слова, ставшего плотью, разума Божеского, ставшего разумом человеческим? Как возможно явление Христа?
Пелагея любила цветы. Ей часто приносили их. Она держала их подолгу в руках, тихонько перебирая, любуясь и что-то нашептывая.
Когда меня уверяют, будто бы христианская церковь освящает плоть мира, благословляет радости мира, мне вспоминаются эти живые цветы в руках «безумной Палаги», с когтями зверя, глазами ангела.
Неужели истинная Церковь, Невеста Христова, похожа на эту безобразную старуху или даже на ту «прекрасную как ангел», спящую в гробу, согретую теплой любовью темного народа, как будто живую, но все-таки мертвую?
Верим, чувствуем, знаем, что нет.
XI
К тайне одного – личности, и к тайне двух – полу отношение Серафима, истинное или ложное, но, во всяком случае, глубокое: тут есть о чем говорить; но к тайне трех – к общественности, оно до такой степени плоское, что и говорить почти не о чем.
«Не должно входить в дела начальнические и судить оные; сим оскорбляется величество Божие, от коего власти поставляются, ибо несть власть, аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены суть. – Не должно противиться власти, чтобы не согрешить перед Богом и не подвергнуться Его праведному наказанию: противляющийся власти Божию повелению противляется».
Это мы давно знаем. Но если утверждение: всякая власть от Бога, – безусловно, не только в идеальном, но и в реальном смысле, не только как должное, но и как данное, – то почему же христианские мученики не подчинялись власти римских императоров, повелевавших поклониться своему изображению, как образу Божиему? – почему возмутились они против этой власти таким беспредельным возмущением, что оно сделалось началом величайшей из всех революций – той, которая смела с лица земли Римскую империю, совершеннейшее воплощение власти человеческой, признанной за «власть от Бога»? – почему признали они эту власть, в ее религиозном средоточии, в обожествлении кесаря, не силою Божией, а безбожным насилием – властью зверя-антихриста?
Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе, – говорит Христос. – Тебе дам власть над всеми царствами, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее, – говорит дьявол.
Итак, есть власть от Бога и власть от дьявола, есть истинная и ложная власть. Как же отделить одну от другой? Ответить на этот вопрос: всякая власть от Бога, – значит одно из двух: или окончательно покориться власти зверя, предать Христа антихристу; или вернуться к тому недоумению, из которого и возник вопрос, то есть начать сказку про белого бычка. В течение двух тысячелетий христианство только и делало, что начинало эту сказку. Но хорошо ли, дурно ли, оно все-таки что-то начинало, что-то лепетало. А у Серафима единственный ответ – молчание.
«От молчания никто никогда не раскаивался», – говорит Серафим. Это благоразумно, даже слишком благоразумно; совсем не похоже на безумие Креста; с этим согласился бы, пожалуй, и сам Талейран, полагавший, что слова людям даны для того, чтобы скрывать мысли.
Менее благоразумный и менее святой предшественник Серафима, архиепископ ростовский, Арсений Мацеевич, судимый за оскорбление величества, на допросе перед синодом, в присутствии государыни, Екатерины II, говорил с такой откровенностью о порабощении и разорении русской церкви императорской властью, что Екатерина зажала себе уши, а ему заклепали рот.
Серафиму не заклепали рта: он и так молчал – и «от молчания никогда не раскаивался».
А ведь не мог не видеть и он, подобно Арсению, что «русская церковь в параличе с Петра Великого», что глава ее – не Христос, а русский самодержец, как объявил о том император Павел I, что она – департамент дел духовных, что «Крест – казенная поклажа» и что мерзость запустения стоит на месте святом.
Что же делал Серафим, видя все это?
Спасался в затворе. «Бегай, Арсений, людей и спасешься». Подражая древним подвижникам, при встрече с кем-либо падал лицом на землю и до тех пор не вставал, пока встретившийся не проходил мимо.
Вышел, однако, из десятилетнего затвора для того, чтобы благословить приехавшего в обитель тамбовского губернатора с женой.
Посещали его и другие сановники. «О. Серафим, – повествует Летопись, – относился к ним с должною честью, обращал внимание на важность их сана и, указывая на знаки отличия, украшающие грудь их (то есть на ордена и кресты), напоминая им о Распятом на кресте, говорил, что знаки сии должны служить им живой проповедью о их обязанности. Более же всего, по нуждам того времени, умолял охранять православную церковь, сильно колеблемую суетными мудрованиями века. „Этого, – говорил он, – ждет от вас народ русский; к тому должна побуждать вас совесть; для сего избрал вас и возвеличил государь“.
Император Александр I „избрал и возвеличил“ кн. А. Н. Голицына, назначив его обер-прокурором св. синода, что, по всей вероятности, и Серафиму было известно.
„Неверственная школа XVIII столетия, – рассказывает сам Голицын в своих мемуарах, – пустила глубокие корни в моем сердце. Деизм, который в то время был признаком людей хорошего тона, составлял все мое верование“. Это значит, обер-прокурор св. синода во Христа не верил; впрочем, в то время не верил во Христа и сам государь, „глава русской церкви“.
„Вот я отправляюсь в синод, вхожу в готическую храмину, вижу синодский декор, вижу на другой стороне зерцала, служебное Распятие. Вместе с тем, глазам моим встречается какой-то византийский трон из позолоченного дерева. Входя, креплюсь, стараюсь быть важным, степенным, приступаю к слушанию дел. Случилось же, что для первого моего прихода слушаны были такие дела, которые, во всяком случае, могли бы служить богатою канвою для самой соблазнительной хроники: предложены были процессы о прелюбодеяниях во всех их подробностях. Мне тогда показалось, что и святые отцы вовсе не были прочь их выслушивать – что же мне, молодому холостяку?“
Об этом заседании Голицын рассказал государю за обедом так остроумно, что оба от души хохотали. Над чем? Ведь, после уничтожения патриаршества, св. синод – единственное соборное правление русской церкви и, следовательно, единственное в ней „вместилище Духа Святого“.
„В обществе наших знакомых был некто князь Тюфякин, – продолжает Голицын. – Этот человек, которого нравственность была вовсе не лучше моей, позволял себе дерзкие выражения насчет религии, как и я сам, это составляло общую забаву и удовольствие наше. И вот однажды, у него в доме, бывши уже обер-прокурором синода, я вымолвил такое невместное, такое дерзновенное богохульство, что очень тем соблазнил моего Тюфякина, который даже от того встревожился и просил его пощадить. Вот какого блюстителя имел во мне святейший синод!“
И таких-то людей призывает Серафим на защиту церкви. И генеральские кресты их сравнивает с Крестом Господним. Что это такое? Младенчество? Но ведь для кого же, как не для святых, сказано: Не будьте по уму младенцы.
Серафим, говорят, обладал великим даром прозорливости. К нему приходили крестьяне, у которых украли корову или лошадь, и он угадывал место, где находится краденое. Знает, кто украл у мужика корову, а кто украл благодать у церкви, не знает.
У одного генерала, которого он исповедывал, свалились будто бы чудом ордена и кресты. „Это потому, что ты получил их незаслуженно“, – объяснил старец.
Кажется, дальше этих свалившихся генеральских крестиков не пошла борьба Серафима с неправедной властью.
У Елены Мантуровой, одной из дивеевских девушек, была крепостная девка Устинья. Вместе с госпожой своей поступила она в монастырь и жила с ней в одной келье, оставаясь крепостною. Устинья заболела чахоткой. Ее мучило, что она, больная, занимает место в тесной келье и беспокоит барыню: „Нет, матушка, я уйду от тебя, нет тебе от меня покоя!“ – повторяла Устинья. Но уйти не успела, умерла. И никому из них, ни Серафиму, ни Елене, ни самой Устинье, не пришло в голову, что рабство – мерзость перед Господом. Диавол брака является Елене в виде огненного змия, а диавол рабства остается невидимым. Вы куплены дорогою ценою: не делайтесь рабами человеков, это все забыли, а помнят только: рабы, повинуйтесь господам вашим, и нет власти не от Бога – следовательно, от Бога и власть русских помещиков.
В ранней юности Серафим был свидетелем Пугачевского бунта. Те разбойники, которые, напав на него в лесу, искалечили его, были крепостные, которые могли бы участвовать в бунте. Серафим едва не погиб от ожесточения рабов, но все-таки не задумался о рабстве и в течение всей своей жизни ни единым словом против него не обмолвился. Если бы это вообще зависело от Серафима, от христианских святых, от христианской святости, то крепостное право в России существовало бы и поныне. „Лучше тебе самому освободиться от уз греха, чем освобождать от рабства народы“, – этому завету первых святых остался верен и последний.
Не святой Серафим, а грешный и безбожный Радищев о рабстве задумался. Пока святые терпели молча, безбожник завопил от святого гнева, от святого ужаса – и неужели этот вопль не дошел до Бога? С Богом – рабство; свобода – без Бога: так всегда было и есть – неужели так всегда будет? Во всяком случае, христианская святость пальцем не двинула, чтобы этого не было. Самые кровные связи разрываются, так что „клочьями тело висит“, а цепи рабства спаиваются.
От французской революции до русского декабрьского бунта – все освободительное движение, при котором Серафим присутствовал, для него – только „суетные мудрования века сего“. „Это все нынешний-то век, нынешние люди придумали!“ – шепчет он с тихой брезгливостью. Тут не столько проклятие, сколько „дурной глаз“ на всю мировую культуру – науку, искусство, общественность – на все „труды и дни“ человечества; не столько истребить хотел бы он все это, сколько „сглазить“.
– Учить ли детей языкам и прочему? – спросил кто-то.
– Что же худого знать что-нибудь? – отвечал Серафим и тотчас прибавил: – Где мне, младенцу, отвечать против твоего разума? Спроси кого поумнее.
И в этой усмешке – опять та же тихая брезгливость, тайное неблагословение, которое убийственнее всяких проклятий, опять „дурной глаз“.
Перед смертью он предсказывал дивеевским сестрам торжество их обители.
– Какая великая радость-то будет! Колокол-то московский Ивана Великого сам придет к вам по воздуху. Когда его повесят да в первый-то раз ударят и он загудит, тогда мы с вами проснемся. Вся вселенная услышит и удивится. О, во, матушки вы мои, какая будет радость! Среди лета запоют Пасху! Приедет к нам царь и вся фамилия!
И так для Серафима приезд русского царя равняется Пасхе Господней, воскресению мертвых.
– Но эта радость будет на самое короткое время, – продолжает он. – Что же далее, матушки, будет… Такая скорбь… чего от начала мира не было. Ангелы едва будут успевать брать души.
И светлое лицо батюшки вдруг изменилось, померкло; спустя головку, он поник долу, и слезы струями полились по щекам».
От этой же самой скорби плачет и «второй Серафим», «безумная Палага», особенно с 1 марта 1881 г., с убийства Александра II. «Как слышно стало, что у нас творится на Руси, какие пакости да беззакония, то уж как она, сердечная, бывало, плакала-то; уж и не скрывалась, и почти не переставала плакать, глаза даже у нее загноились и заболели от этих слез.
– Что это значит, матушка, – говорю я, – что ты все так страшно плачешь?
– Эх, говорит, если бы ты знала это, весь бы свет теперь заставила плакать!»
Для обоих Серафимов, и если бы их было не два, а десять, то для всех одинаково освобождение России – «пакость и беззаконие».
При всяких попытках оторвать православие от самодержавия, соединить христианство с революцией мне вспоминается опущенная головка, померкшее личико батюшки Серафима и по щекам его струящиеся слезы. Не эти ли слезы единственный подлинный ответ всей русской святости на русское освобождение? Светлое лицо Серафима померкло и все больше меркнет, темнеет, чернеет, становится страшным лицом «черных сотен». Христианство и свобода – вода и огонь: если огонь сильнее, то от воды остается лишь теплый пар – церковная реформация; если вода сильнее, то от огня остается лишь мокрый пепел – политическая реставрация.
Для Серафима конец самодержавия есть конец православия, а конец православия – конец мира, пришествие антихриста.
В последний год своей жизни начал он рыть заповедную канавку с валом вокруг Дивеевской обители, чтобы оградить ее от антихриста.
– Канавку вырыть надо. Три аршина глубины, и три аршина ширины, и три аршина вышины. Это та самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел себе обитель. Тут стопочки Царицы Небесной прошли! – Так бывало и задрожит весь, как это говорит-то. – И кто канавку с молитвой пройдет да полтораста Богородиц прочтет, тому все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев. Когда век-то кончится, антихрист придет, то станет с храмов кресты снимать да монастыри разорять и все монастыри разорит. А к вашему-то подойдет, а канавка-то и станет от земли до неба; ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка – так прочь и уйдет.
«Так как очень торопил этим делом батюшка, то и лютой зимой, рубя землю топором, копали сестры заповедную канавку; и лишь только окончили, скончался тут же и наш родимый батюшка, – точно будто этого только и ждал».
Действительно, главное, и, может быть, единственное дело всей жизни его и есть эта канавка. Что первые святые начали, тó кончил последний: невидимую черту, отделяющую христианство от мира, сделал видимой – завершил незавершенное в христианстве противоречие мира и Бога.
По ту сторону канавки – Бог без мира, по сю – мир без Бога; и соединить их нельзя. Трехаршинная канавка углубится до бездны, трехаршинный вал подымется до неба – и окончательно отделится Бог от мира. Бог отнят от мира, мир предан диаволу.
Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, – это не исполнилось в христианстве: воля Божия, царство Божие – только на небе, а на земле – царство диавола.
«К концу-то века, – предсказывает Серафим, – будет у вас на диво собор. Подойдет к нему антихрист-то, а он весь на воздух и подымется. Достойные, которые взойдут в него, останутся в нем, а другие, хотя и взойдут, но будут падать на землю». На землю, то есть в преисподнюю, ибо земля и есть преисподняя.
Серафим, со своим собором, в котором заключена соборная, единая, вселенская Церковь, – возносится, а земля проваливается; Серафим свят, земля проклята; Серафим спасся, мир погиб.
XII
Что же – значит, христианство «не удалось»?
Если смотреть на него как на последнюю религиозную цель и завершение мира, то оно действительно «не удалось». Если же христианство – только путь к этой цели, то оно «удалось» так, как ни одно из дел человеческих не удавалось и как удаются только дела Божии. В этих-то именно кажущихся своих неудачах, несовершенствах, падениях, провалах, противоречиях, даже преступлениях, христианство более совершенно, более божественно, чем в своем человеческом совершенстве, человеческой святости.
Бесконечное открывается конечному разуму не иначе, как по законам этого разума; а глубочайший из них – закон диалектического развитая, по которому совершенное соединение двух противоположных начал, синтез тезиса и антитезиса, не может произойти прежде, чем не раскроется совершенная противоположность этих начал.
Первый Завет, откровение Отца, – тезис; второй Завет, откровение Сына, – антитезис; совершенный синтез первого и второго Завета в третьем, последнее соединение Отца и Сына в Духе не могло произойти прежде, чем не раскрылась совершенная противоположность Отчей и Сыновней ипостаси. Кажущиеся неразрешимыми противоречия христианства – вечные антиномии плоти и духа, земли и неба, мира н Бога – суть в действительности не противоречия неразрешимые, а только противоположности неразрешенные, но разрешаемые в последнем соединении двух во едином, в последнем откровении Троицы. Надо было раскрыть до конца противоположности: христианство это и сделало, или, вернее, сама премудрость Божия сделала это через христианство.
Мы видели, что вся метафизика христианской святости сводится к утверждению бесплотной духовности. Мы видели также, в каком зияющем противоречии находятся три величайшие тайны Христовы – начало, продолжение, конец самого христианства: воплощение, причащение, воскресение – три тайны плоти святой с этою бесплотною святостью. Но уже не человеческая, а Божественная святость, Божественная подлинность христианства, адамантово основание грядущей Церкви Христовой, о которой сказано: врата адовы не одолеют ее, – и заключается именно в том, что сквозь все эти бездонно зияющие противоречия, провалы, падения, даже преступления, христианство пронесло неискаженный лик Христа, слова, ставшего плотью. В этом смысле христианство есть подлинное явление Христа человечеству. Без христианства нет Христа; без Христа, Сына Божия, нет Отца и Духа. Никто, кроме Сына, не приводит к Отцу; никто, кроме Отца и Сына, не приводит к Духу. В этом, повторяю, уже не человеческая, а Божественная святость, правда и оправдание христианства.
Полнота первого Завета совершилась только во втором; полнота второго совершится только в третьем. Первый Завет пророчествует о первом пришествии Сына в Отце, второй – о втором пришествии Сына в Духе; первый – о Богочеловеке, второй – о богочеловечестве, которое и будет последним откровением Духа Святого в плоти святой, последним соединением Духа с плотью, неба с землей, мира с Богом – да будет Бог все во всем. Как в Ветхом Завете заключено христианство, так в христианстве – религия Святого Духа. И как христианство, откровение Сына, не нарушило, а исполнило закон Отца, так откровение Духа не нарушит, а исполнит христианство. Откровение Духа, третьей ипостаси, которое и есть откровение всех трех ипостасей – откровение Троицы – заключено, сокрыто, но не раскрыто в христианстве. Учение о Троице осталось отвлеченным созерцанием, догматом, вне действенной святости, а христианская святость, действие – вне Троицы. Святые говорят: во имя Отца, и Сына, и Духа, – а делают только во имя Сына. Ликом Сына закрыт лик Отца и Духа. Но закрытое должно раскрыться – и уже раскрывается.
Если бы в христианстве не было чаяния Церкви вселенской, то не раскинулся бы, подобный своду небесному, свод константинопольской св. Софии – первое видение грядущей вселенской соборности.
Если бы в христианстве не было чаяния плоти святой, то не явилась бы Матерь Божия – первое видение вечного материнства.
Если бы в христианстве не было тайны о Троице, то не открылось бы последнее разделение двух миров в современной критике познания.
Если бы в христианстве не было тайны о богочеловечестве, то не пронеслась бы огненная буря того освобождения народов, только начало которого мы доныне видели в европейских революциях.
Современное человечество не подозревает, до какой степени остается оно христианским даже тогда, когда от христианства отрекается. Можно идти против, но мимо христианства – нельзя. А истинный путь человечества – не против и не мимо христианства, а через него – к тому, что за ним.
В заключение признáюсь: мне трудно было, иногда почти страшно говорить о Серафиме. Как бы ни было справедливо то, что я говорю, я все же только говорю о том, что надо делать; Серафим сделал то, о чем говорил.
Я скорбен, он счастлив; я темен, он светел; я грешен, он свят.
Что, если бы я увидел сейчас, лицом к лицу, этого маленького, сгорбленного старичка в белом балахончике, белыми и голыми ножками идущего как бы по воздуху, – посмел ли бы я поднять на него глаза и сказать ему самому все, что сказал о нем? И что он ответил бы мне?






