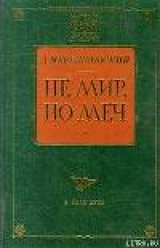
Текст книги "Не мир, но меч"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Все пошлости Лермонтова – разврат «Маёшки» в школе гвардейских прапорщиков, «свинство», хулиганство с женщинами – не что иное, как безумное бегство от «фантастического», от «неопределенных уравнений», безумное желание «воплотиться окончательно в семипудовую купчиху».
И когда люди, наконец, решают: «да это вовсе не великий, а самый обыкновенный человек», – он рад, этого-то ему и нужно: слава Богу, поверили, что – как все, точь-в-точь – как все! Удалось-таки втиснуть четвертое измерение в третье, «забыть незабвенное», «попариться» и согреться хоть чуточку в «торговой бане» от ледяного холода межпланетных пространств!
Это извращение, может быть, гораздо худшее зла, чем обыкновенная человеческая пошлость; но не надо забывать, что зло это иного порядка, – не следует смешивать эти два порядка, как делает Вл. Соловьев в своем суде над Лермонтовым.
До какой степени пошлость его – только болезненный выверт, безумный надрыв, видно из того, с какою легкостью он сбрасывает ее, когда хочет.
Кажется, пропал человек, залез по уши в грязь, засел в ней «прочно, как лягушка в тине», так что и не выбраться. Но вот, после двух лет разврата и пошлости, стоило только приехать близкому человеку, другу любимой женщины, – и «двух страшных лет как не бывало».
С души как бремя скатится,
Сомненья далеко,
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
Такое же мгновенное освобождение от пошлости происходит с ним после дуэли Пушкина. У Лермонтова явилась мысль вызвать убийцу. Когда лучший друг Лермонтова, Столыпин, заметил, шутя, что у него «слишком раздражены нервы», Лермонтов набросился на Столыпина чуть не с кулаками и закричал, чтоб он сию же минуту убирался, иначе он за себя не отвечает. «Mais il est fou à lier!» – воскликнул, уходя, Столыпин.
Стихотворение «На смерть Пушкина» признано было в придворных кругах за «воззвание к революции». Это, конечно, вздор: далеко было Лермонтову до революции. Но недаром сравнивает его Достоевский с декабристом Мих. Луниным: при других обстоятельствах и Лермонтов мог бы кончить так же, как Лунин.
В детстве он напускался на бабушку, когда она бранила крепостных, выходил из себя, когда вели кого-нибудь наказывать, и бросался на отдавших приказание с папкою, с ножом, – что под руку попало.
Однажды в Пятигорске, незадолго до смерти, обидел неосторожным словом жену какого-то маленького чиновника и потом бегал к ней, извинялся перед мужем, так что эти люди не только простили его, но и полюбили, как родного.
Бабушка Лермонтова, после смерти внука, оплакивала его так, что веки на глазах ослабели, и она не могла их поднять. Кое-что знала она о «ядовитой гадине», чего не знали Вл. Соловьев и Достоевский.
Однажды, после долгих лет разлуки с любимой женщиной, которая вышла замуж за другого, увидел он дочь ее, маленькую девочку. Долго ласкал ребенка, наконец, горько заплакал и вышел в другую комнату. Тогда же написал стихотворение «Ребенку»:
О грезах юности томим воспоминаньем,
С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.
О если б знало ты, как я тебя люблю!..
Должно быть, в эту минуту лицо его было особенно похоже на лицо его матери: исчез разлад между слишком умным тяжелым взором и «детски нежным выражением губ»; в глазах его была небесная мудрость, а в губах земная скорбь любви. И если бы тогда увидели его Вл. Соловьев и Достоевский, то, может быть, поняли бы, что не разгадали чего-то самого главного в этой «душе печальной, незнакомой счастью, но нежной, как любовь».
«Какая нежная душа в нем!» – воскликнул Белинский. И тот же университетский товарищ, который, заговорив с Лермонтовым, отскочил, «как ужаленный», заключает свой рассказ: «Он имел душу добрую, я в этом убежден». «Недоброю силою веяло от него», – говорит Тургенев.
Что же, наконец, добрый или недобрый?
И то, и другое. Ни то, ни другое.
Самое тяжелое, «роковое» в судьбе Лермонтова – не окончательное торжество зла над добром, как думает Вл. Соловьев, а бесконечное раздвоение, колебание воли, смешение добра и зла, света и тьмы.
Он был похож на вечер ясный,
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.
Это и есть премирное состояние человеческих душ, таких нерешительных ангелов, которые в борьбе Бога с дьяволом не примкнули ни к той, ни к другой стороне. Для того чтобы преодолеть ложь раздвоения, надо смотреть не назад, в прошлую вечность, где борьба эта началась, а вперед, в будущую, где она окончится с участием нашей собственной воли. Лермонтов слишком ясно видел прошлую и недостаточно ясно будущую вечность: вот почему так трудно, почти невозможно ему было преодолеть ложь раздвоения.
«Верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные», – говорит Печорин. Но это – «необъятная сила» в пустоте, сила метеора, неудержимо летящего, чтобы разбиться о землю. Воля без действия, потому что без точки опоры. Все может и ничего не хочет. Помнит, откуда, но забыл, куда.
«Зачем я жил? – спрашивает себя Печорин, – для какой цели я родился?» Категория цели, свободы открывается в будущей вечности; категория причины, необходимости – в прошлой.
Вот почему у Лермонтова так поразительно сильно чувство вечной необходимости, чувство рока – «фатализм». Все, что будет во времени, будет в вечности; нет опасного, потому что нет случайного.
Кто близ небес, тот не сражен земным.
Отсюда – бесстрашие Лермонтова, его игра со смертью.
«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, – сказано в донесении одного кавказского генерала, – во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действием передовой штурмовой колонны, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».
За экспедицию в Большую Чечню представили его к золотой сабле.
Игра со смертью для него почти то же, что в юнкерской школе игра с железными шомполами, которые он гнул в руках и вязал в узлы, как веревки.
«Никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице его перед дулом пистолета, уже направленного на него», – рассказывает кн. Васильчиков о последних минутах Лермонтова.
Не совсем человек – это сказывается и в его отношении к смерти. Положительного религиозного смысла, может быть, и не имеет его бесстрашие, но оно все-таки кладет на личность его неизгладимую печать подлинности: хорош или дурен, он, во всяком случае, не казался, а был тем, чем был. Никто не смотрел в глаза смерти так прямо, потому что никто не чувствовал так ясно, что смерти нет.
Кто близ небес, тот не сражен земным.
Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь, кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть. Иначе в жизни и в творчестве его все непонятно – почему, зачем, куда, откуда, – главное, куда?
VII
Лермонтов первый в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле.
Пушкин почти не касался этого вопроса. Трагедия разрешалась для него примирением эстетическим. Когда же случилось ему однажды откликнуться и на вопрос о зле, как на все откликался он, подобно «эхо» —
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты нам дана? —
то, вместо религиозного ответа, удовольствовался он плоскими стишками известного сочинителя православного катехизиса, митрополита Филарета, которому написал свое знаменитое послание:
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
А. И. Тургенев описывает, минута за минутой, предсмертные страдания Пушкина: «Ночью он кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания. Теперь (в полдень) я опять входил к нему; он страдает, повторяя: „Боже мой, Боже мой! что это?..“ И сжимает кулаки в конвульсии».
Вот в эти-то страшные минуты не утолило бы Пушкина примирение эстетическое; православная же казенщина митрополита Филарета показалась бы ему не «арфою серафима», а шарманкою, вдруг заигравшею под окном во время агонии.
«Боже мой, Боже мой! что это?» – с этим вопросом, который явился у Пушкина в минуту смерти, Лермонтов прожил всю жизнь.
«Почему, зачем, откуда зло?» Если есть Бог, то как может быть зло? Если есть зло, то как может быть Бог?
Вопрос о зле связан с глубочайшим вопросом теодицеи, оправдания Бога человеком, состязания человека с Богом.
«О, если б человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что ты со мною борешься?»
Богоборчество Иова повторяется в том, что Вл. Соловьев справедливо называет у Лермонтова «тяжбою с Богом». «Лермонтов, – замечает Вл. Соловьев, – говорит о Высшей воле с какою-то личною обидою».
Эту человеческую обиженность, оскорбленность Богом выразил один из современных русских поэтов:
Я – это Ты, о Неведомый,
Ты, в моем сердце обиженный.
Никто никогда не говорил о Боге с такой личной обидою, как Лермонтов:
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей?
Никто никогда не обращался к Богу с таким спокойным вызовом:
И пусть меня накажет Тот,
Кто изобрел мои мученья.
Никто никогда не благодарил Бога с такой горькой усмешкой:
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Вл. Соловьев осудил Лермонтова за богоборчество. Но кто знает, не скажет ли Бог судьям Лермонтова, как друзьям Иова: «Горит гнев Мой за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб мой Иов» – раб мой Лермонтов.
В Книге Бытия говорится о борьбе Иакова с Богом:
«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, доколе не благословишь меня».
Вот что окончательно забыто в христианстве – святое богоборчество. Бог не говорит Иакову: «Смирись, гордый человек!» – а радуется буйной силе его, любит и благословляет за то, что не смирился он до конца, до того, что говорит Богу: «Не отпущу Тебя». Нашему христианскому смирению это кажется пределом кощунства. Но это святое кощунство, святое богоборчество положено в основу первого Завета, так же как борение Сына до кровавого пота – в основу второго Завета: «Тосковал и был в борении до кровавого пота», – сказано о Сыне Человеческом.
Я – это Ты, о Неведомый,
Ты, в моем сердце обиженный.
Тут какая-то страшная тайна, какой-то «секрет», как выражается черт Ивана Карамазова, – секрет, который нам «не хотят открыть, потому что тогда исчезнет необходимый минус и наступит конец всему». Мы только знаем, что от богоборчества есть два пути одинаково возможные – к богоотступничеству и к богосыновству.
Нет никакого сомнения в том, что Лермонтов идет от богоборчества, но куда – к богоотступничеству или богосыновству – вот вопрос.
Вл. Соловьев не только не ответил, но и не понял, что тут вообще есть вопрос. А между тем ответом на него решается все в религиозных судьбах Лермонтова.
Как царь немой и гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно —
Говорит Лермонтов о своем Демоне.
«Он не сатана, он просто черт, – говорит Ив. Карамазов о своем черте, – раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки».
Вся русская литература есть, до некоторой степени, борьба с демоническим соблазном, попытка раздеть лермонтовского Демона и отыскать у него «длинный, гладкий хвост, как у датской собаки». Никто, однако, не полюбопытствовал, действительно ли Демон есть дьявол, непримиримый враг Божий.
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Никто этому не поверил; но что это не ложь, или, по крайней мере, не совсем ложь, видно из того, что Демон вообще лгать не умеет: он лишен этого главного свойства дьявола, «отца лжи», так же как и другого – смеха. Никогда не лжет, никогда не смеется. И в этой правдивой важности есть что-то детское, невинное. Кажется иногда, что у него, так же как у самого Лермонтова, «тяжелый взор странно согласуется с выражением почти детски-нежных губ».
Сам поэт знает, что Демон его не дьявол или, по крайней мере, не только дьявол:
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик, о нет!
Он был похож на вечер ясный,
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.
Почти то же Лермонтов говорит о себе самом:
Я к состоянью этому привык;
Но ясно б выразить его не мог
Ни демонский, ни ангельский язык.
Но если Демон не демон и не ангел, то кто же?
Не одно ли из таких двойственных существ, которые в борьбе дьявола с Богом не примкнули ни к той, ни к другой стороне? – не душа ли человеческая до рождения? – не душа ли самого Лермонтова в той прошлой вечности, которую он так ясно чувствовал?
Если так, то трагедия демона есть исполинская проекция на вечность жизненной трагедии самого поэта, и признание Демона:
Хочу я с небом примириться —
есть признание самого Лермонтова, первый намек на богосыновство в богоборчестве.
«В конце концов я помирюсь», – говорит черт Ивану Карамазову.
Ориген утверждал, что в конце концов дьявол примирится с Богом. Христианством отвергнуто оригеново учение, действительно, выходящее за пределы христианства. Тут какое-то новое, пока еще едва мерцающее откровение, которое соединяет прошлую вечность с будущей: в прошлой – завязалась, в будущей – разрешится трагедия зла.
Но кто же примирит Бога с дьяволом? На этот вопрос и отвечает лермонтовский Демон: любовь как влюбленность, Вечная Женственность:
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом.
И этот ответ – не отвлеченная метафизика, а реальное, личное переживание самого Лермонтова: он это не выдумал, а выстрадал.
VIII
«Кто мне поверит, что я знал любовь, имея десять лет от роду? К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет… Один раз я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее, это была страсть сильная, хотя и ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так… Надо мной смеялись и дразнили… Я плакал… потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату; я не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биенье сердца и дрожащий голос не объяснили другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда. И поныне мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или подумают, что брежу, не поверят в ее существование – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне так кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз… И так рано, в десять лет. О, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будет терзать мой ум!..»
Десятилетний мальчик Лермонтов мог бы сказать своей девятилетней возлюбленной, как Демон Тамаре:
В душе моей с начала мира
Твой образ был напечатлен.
Это – воспоминание о том, что было до рождения, видение прошлой вечности —
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим…
Всю жизнь преследует его это видение —
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.
«1830. Мне пятнадцать лет. – Я однажды, три года назад, украл у одной девушки, которой было семнадцать лет и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий шнурок. Он и теперь у меня хранится. – Как я был глуп!»
Наконец, в последний раз мечта воплотилась или только забрезжила сквозь плоть.
«Будучи студентом, – рассказывает очевидец, – Лермонтов был страстно влюблен в Варвару Александровну Лопухину. Как сейчас помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку: ей было 15–16 лет, мы же были дети и сильно дразнили ее; у нее на лбу над бровью чернелось маленькое родимое пятнышко; и мы всегда приставали к ней, повторяя. „У Вареньки родинка, Варенька уродинка!“ Но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей».
Родные выдали Вареньку за богатого и ничтожного человека, Бахметева. Может быть, она любила мужа, была верной женой, доброй матерью, но никогда не могла забыть Лермонтова и втайне страдала, так же как он, хотя, по всей вероятности, не сознавала ясно, отчего страдает.
Они любили друг друга так долго и нежно…
Но, как враги, избегали признанья и встречи
И были пусты иль хладны их краткие речи.
Он пишет ей через много лет разлуки:
Душою мы друг другу чужды.
Да вряд ли есть родство души.
И вот сквозь тысячи имен, сквозь неимоверную пошлость, «свинство», хулиганство с женщинами – он верен ей одной, любит ее одну:
И я твержу один, один
Люблю, люблю одну…
Говорит ей просто:
… вас
Забыть мне было невозможно.
И к этой мысли я привык;
Мой крест несу я без роптанья.
Любовь – «крест», великий и смиренный подвиг. Тут конец бунта, начало смирения, хотя, может быть, и не того, которого требует Вл. Соловьев.
«От нее осталось мне только одно имя, которое в минуты тоски привык я произносить, как молитву».
Не кончив молитвы
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Святая любовь, но святая не христианскою святостью; во всяком случае, не бесплотная и бескровная любовь «бедного рыцаря» к Прекрасной Даме – Lumen Coeli, Sancta Rosa.
Там, в христианской святости – движение от земли к небу, отсюда туда; здесь, у Лермонтова – от неба к земле, оттуда сюда.
… небо не сравняю
Я с этою землей, где жизнь влачу мою:
Пускай на ней блаженства я не знаю, —
По крайней мере, я люблю.
«Я страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм». Видение бедного рыцаря – тоже «фантастическое», тоже «неопределенное уравнение». Но вот пляска Тамары – тут все определено, «все очерчено – тут формула, тут геометрия». И вот еще родимое пятнышко над бровью Вареньки. «Душою мы друг другу чужды» – но родинка роднее души.
Чудесные рассказываю тайны…
«А Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, наконец, уснет от моего рассказа», – пишет Лермонтов.
Зевающая Беатриче немыслима. А вот зевающая Варенька – ничего, и даже лучше, что она так просто зевает. Чем более она простая, земная, реальная, тем более страсть его становится нездешнею.
Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты. —
Всем упоеньем, всею властью
Бессмертной мысли и мечты.
Для христианства «нездешнее» значит «бесстрастное», «бесплотное»; для Лермонтова наоборот: самое нездешнее – самое страстное; огненный предел земной страсти, огненный источник плоти и крови – не здесь, а там.
И перенес земные страсти
туда с собой.
И любовь его – оттуда сюда. Не жертвенный огонь, а молния.
Посылая Вареньке список «Демона», Лермонтов в посвящении поэмы с негодованием несколько раз перечеркнул букву Б. – Бахметевой и поставил Л. – Лопухиной. С негодованием перечеркнул христианский брак: лучше бы она вышла на улицу и продала себя первому встречному, чем это прелюбодеяние, прикрытое христианским таинством.
Но почему же Лермонтов не женился на Вареньке?
Моя воля надеждам противна моим:
Я люблю и страшусь быть взаимно любим.
«Как бы страстно я ни любил женщину, – говорит Печорин, – если она даст мне только почувствовать, что я должен на ней жениться, – прости, любовь! Мое сердце превращается в камень… Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь мою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Это какой-то врожденный страх – необъяснимое предчувствие… Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей».
В этом омерзении к христианскому браку, разумеется, преувеличение – та мстительная злоба, с которой перечеркнул он букву Б в посвящении «Демона». Но тут есть и более глубокое, метафизическое отвращение, отталкивание одного порядка от другого: ведь предельная святость христианская вовсе не брак, а безбрачие, бесстрастие; предельная святость у Лермонтова – «нездешняя страсть» и, может быть, какой-то иной, нездешний брак. Вот почему любовь его в христианский брак не вмещается, как четвертое измерение в третье. Христианский брак – эту сомнительную сделку с недостижимой святостью безбрачия – можно сравнить с Евклидовой геометрией трех измерений, а любовь Лермонтова – с геометрией Лобачевского, «геометрией четвертого измерения».
Превращение Вареньки в законную супругу Лермонтова все равно, что превращение Тамары в «семипудовую купчиху», о которой может мечтать не демон, а только черт с «хвостом датской собаки».
Тамару от Демона отделяет стена монастырская, в сущности та же стена христианства, которая отделила Вареньку от Лермонтова. Когда после смерти Тамары Демон требует ее души у Ангела, тот отвечает:
Она страдала и любила,
И рай открылся для любви.
Но если рай открылся для нее, то почему же и не для Демона? Он ведь также любил, также страдал. Вся разница в том, что Демон останется верен, а Тамара изменит любви своей. В метафизике ангельской явный подлог: не любовь, а измена любви, ложь любви награждаются христианским раем.
Этой-то измены и не хочет Лермонтов и потому не принимает христианского рая:
Я видел прелесть бестелесных
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.
Не узнавал маленького родимого пятнышка над бровью Вареньки.
Христианской «бестелесности», бесплотности не принимает потому, что предчувствует какую-то высшую святыню плоти.
«Я, может быть, скоро умру и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни – я думаю только о тебе», – пишет Вера-Варенька Печорину-Лермонтову. И он отвечает ей из того мира в этот, оттуда сюда:
Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.
Есть ужас, который для него ужаснее христианского ада:
Смерть пришла, наступило за гробом свиданье,
Но в мире новом друг друга они не узнали.
Вот чего он не может простить христианству.
Покоя, мира и забвенья
Не надо мне!
Не надо будущей вечности без прошлой, правды небесной без правды земной.
Что мне сиянье Божьей власти
И рай святой!
Я перенес земные страсти
Туда с собой.
Смутно, но неотразимо чувствует он, что в его непокорности, бунте против Бога есть какой-то божественный смысл.
Когда б в покорности незнанья
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил.
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться.
Должно свершиться соединение правды небесной с правдой земной, и, может быть, в этом соединении окажется, что есть другой, настоящий рай, —
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь.
Недаром же и в самом христианстве некогда был не только небесный идеализм, но и земной реализм, не только умерщвление, но и воскресение плоти.
Ежели плоть Христа воскресшего – иная, «прославленная» и, вместе с тем, точно такая же, как при жизни, – даже до крестных язв, по которым узнали его ученики, то, может быть, и Варенька воскреснет иной, более прекрасной и, вместе с тем, точно такой же, даже до маленького родимого пятнышка над бровью, по которому ее узнает Лермонтов. Может быть, и там, как здесь, какие-то веселые дети будут играть с ней и петь: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка!» И со «звуками небес» сольются эти не «скучные песни земли». И, может быть, Лермонтов примет этот настоящий рай. А если примет, то конец бунту в любви, конец богоборчеству в богосыновстве.
Но для того чтобы этого достигнуть, надо принять, исполнить до конца и преодолеть христианство. Трагедия Лермонтова в том, что он христианства преодолеть не мог, потому что не принял и не исполнил его до конца.
Он борется с христианством не только в любви к женщине, но и в любви к природе, и в этой последней борьбе трагедия личная расширяется до вселенской, из глубины сердечной восходит до звездных глубин.
IX
«Когда я видел его в Сулаке, – рассказывает один из кавказских товарищей Лермонтова, – он был мне противен необычайной своей неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшей из-под вечно расстегнутого сюртука. Гарцевал на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив холщевую шапку, бросался на чеченские завалы. Собрал какую-то шайку грязных головорезов. Совершенно входя в их образ жизни, спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все трудности похода».
«Я находился в беспрерывном странствии, – пишет Лермонтов Раевскому. – Одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское… Для меня горный воздух – бальзам: хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту».
Опрощением Лермонтова предсказано опрощение Л. Толстого, солдатскою рубахою Лермонтова – мужичий полушубок Л. Толстого; на Кавказе Лермонтов кончил, Л. Толстой начал.
Как из лермонтовского демонизма, богоборчества вышел Достоевский – христианский бунт Ивана Карамазова, так из лермонтовской природы вышел Л. Толстой – языческое смирение дяди Ерошки. Можно бы проследить глубокое, хотя скрытое, влияние Лермонтова на Л. Толстого в гораздо большей степени, чем Пушкина.
«Валерик» – первое во всемирной литературе явление того особенного русского взгляда на войну, который так бесконечно углубил Л. Толстой. Из этого горчичного зерна выросло исполинское древо «Войны и мира».
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем;
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он. – Зачем?
Противоположение культурного и естественного состояния, как «войны и мира», – вот метафизическая ось, на которой вращается вся звездная система толстовского творчества.
«Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, – говорит Лермонтов, – мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять».
Была и будет. Была в прошлой – будет в будущей вечности.
… верь мне: помощи людской
Я не желал, я был чужой
Для них навек, как зверь степной.
Дядя Ерошка мог бы повторить это признание Мцыри.
Мцыри значит монастырский послушник. Та же стена монастырская, стена христианства отделяет его от природы, как Лермонтова от Вареньки, Демона от Тамары.
И вспомнил я ваш темный храм
И вдоль по треснувшим стенам
Изображения святых…
…как взоры их
Следили медленно за мной
С угрозой мрачной и немой…
Христианская святость – неземная угроза, неземная ненависть; а у Мцыри неземная любовь к земле. Вот почему не принимает и он, как Демон, как сам Лермонтов, христианского рая.
…за несколько минут
Между крутых и диких скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял!
И здесь, в любви к природе, как там, в любви к женщине, – то же кощунство, за которым, может быть, начало какой-то новой святыни.
И с этой мыслью я засну
И никого не прокляну.
Неземная любовь к земле – особенность Лермонтова, едва ли не единственная во всемирной поэзии.
Если умершие продолжают любить землю, то они, должно быть, любят ее именно с таким чувством невозвратимой утраты, как он. Это – обратная христианской земной тоске по небесной родине – небесная тоска по родине земной.
Кажется иногда, что и он, подобно своему шотландскому предку колдуну Лермонту, «похищен был в царство фей» и побывал у родников созданья.
«Где был ты, когда Я полагал основания земли?» – на этот вопрос никто из людей с таким правом, как Лермонтов, не мог бы ответить Богу: я был с Тобою.
Вот почему природа у него кажется первозданной, только что вышедшей из рук Творца, пустынной, как рай до Адама.
И все природы голоса
Сливались тут, не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Никто так не чувствует, как Лермонтов, человеческого отпадения от божеского единства природы:
Тем я несчастлив, добрые люди,
Что звезды и небо – звезды и небо,
А я – человек…
Никто так не завидует ходу вольных стихий:
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Он больше чем любит, он влюблен в природу, как десятилетний мальчик в девятилетнюю девочку «с глазами, полными лазурного огня». «Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде голубого неба».
Для того чтобы почувствовать чужое тело, как продолжение своего, надо быть влюбленным. Лермонтов чувствует природу, как тело возлюбленной.
Ему больно за камни:
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Больно за растения:
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.
Больно за воду – Морскую Царевну:
Очи одела смертельная мгла…
Бледные руки хватают песок,
Шепчут уста непонятный упрек —
упрек всех невинных стихий человеку, своему убийце и осквернителю.
Последняя тайна природы – тайна влюбленности. Влюбленный утес-великан плачет о тучке золотой. Одинокая сосна грустит о прекрасной пальме. И разделенные потоком скалы хотят обнять друг друга:
Но дни бегут, бегут года
Им не сойтися никогда.
И волны речные – русалки поют:
Расчесывать кольца шелковых кудрей
Мы любим во мраке ночей,
И в чело, и в уста мы красавца не раз
Целовали в полуденный час.
И желание смерти – желание любви:
Чтобы весь день, всю ночь, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел.
В предсмертном бреду Мцыри песня маленькой рыбки-русалочки —
О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю, как вольную струю,
Люблю, как жизнь мою —
эта песня возлюбленной напоминает песню матери: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал. Ее певала мне покойная мать».
Вечное Материнство и Вечная Женственность, то, что было до рождения, и то, что будет после смерти, сливаются в одно.
«В Столярном переулке у Кукушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27…
Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями; дома казались грязны и темны; лица прохожих были зелены; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет… Вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс: Лугин слушал, слушал; ему стало ужасно грустно».
Это начало неоконченной повести Лермонтова – тоже предсмертного бреда, есть начало всего Достоевского с его Петербургом, «самым фантастическим и будничным из всех городов». Тут все знакомое: и мокрый, как будто «теплый» снег, и «шарманка, играющая немецкий вальс», от которого и Раскольникову, как Лугину, станет «ужасно грустно», и полусумасшедший герой из «подполья», и, наконец, это привидение, «самое обыкновенное привидение», как выражается Свидригайлов.






