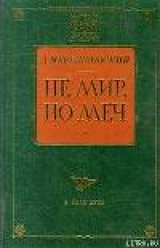
Текст книги "Не мир, но меч"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Старушка Н. H. Шереметева, любившая Николая Васильевича в простоте сердца, до такой степени была напугана всем этим славянофильским жупелом, что бегала к Иверской не раз молиться за своего бедного друга.
Петербургские либералы соперничали с московскими консерваторами в благонамеренной свирепости. Один из школьных товарищей Гоголя в Петербурге не принял его, когда последний заехал к нему по старой памяти вскоре по выходе «Переписки» в 1848 году. Говорят, Гоголь, пораженный отказом, не выдержал и зарыдал тут же у двери. Случай этот впоследствии рассказывался будто бы с кафедры студентам, по всей вероятности, не без нравоучительной цели – показать молодому поколению, как следует честным людям поступать с такими «мерзавцами», как автор «Переписки» (Матер. Шенр. VI, 556). Если это и легенда, то все-таки в образе Гоголя, рыдающего, как падший ангел у врат потерянного рая, у запертой двери честного русского либерала, есть что-то символическое, бросающее свет в самую тайную глубь русской общественности. «Как много в человеке бесчеловечия! – мог бы еще раз воскликнуть Гоголь по поводу всей этой либерально-консервативной травли, – как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости и, Боже, даже в таком человеке, которого свет признает благородным и честным».
Если собрать и оглянуть все вместе, то зрелище представляется единственное: Гоголь объявлен «мерзавцем» за то, что пробирался в воспитатели к великим князьям посредством «Переписки»; цензура режет ее; свободолюбивый наследник сочувствует цензуре; «лучшие друзья» распространяют и даже самому Гоголю сообщают слух о том, что он сошел с ума («Меня встречали даже добрые знакомые твои вопросами: – Скажите, пожалуйста, правда это, что Гоголь с ума сошел?» – пишет ему Шевырев); Белинский «лает собакой», «воет шакалом»; старушка Шереметева молится у Иверской, а славянофилы отчитывают от семи бесов тлетворного запада того, кого сами же скоро признают «мучеником христианства».
В самом деле, что за «вихрь недоразумений»! Как будто не Гоголь, а все русское общество сошло с ума. И в этом сумасшествии что-то фантастическое: не «черт» ли это, которого Гоголь хотел осмеять, плетет вокруг него свою самую смешную и страшную сплетню, мстя смехом за смех?
Одно лишь ясное сознание правоты могло спасти Гоголя. Чувство правоты у него было, но сознания не было. То положение, в которое он поставил себя «Перепиской», требовало силы героя, «богатыря», как он сам выражался. А по природе своей он был мученик, но не герой.
И Гоголь не выдержал, ослабел, отступил, запросил пощады.
«Ради самого Христа, – молил он, увы, злейшего из врагов-друзей своих, С. Т. Аксакова, – прошу вас теперь не из дружбы, но из милосердия войти в мое положение, потому что душа моя изныла… Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины – этого я и сам не могу понять. Знаю только, что сердце мое разбито, и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог… Тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказать от пера и от всего удалиться…»
Он сделал худшее, что мог сделать в своем положении: не только усомнился в правоте своей, но и высказал свое сомнение; а вид сомнения в подобных умственных травлях возбуждает такую же ярость в нападающих, как в гончих вид крови на затравленном звере. Гоголь сам называет книгу свою «чудовищной». «Я точно моей книгой показал исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства… А дьявол, который тут как тут, раздул до чудовищной преувеличенности даже и то, что было без умысла учительствовать»… «Я не имел духу заглянуть в нее („Переписку“), когда получил ее отпечатанную: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками»… Он видит в книге своей «публичную оплеуху, которою попотчевал себя в виду всего русского царства». «Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому… Я размахнулся Хлестаковым…»
От этого страшного позора утешает он себя еще более страшным утешением: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!..» «Мне также нужна публичная оплеуха, и даже, может быть, более, чем кому-либо другому».
Это неимоверно, это переступает все границы литературы: так никто никогда не писал; тут в самом деле – или «мерзавец», или «святой».
Все отреклись от него, и он сам от себя отрекся, пал, как только может пасть человек.
И все-таки он был прав.
V
Главная ошибка его обвинителей заключалась в предположении, будто бы перед изданием «Переписки» произошло с ним что-то особенное, какой-то религиозный переворот, тогда как ничего подобного не происходило в действительности. В «Переписке» он шел тем же путем, которым шел всегда. Мысль религиозная, главная, можно сказать, единственная мысль всей жизни его выразилась здесь яснее, чем в других произведениях, потому что, именно в то время мысль эта перед ним выступала яснее, чем когда-либо.
В 1825 году из Нежина пятнадцатилетний Гоголь пишет матери: «Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от сего… Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести». «Внутренно я не изменялся никогда, – писал он уже в зрелые годы. – С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь никогда во мнениях главных». «Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду». «Из всех писателей, которых мне ни случалось читать биографии, я еще не встречал ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет».
Не друзья-враги, вроде славянофилов, а настоящие друзья Гоголя, которые, если и не совсем понимали, то все-таки любили его искренно и просто, как человека, в «Переписке» узнали подлинную живую личность, живое лицо друга: хорош или дурен, но таким он был в действительности; он сказал о себе правду, по крайней мере ту, которую умел сказать, которую сам знал о себе.
«Я вас совершенно узнаю в ваших письмах; для меня в них все просто, понятно, – писала ему графиня Виельгорская. – Мне кажется, что, читая их, я вас слышу, как вы часто с нами говорили… Вы высказали вашу душу, и мы вас поняли». Жуковский, который присутствовал при возникновении «Переписки», прямо говорит: «Когда ты мне читал и то, и другое, имея тебя самого перед глазами, я был занят твоей личностью, зная, как все, слышанное мною, было искренним выражением тебя самого». Так думала и А. Ф. Смирнова, подруга Пушкина; так думал бы, конечно, и сам Пушкин. Он посоветовал однажды Гоголю написать историю русской критики. Из этого совета выросла «Переписка», точно так же, как из двух пушкинских анекдотов выросли «Ревизор» и «Мертвые души».
Кажется, Пушкин, предсказавший всю деятельность Гоголя, гениальным чутьем своим чуял, что деятельность эта не может вместиться в чисто художественном творчестве, что Гоголь создан не для одних «звуков сладких и молитв», но и для какой-то новой «битвы», для какого-то нового, самому Пушкину неведомого действия. «Переписка» и есть первый, еще слабый, потому что слишком ранний, опыт, завещанный Пушкиным русской критике не в старом, узком смысле публицистики, как поняли критику славянофилы и западники Аксаковы, Шевырев, Добролюбов, Писарев, Чернышевский и даже в значительной мере Белинский, а в смысле новом, нашем, как его никто не понимал до нас, – критики, как вечного и всемирного религиозного сознания, как неизбежного перехода от поэтического созерцания к религиозному действию – от слова к делу. Надо было реально испытать этот критический переход, как мы его испытали за последний полувек; надо было увидеть, как мы видели в Л. Толстом и Достоевском, конец русской литературы, т. е. конец чисто художественного, бессознательного, пушкинского творчества («звуков сладких и молитв») и, вместе с тем, начало нового, религиозного сознания, новой «битвы», нового действия, для того чтобы понять все огромное, в этом смысле пророческое значение «Переписки».
В Пушкине была доныне вся Россия; но «нельзя повторять Пушкина», «другие дела начались для поэзии», – вот главная мысль Гоголя-критика. Тут увидел он дальше, чем Достоевский, который все-таки желал повторять Пушкина и не видел за ним ничего.
Друг Пушкина, старик Плетнев, высказал однажды поразительную мысль, как будто внушенную ему из-за гроба вещим другом: «Переписка» есть начало русской литературы. Если заменить здесь слово «литература» словом критика, разумеется, не в старом, а в вечном и новом смысле, то есть в смысле перехода от бессознательного творчества к творческому сознанию, то это и будет наша мысль. В «Переписке» нам слышится именно конец, совершенство, «неповторяемость» Пушкина, т. е. конец всей русской литературы и начало того, что за Пушкиным, за русской литературой, – конец поэзии – начало религии.
«Мне ставят в вину, что я говорил о Боге… Что же делать, если говорится о Боге?.. Что же делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?.. Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин, и не мое дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право» (Изд. Кулиша, VI, 373). Вот и до сей поры никем не опровергнутое, неопровержимое право, правота Гоголя. Он первый заговорил о Боге не отвлеченно, не созерцательно, не догматически, а жизненно, действенно – так, как еще никто никогда не говорил в русском светском обществе. Правду или неправду он говорит, неотразимо все-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого вопрос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего русского всемирного спасения.
«Дело идет теперь не на шутку», – предостерегает он, – и для него это действительно так. Мудрость ли это или безумие, – он, во всяком случае, не только говорил о Боге, но и делал, по крайней мере, желал сделать, отчасти и сделал для Бога то, о чем говорил.
В духовном завещании обращается к «друзьям своим», т. е. ко всем русским людям: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». Это последние слова Гоголя, обращенные к нам: в них весь смысл его жизни, и он имел право их сказать, потому что заплатил за это право жизнью.
Он почувствовал до смертной боли и до смертного ужаса, что христианство для современного человечества все еще остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным, но не исполненным. «Церковь, – говорит он, – созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь». – «Христиане!.. Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, на место того, чтобы призвать его в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане».
Христианство не входит в жизнь, и жизнь не входит в христианство: они разошлись и с каждым днем все более расходятся. Христианство оказалось величайшим отрицанием жизни, жизнь – величайшим отрицанием христианства. Христианство сделалось безжизненным, бесплотным, бездейственным, а жизнь, плоть, действие – нехристианскими. Все современное европейское человечество раздирается этим противоречием.
«И непонятною тоскою, – говорит Гоголь, – уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь, все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоем мире».
Положение России, утверждает Гоголь, ничем не лучше положения западной Европы. «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? – Никого мы не лучше, а в жизни еще неустроенней и беспорядочней всех их. Хуже мы всех прочих – вот что мы должны всегда говорить о себе». России угрожают те же «страхи и ужасы», как Европе: «Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помутились ваши мысли и вы подумали бы, как бы убежать из России. Но куда бежать? – вот вопрос. Европе пришлось еще труднее, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит».
И вместе с тем он хотя, повторяю, и не сознает, но зато предчувствует с такою силою, как никто из людей современной Европы, что в христианстве заключена возможность нового соединения, нового синтеза, «возможность примирения тех противоречий, которые не в силах примирить» человечество помимо Христа.
«Церковь, – говорит он, – может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы». Она «одна в силах разрешить все узлы недоумения и все вопросы наши». Здесь Гоголь противополагает церковь восточную – западной, впадая таким образом в противоречие с самим собой: он ведь только что сказал, что мы вовсе не лучше, а «хуже всех прочих», что и на востоке, так же как на западе, церковь не вошла в жизнь. Слишком ясно, что в этом смысле одностороннего аскетизма, отречения от жизни, отрицания жизни, подмены святой плоти бесплотною святостью восточное христианство шло тем же путем, что и западное; можно даже сказать, что тень христианской ночи, монашество, распространялось именно с востока на запад, а не с запада на восток. Гоголь под «церковью восточною православною» разумеет не прошлую или настоящую, историческую, а грядущую, сверхисторическую, мистическую церковь христианства воистину вселенского. Недаром И. С. Аксаков утверждал, что Гоголь в религиозных исканиях своих стремился разрешить задачу «исполински-страшную», «которой не разрешили все 1847 лет христианства».
Это так: Гоголь, действительно, хотя и в очень редких, но самых светлых точках религиозного сознания своего противополагал свой собственный взгляд на Христа всему историческому христианству, как западному, так и восточному.
Правда, он делал это еще слишком неясно, бессознательно, слишком часто смешивал православие византийское или русское с действительно вселенским, кафолическим, церковь настоящую с будущей. Но для нас теперь уже ясно, что только в этой последней действительно заключен, как утверждает Гоголь, «полный и всесторонний (а не односторонне-монашеский) взгляд на жизнь, видимо сбереженный для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех его верховных силах. В ней дорога и путь – как устремить все в человеке в один согласный гимн».
Последняя цель христианства для Гоголя есть всемирное «просвещение». «Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме (значит, мы могли бы прибавить, и не только в духе, но и в плоти, не только в небесном, но и в земном), пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей церкви: „Свет Христов просвещает всех!“
Гоголь не противопоставляет ни христианства просвещению, как славянофилы, ни просвещения – христианству, как западники, – он соединяет эти „два начала“ в одно. Гоголь с такой силой, как никто из людей современной Европы, почувствовал, что первая и последняя сущность христианства – не мрак, а свет, не отрицание, а утверждение мира, не распятие, а воскресение плоти, не бесплотная святость, а святая плоть.
Он первый почувствовал „весеннее дыхание“ самого древнего и нового из праздников христианства: „Праздник Светлого Воскресения воспразднуется как следует прежде у нас, нежели у других народов… Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые призраки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: Христос воскрес! и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будят нас. Где носятся так очевидно признаки, там недаром носятся; где будят, там разбудят… И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих в разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: у нас прежде, нежели во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресение Христово!“
Недаром этими словами кончается „Переписка“ Гоголя. Здесь достиг он высшей точки прозрения, которой когда-либо вообще достигал, здесь он почти видит то, что мы уже совсем увидели. Это еще не мысль, не сознание, а только пророческое предчувствие, только смутное чаяние. Но устремление этого чаяния уже совпадает с нашим последним религиозным сознанием: от христианства старого, темного, исключительно монашеского, уединяющего, к христианству новому, светлому, соединяющему, вселенскому, от умерщвления к воскресению плоти, от первого – в немощи и бесславии – ко второму Пришествию – „в силе и славе“ – таков путь, общий у Гоголя с нами.
VI
Гоголь говорит: „из двух начал явился Пушкин“, т. е. вся русская, по существу своему, уже вселенская поэзия; он мог бы прибавить: из тех же самых двух начал явится и новое вселенское христианство; в нем высший синтез, соединение, равновесие двух начал – плотского и духовного, человеческого и Божеского, земного и небесного.
Но гениальным прозрением своим прикоснувшись к синтезу только в одной точке своего религиозного сознания, Гоголь не устоял на ней. Равновесие, тотчас же нарушившись и здесь, так же как и во всем остальном существе его, нарушалось все более и более – до совершенного хаоса. Искра сознания потухла, и он остался еще в большей тьме. Как могли другие увидеть его, когда он сам себя не видел? Все смешалось опять: новое со старым, вечное, вселенское с временным, византийским или русским; последнее соединение с последним раздвоением. Вместо обещанного синтеза плоти и духа, земли и неба является более неразрешимая, чем когда-либо, антитеза, противоречие.
„Жить в Боге значит уже жить вне самого тела, а это невозможно на земле, ибо тело с нами“. Если это так, то и само христианство невозможно. „Чтобы отселе в ваших глазах как бы вовсе не существовало вас самих“. „Позабудьте о себе, как бы вас и не было вовсе на свете“. Не какая-либо часть или свойство плоти, земли, любви к себе, – а вся плоть в существе своем, как мистическое начало, противоположна другому началу, как зло – добру, вечное да – вечному нет, как проклятое, бесовское – святому, Божескому.
Здоровье тела – состояние скотское. „Заплывет телом душа… Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему здоровья и счастья“.
Или Бог, или зверь, – но не Богочеловек. Вместо святой плоти – бесплотная святость. Дух есть отрицание плоти, Бог – отрицание мира. Не отрицание для утверждения, а голое отрицание. „Вечная жизнь перед временной – то же, что все перед ничто“.
Некогда Гоголь верил, что „есть страсти, которых избрание не от человека… Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечное, зовущее, неумолкающее во всю жизнь… Все равно, в мрачном ли образе или пронеслись светлым явлением – одинаково вызваны они для неведомого человеком блага“… В них „мудрость небес“; в них какая-то божественная „тайна“.
Когда Гоголь это писал, он понял бы, почему страдания самого Господа названы „страстями“; понял бы, что здесь не одно совпадение слов. Теперь для него страсть значит грех, бесстрастие – святость. „Берегитесь всего страстного, – твердит Гоголь, – берегитесь даже в Божественное внести что-нибудь страстное. Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог, и в нем только дает узнать себя“.
Некогда христианство было для него величайшим деланием, новым героизмом, „богатырством“. Теперь становится оно величайшим буддийским „неделанием“, отречением от мира, бездейственным созерцанием.
Проповедник католичества восточного должен выступать так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего голоса, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвигнулось… „Здесь католичество восточное, утреннее, сливается с западным, вечерним в один вселенский мрак“. „Религия наша и католическая совершенно одно и то же“, – говорит сам Гоголь. Недаром Шевырев предостерегал его: „Берегитесь этой заразы“. Старая песнь скорби и ужаса, звучащего сквозь грозный гул органа в средневековых соборах: Dies irae, dies ilia – заглушает новую песнь, которая должна бы прозвучать сквозь радостный гул „вселенских колоколов“ в солнечно-светлом храме грядущего христианства, во вселенском соборе Святой Софии, Премудрости Божией: Христос воскрес».
Не умерщвление для воскресения, а умерщвление без воскресения. Не страх к веселию сердца, а только страх к страху, один бесконечно-растущий страх: «страшусь всего», – определяет сам Гоголь источник всего христианства. «Я ни во что теперь не верю и, если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы». – «Оно на краткий миг», шепчет глухо внятный мне голос… Радостью своей мы можем только оскорбить Бога; не такое время, чтобы кому-либо теперь радоваться. Никакой радости, никакой свободы: «Бог хочет нас заставить насильно вспомнить о том, что нужно повести другую жизнь, насильно хочет нас спасти».
Сущность христианства – не свет, а мрак: «Свету далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря». Но все же последняя цель этих «небесных истин» – обратить весь мир в один «мрачный монастырь». Христианство – это как бы нависший свод могилы, черное, не земное, земляное небо над черной, мертвой землей; христианство – не всемирное «просвещение», а всемирное помрачение; не свет во тьме, а тьма во свете мира.
И в бездонной глубине этой тьмы шевелятся исполинские страшилища, «в бездонном провале мертвецы грызут мертвеца»: «Еще один всех выше, всех страшнее, хотел подняться от земли, но не мог, не в силах был этого сделать – так велик вырос он из земли» («Страшная месть»). Понимал ли сам Гоголь, кто этот «выросший из земли великий, великий Мертвец», который хочет и не может воскреснуть, «смертью смерть победить»?
Белый цвет новых брачных одежд, обещанных в Апокалипсисе, белый цвет воскресения, в котором все цвета радуги сливаются в один, снова подменен черным цветом старых безбрачных одежд, монашеским черным цветом смерти, в котором все цвета радуги – жизни уничтожаются. «Христианство не удалось». Жених не пришел. Гасите светильники. Христианство оказалось не огнем, которого никакая вода не погасит, а водой, которая гасит всякий огонь. Погасли светильники. Жених не пришел.
«Вы очень односторонни и стали недавно так односторонни… Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское», – предостерегал Гоголь других, а себя самого не предостерег. Замечательно, что самый глубокий и верный отзыв о «Переписке» принадлежит одному из ближайших друзей Пушкина, брату женщины, которую он любил, – А. О. Россет, так что и здесь опять, как в отзыве Плетнева, звучит как бы загробный голос самого Пушкина: «Какой господствующий тон книги? Тон болезненной слабости телесной, напуганного воображения, какого-то уныния…» Мне кажется, что, представляя христианство в его настоящем духе, в духе света, крепости и силы, ныне скорее обратишь человека ко Христу. Когда церковь просветлит или высветлит всего насквозь человека, – человек этот выразится в противоположной вам форме… Он покажет примером, что человек может жить в мире Христом и для Христа – без уныния и без страха, ибо «любовь изгоняет страх». В одном только ошибался Россет, именно в том, что видел причины «этой слабости, уныния и страха» в личных свойствах Гоголя, а не в общих свойствах всего исторического христианства, всего «католичества восточного», так же как и западного.
Если бы у Гоголя не было вовсе прозрений в новое христианство, он мог бы остановиться и успокоиться на старом. Но слишком стремительно рванулся он вперед. Слишком многое увидел для того, чтобы это прошло для него безнаказанно. Движение назад равно было движению вперед. Не достигнув сверхисторического, он упал ниже, чем историческое христианство. Не найдя будущего в будущем, стал искать его в настоящем и в прошлом.
От белого цвета соединения, через черный цвет уединения, монашества, к серому цвету смешения, середины, пошлости; от Иоанна Сына Громова, через Иоанна Лествичника к московскому царю Ивану, к попу Сильвестру с его «Домостроем», – таков обратный путь Гоголя, его истинная «реакция». «В идеалах Домостроя, – говорит он, – слышна возможность основания гражданского на честнейших законах христианских». Лучше Домостроя нечего искать. Он усматривает в нем одно из самых отрадных явлений русского духа: «мы видели соединение Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропчущую на Марию, но согласившуюся с тем, что она избрала благую часть». Кажется, он искренне верил в реальную возможность вернуться к Домострою; он даже придумывал способы перестроить всю новую Россию в хозяйственные клетушки, кремлевские терема и часовни по плану благовещенского попа Сильвестра.
«Как сделать, – спрашивает Гоголь, – чтобы за церковью вновь утверждено было то, что должно принадлежать Церкви? Словом, как возвратить все на свое место? В Европе это сделать невозможно. Она обольется кровью, изнеможет в напрасных борениях и ничего не успеет. В России может этому дать начало всякий генерал-губернатор… и так просто… Патриархальностью жизни своей и простым образом обращения со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетами и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту… Так же как на водворение обычаев, может подействовать генерал-губернатор и на законное водворение Церкви в нынешнюю жизнь русского человека: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, самими мерами»… – «Христос научит вас, – обращается Гоголь к одному из этих таинственных избранников, – будьте отец истинный всем».
Так вот кто решит «исполински-страшную задачу, которой не решили 1847 лет христианства», вот кто спасет вселенское православие – патриархальные русские генерал-губернаторы, живущие по «Домострою», преображенные Сквозняки-Дмухановские!
Отсюда – оправдание крепостного права, как учреждения глубоко народного и христианского. Если бы Чичиков сошел с ума и обратился в христианство, он придумал бы что-нибудь подобное. Слишком понятно, что Белинский должен был просто взбеситься, «залаять собакою, завыть шакалом» от такого «христианства». Здесь – бессознательная правота Белинского, которая, во всяком случае, стоит противоположной, столь же бессознательной, правоты Гоголя. В своем простодушном безбожии («Русский народ самый атеистический из всех народов»), в своем антихристианстве Белинский все-таки ближе к Христу, чем Гоголь.
Гора родила мышь. Начал гладью, кончил гадью. От хлестаковской «легкости» – к чичиковской «основательности». «Размахнулся Хлестаковым», обернулся Чичиковым. Вместо громового удара звонкая на всю Россию «оплеуха самому себе». Не столько «исполинское страшилище», сколько исполинская карикатура. Не лик Христов, а как в письме сумасшедшего Кириллова в «Бесах» у Достоевского – какая-то «рожа с высунутым языком», едва ли не рожа самого «черта без маски».
VII
Итак, внутренний провал «Переписки» соответствовал внешнему. Теперь, когда все покинули Гоголя, он остался наедине со своим чертом для последней битвы.
Сознание говорило ему: умертви свое тело; «жить в Боге значит уже жить вне самого тела. Но это невозможно, пока человек на земле, ибо тело с нами», – возражала сознанию бессознательная стихия, «первозданный элемент», заложенный в Гоголя и казавшийся ему теперь «языческим», – «грешною плотью». Чем больше подавлял, умерщвлял он своим «христианским» сознанием эту бессознательную стихию, тем глубже скрывалась она, уходила от света сознания и здесь становилась, действительно, грешною, темною, демоническою, – скрывалась до времени, копилась в тишине, изредка только обнаруживаясь взрывами.
По рассказам очевидца, после долгих месяцев болезни, уныния, страха, именно в то время, когда этого, казалось, можно было всего менее ожидать, овладевали Гоголем «порывы неудержимой веселости; – в эти редкие минуты он болтал без умолку, острота следовала за остротой, и веселый смех его слушателей не умолкал ни на минуту». Он казался вдруг совсем здоровым; так же внезапно исцелялся, как внезапно заболевал: точно «припадки» здоровья, чрезмерной силы жизни – обратно-подобные припадкам болезни. В изможденном постнике, монахе, «со смиренным видом, с потухшими очами и тихим потрясающим гласом, исходящим из души, в которой умерли все желания мира», – мелькает прежний Гоголь, «вольный казак», который «глядит на жизнь, как на трын-траву», и способен, «встав поутру с постели, хватить в одной рубашке трепака по всей комнате». Целые месяцы смотрит «букою», твердит уныло: все прах, все грех, страшусь всего, – пока вдруг опять не проснется, «как встрепанный». «Проходя однажды с Анненковым в Риме по глухому переулку, он до того воодушевился, что, наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону». В деревне у Смирновой огорчает и пугает всех своей угрюмостью, как вдруг затевает игру с детьми – «выдумывает» луну: «достает пустой круглый ящик, в котором были привезенные из Константинополя лакомства (халва и рахат-лукум), вынимает дно ящика, наклеивает бумагу, намазывает ее маслом, приклеивает огарок» – и луна готова. «Дети вне себя от восторга», подвешивают ящик на дерево и говорят, что это луна для их будущего театра.
Дети вообще любят Гоголя больше, чем взрослые. С детьми забывает он о своем христианстве. Но, кто знает, – не ближе ли он именно в эти минуты ко Христу, чем когда-либо, не ближе ли ко Христу Гоголь пляшущий, чем плачущий? Если бы только он это понял, то, может быть, спасся бы. Но в том-то и дело, что все «1847 лет христианства» стояли между ним и таким пониманием Христа. И даже в последние годы жизни, когда он, по-видимому, уже совсем измолился, испостился, вдруг вспомнит детский смех Пушкина, жгучий полдень в Кампаньи, родную казацкую песню – и опять все «страшилища» как будто ему «только снились», вот-вот, кажется, проснется, стряхнет их с плеч.






