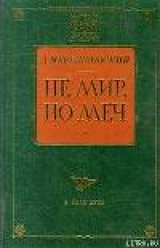
Текст книги "Не мир, но меч"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
Из этой посылки умного Ивана делает вывод безумный Кириллов:
«Для меня непонятно, как можно сказать: нет Бога, – чтобы в ту же минуту не сказать: я – Бог».
Человечество – без Бога, человечество – против Бога, человечество – Бог, человек – Бог, я – Бог, – вот ряд посылок и выводов, ряд ступеней, образующих пока еще темную для сознания русской интеллигенции, метафизическую лестницу, которая ведет неминуемо от религии человечества к религии человекобожества.
Внизу этой лестницы – чеховский интеллигент; вверху – горьковский босяк. Между ними ряд ступеней, который еще не видит, но по которым уже идет русская интеллигенция.
II
«Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, черт ее побери! Я б им сказал: о, гниды!..» – говорит у Горького босяк, мечтающий сделаться великим писателем.
«До судорог противна мне была эта публика, – говорит другой босяк, бывший актер, – и часто мне хотелось плюнуть на нее со сцены, выругать ее самыми похабными словами… Как бы хорошо иметь в руке такой длинный нож, чтобы им сразу, всему первому ряду зрителей, носы срезать… Черт бы всех их взял!..»
Должно отдать справедливость Горькому: ежели русская интеллигенция обманулась в босяке, то она не была обманута Горьким; он сказал всю, или почти всю правду, которую видел сам.
И тем не менее:
«Мы смотрим на босяка, любуемся на него, удивляемся ему», – говорит один восторженный критик, и в этих словах – крик сердца всей русской интеллигенции.
Как же объяснить эту любовь, или, вернее, влюбленность? Чем, собственно, пленил босяк русскую интеллигенцию?
Прежде всего тут, конечно, сочувствие политическое. Босяк, не столько по внутреннему содержанию своему, сколько по революционной внешности, казался естественным союзником в самом святом, нужном и великом деле русской интеллигенции, в деле политического освобождения.
Ежели в босячестве действительно скрывается стихийная мятежность, огненный взрыв человеческой личности, бессознательный протест против общественного гнета, который всех нас одинаково давит, то, разумеется, такой протест, откуда бы ни шел, заслуживает сочувствия. Кто бы и какой бы ценой ни помогал нам, только бы помогли! Бывают такие минуты, когда человеку с петлей на шее некогда разбирать, чьи руки срывают эту петлю. Босяк, так босяк! Кажется, не только босяку, мы и черту были бы рады!
К сожалению, события последнего времени показывают, что надежды русской интеллигенции на деятельную роль босяка в освободительном движении преувеличены и что провести черту, которая отделила бы босячество от хулиганства, довольно трудно. О босяке никогда нельзя знать, да он и сам не знает сегодня, что с ним будет завтра и чем он окажется, случайным ли союзником русской интеллигенции или патриотическим героем черной сотни, избивающей эту же самую интеллигенцию. В чем другом, а в тактическом общественном действии от босяка мало корысти.
Корысти, впрочем, никогда и не было в непосредственном чувстве русской интеллигенции к босяку. Политическое сродство тут только внешность, за которой скрывается гораздо более глубокое, внутреннее и первоначальное сродство метафизическое.
Откуда явился босяк?
Великая заслуга Горького в том, что он сумел не поддаться легкому соблазну объяснить босячество исключительно внешними социально-экономическими условиями.
«Тебе не в чем винить себя… тебя обидели», – говорит интеллигент босяку, доказывая, что он, босяк, «существо, длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля».
«Во мне самом что-то неладно, – возражает босяк интеллигенту. – Не так я, значит, родился, как человеку это следует… Я на особой стезе. И не один я. Много нас этаких. Особливые мы будем люди и ни в какой порядок не включаемся… Кто перед нами виноват? Сами мы перед собой и жизнью виноваты».
«И чем упорнее, – признается интеллигент, – я старался доказать ему, что он – „жертва среды и условий“, тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности перед самим собой и жизнью».
«Каждый человек себе хозяин, и никто в том неповинен, ежели я подлец есть…» «Я есть заразный человек… Несчастный этакий, ядовитый дух из меня исходит. И как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается… Тлеющий я человек… Подумай, ведь я хуже холерного!»
Босяк не только не сознает себя жертвой «общественной среды и условий», а напротив, сознает, что эта среда и эти условия могут сделаться жертвой «заразного духа» – тления и смерти, которые он носит в себе.
Кроме босячества внешнего, социально-экономического, есть босячество внутреннее, психологическое – последний предел нигилизма, последняя обнаженность, нагота и нищета духовная. И вовсе не потому человек доходит до внутреннего босячества, что он раньше сделался жертвой внешних социальных условий, очутился «на дне», а как раз наоборот: потому-то он и очутился «на дне», что дошел до внутреннего босячества. Не внутреннее босячество от внешнего, а внешнее от внутреннего.
Достоевский не имел никакого влияния на Горького. Босяка своего взял Горький прямо из жизни. Тем более поразительны психологические совпадения горьковских босяков и некоторых героев Достоевского.
В «Дневнике писателя» от 1873 года, по поводу двух мужиков, которые, заспорив, «кто кого дерзостнее сделает», стреляли из ружья в Причастие, Достоевский говорит об одной свойственной будто бы всему русскому народу, психологической особенности:
«Это – потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну – и в частных случаях, но весьма нередких – броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это – потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть – тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего – от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительнейшим безобразником и преступником, стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой круговорот судорожного и моментального самоотрицания, так свойственный русскому характеру в иные роковые минуты его жизни».
Вот не только психология, но и метафизика, отчасти даже мистика босячества – в народе. А вот то же самое – в русском интеллигенте – в «Подпольном человеке». Что у Горького – «На дне», то у Достоевского – «Подполье»: и то, и другое – прежде всего, не внешнее, социально-экономическое положение, а внутреннее, психологическое состояние.
Бунт «подпольного человека» есть бунт не только против какого бы то ни было общественного, но и против всего мирового порядка – против законов природы, законов естественной необходимости и, наконец, законов собственного разума. Человеческий, только человеческий разум, отказываясь от единственно возможного утверждения абсолютной свободы и абсолютного бытия человеческой личности – в Боге, тем самым утверждает абсолютное рабство и абсолютное ничтожество этой личности в мировом порядке, делает ее слепым орудием слепой необходимости – «фортепианной клавишей или органным штифтиком», на котором играют законы природы, чтобы, поиграв, уничтожить. Но человек не может примириться с этим уничтожением. И вот, для того чтобы утвердить, во что бы то ни стало, свою абсолютную свободу и абсолютное бытие, он принужден отрицать то, что их отрицает – то есть мировой порядок, законы естественной необходимости и, наконец, законы собственного разума. Спасая свое человеческое достоинство, человек бежит от разума в безумие, от мирового порядка в «разрушение и хаос».
«Ежели, – рассуждает „подпольный человек“, – когда-нибудь наступит на земле окончательное торжество разума, которое даст человечеству благополучие, рассчитанное „по табличке логарифмов“, то непременно возникнет какой-нибудь джентльмен, с насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажем всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу ногой прахом, единственно с той целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что непременно последователей найдет: так человек устроен… Осыпьте его всеми земными благами, дайте ему такое экономическое довольство, чтобы ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши… Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепианной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится… Выдумает разрушение и хаос, проклятие пустит по свету… Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке – и хаос, и мрак, и проклятие – так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, – так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством – доказывал».
«Троглодитством», или босячеством.
Таков метафизический и, может быть, даже мистический предел интеллигентного «подполья» и босяцкого «дна». Ежели интеллигент, отказавшийся от религии, пока еще не видит этого предела и может сомневаться, идет ли он туда же, куда «подпольный человек» и босяк, то уже нет никакого сомнения в том, что он идет оттуда же.
Механическое миросозерцание, то есть утверждение, как единственно реального, того мирового порядка, который отрицает абсолютную свободу и абсолютное бытие человеческой личности в Боге и который делает из человека «фортепианную клавишу» или «органный штифтик» слепых сил природы, – вот общая метафизическая исходная точка интеллигента и босяка.
«Существуют законы и силы, – говорит один из босяков Горького. – Как можно им противиться, ежели у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлежит законам и силам? Очень просто. Значит, живи и не кобенься, а то сейчас же разрушит в прах сила». – «Значит, человеку некуда податься?» – «Ни на вершок!.. Никому ничего неизвестно… Тьма!»
Это ведь и есть научное – ignoramus, не знаем, – спустившееся до босяцкого «дна». И здесь, «на дне», оно будет иметь точно такие же последствия, как там, на интеллигентной поверхности.
Прежде всего – вывод: нет Бога; или, вернее: человеку нет никакого дела до Бога, между человеком и Богом нет соединения, связи, религии ибо religio и значит связь человека с Богом.
«Я видел небо, – там только пусто. Я знаю правду: земли творенье, землей живу я», – запевает в «Песне о соколе» летающий в небе романтический босяк. «А с земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь», – кончает песню босяк реалистический, стоящий на земле. Земная жизнь бесцельна. «Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет. И спрашивать про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, и посматривай…» Жизнь не только бесцельна, но и бессмысленна, потому что кончается смертью – уничтожением: «Ничего там не будет, ничего… Спокой – и больше ничего!», – напутствует умирающую старец Лука, учитель босячества.
Этот догматический позитивизм (потому что у позитивизма есть тоже своя догматика, своя метафизика и даже своя мистика) неизбежно приводит к догматическому материализму:
«Брюхо в человеке – главное дело. А как брюхо спокойно, значит, и душа жива, – всякое деяние человеческое от брюха происходит».
Утилитарная нравственность – только переходная ступень, на которой нельзя остановиться между старой метафизической моралью и тем крайним, но неизбежным выводом, который делает Ницше из позитивизма, – откровенным аморализмом, отрицанием всякой человеческой нравственности. Интеллигент не сделал этого крайнего вывода потому, что был удержан от него бессознательными пережитками метафизического идеализма. Босяка уже ничто не удерживает; и в этом отношении, так же как во многих других, он опередил интеллигента: босяк откровенный и почти сознательный аморалист.
«Я со времен младых ногтей моих морали терпеть не мог… Зубы моей совести никогда у меня не болели». – «Знаете вы, что такое идеал? Это просто костыль, придуманный в ту пору, когда человек стал плохим скотом и начал ходить на одних задних ногах».
Идеалы отвлеченного гуманизма, философского человеколюбия – подогретое блюдо XVIII века, которым, в сущности, доныне питается русская интеллигенция – возбуждают в босяке чувство наибольшей брезгливости.
«Вы пишете разные статьи, человеколюбие всем советуете и прочее такое… а я все читаю… И противно мне читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова бесстыжие».
«Скажи, как, по-твоему, жить надо? Чего ты хочешь?» – спрашивает старик Маякин, богатый купец по социальному положению, а по душе тот же босяк, свою дочь, интеллигентную барышню, начитавшуюся умных книжек. «Чтобы все были счастливы… и довольны… и все люди равны… во всем равенство», – лепечет барышня. «Так я и знал: позлащенная дура ты! – решает старик. – Как могут быть все счастливы и равны, если каждый хочет выше другого быть?.. Никогда человек человеку не уступит, – дураки только это думают. У каждого душа своя и лицо свое. Только тех, кто души своей не любит и лица не бережет, можно обтесать под одну мерку… Эх, ты!.. Начиталась, нажралась дряни!»
Вероятно, в эту минуту у старого купца Маякина точно такая же «насмешливая физиономия», как у того «неблагодарного джентльмена», который, по мнению подпольного человека, непременно возникнет в будущем «хрустальном дворце» и посоветует людям «столкнуть с одного разу ногой прахом все это благоразумие».
Но не отвлеченное философское человеколюбие, а живая религиозная жалость, милосердие к людям – босяку всего ненавистнее.
«– Человека жалко!
– Да он кто тебе, человек-то? Понимаешь ты это? Он вот поймает тебя за шиворот, да и как блоху под ноготь! В ту пору ты его и пожалей… да! Тогда ты ему и обнаружь глупость-то свою. Он тебя за твою жалость семью муками измучит. Кишки все твои на руку себе навертит, по вершку в час все жилы из тебя вытянет… Ах ты… жалость! А ты моли Бога, чтобы без всякой жалости, просто прикокнули тебя и шабаш!.. Жалость – тьфу…»
Горький называет эти страшные слова «суровыми и верными». Положение так называемой «христианской» жалости в мире таково, что, действительно, нелегко опровергнуть правду этих слов.
«Жалеть я тебя не могу, – говорит Босяк Артем еврею Каину. – Нет у меня жалости к тебе и ни к кому нет. Противно мне это… Не мое это дело… Все я только ломал себя, притворялся больше. Думал, жалею, ан выходит – так это, один обман. Совсем я не могу жалеть!»
Иногда кажется, что босяки Горького читали философа Ницше, хотя и в дешевом, не совсем грамотном русском переводе, но поняли в нем все-таки больше, чем русские интеллигенты. Иногда хочется даже спросить: узнал ли сам Ницше своего сумеречного Диониса или солнечного Аполлона в каком-нибудь чудовищном Кувалде или Пляши-Ноге, «оборванном, исцарапанном, черном, как сатана»? Если бы, впрочем, и не узнал, побрезгал бы ими, то уж они-то, все эти так еще недавно родившиеся, так уже бесчисленно кишащие сверхчеловеки, сверхчеловечки, узнали бы отца своего и с полным правом сказали бы ему: полюбил ты нас беленькими, полюби и черненькими! Или, как менее брезгливый, чем Ницше, старец Лука говорит:
«Я и жуликов уважаю… По-моему, ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают!»
Босяки Горького, несмотря на свою демократическую внешность, внутренние аристократы. Простой народ для них чернь. Мужика ненавидят и презирают они едва ли не больше, чем барина.
«Я всех мужиков не люблю – они сволочи! Они прикинулись сиротами, ноют да притворяются, но жить могут: у них есть зацепка – земля. А я что против них?.. Я – мещанин… За меня никого нет в заступниках». «А мужика бы, этого черноземного барина, ух ты!., грабь, дери шкуру, выворачивай наизнанку!..» «Что есть мужик? Мужик есть для всех людей материал питательный, сиречь, съедобное животное».
Ненависть босяка к народу кажется только сословной, социально-экономической; но, может быть, босяк сам еще не понимает, за что ненавидит народ.
Некрасовский дядя Влас, бывший кулак, то есть бывший внутренний босяк, хотя и другого, старого типа, обратившись к Богу, «роздал все свое имение, сам остался бос и гол», – сделался внешним босяком, сравнялся по социально-экономическому положению с босяками Горького. Но какая разница между босым дядей Власом и босым Пляши-Ногой!
Между интеллигентом и босяком, при взаимном социально-экономическим отталкивании, существует метафизическое сродство, притяжение – одна и та же, как мы видели, «позитивная догматика»; между босяком и народом – как раз наоборот: при социально-экономическом притяжении – взаимное метафизическое и даже мистическое отталкивание. Все, во что верит мужик, дядя Влас, – кажется босяку, полуинтеллигентному «мещанину», просто невежеством и глупостью – «про неправду все написано», как говорит Смердяков. А если бы дядя Влас мог понять, чтó думает босяк, то отшатнулся бы от него с таким же суеверным ужасом, как от «шестокрылатого тигра, змиев и скорпиев».
Босяк ненавидит народ, потому что народ – крестьянство – все еще бессознательное христианство, пока старое, слепое, темное – религия Бога, только Бога, без человечества, но с возможностью путей и к новому христианству, зрячему, светлому, – к сознательной религии богочеловечества. Последняя же сущность босячества – антихристианство, пока еще тоже старое, слепое, темное – религия человечества, только человечества, без Бога, – но с возможностью путей к новому, зрячему, сознательному антихристианству – к религии человекобожества.
«– Безбожные вы все люди… Звери вы!.. Бежать от вас – одно спасение. Есть иные люди, живы души их во Христе, – к ним уйду!» – говорит сын отцу, христианин босяку. «– Мертвечина ты, стерва тухлая! – отвечает отец сыну, босяк христианину. – Кабы ты здоров был, хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору несчастную!»
Тут между отцом и сыном трагедия личная. Но смысл трагедии – последний ответ босяка христианину – вовсе не личный. Если не в настоящем, то в будущем, когда борьба сделается сознательной, это ответ всего босячества всему христианству.
«– Человек – вот правда. В этом все начала и концы. Все – в человеке, все – для человека. Существует только человек». «Истинный Шекинах (Бог) есть человек». Человек есть Бог – таково религиозное исповедание сознательного босячества.
Сознательное христианство есть религия Бога, который стал человеком; сознательное босячество, антихристианство, есть религия человека, который хочет стать Богом. Это последнее, конечно, обман. Ведь исходная точка босячества – «существует только человек», нет Бога, Бог – ничто; а следовательно, «человек – Бог», значит: человек – ничто. Мнимое обожествление приводит к действительному уничтожению человека.
Как бы то ни было, во имя этого обмана или этой религии босяк хочет быть творцом.
«– Вот я соберу людей воедино и выведу их в пустыню и там устрою им будку всеобщего спасения… Я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю… Среди нас будет возвышаться над всеми будка всеобщего спасения, и на вершине ее, под стеклянным колпаком, буду вечно вращаться я сам и смотреть за порядком. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я наложу на всех одну обязанность – творить. Твори, ибо ты человек! – прикажу я каждому». «Ромул и Рем, босяки, создали Рим. И мы создадим!»
Но спрашивается: какое же творчество, когда, по признанию самого творца, «существуют только законы и силы», которым «невозможно противиться»? Какая же свобода, когда «человеку некуда податься ни на вершок», потому что «ничего неизвестно – тьма»? Тьма в начале, и в конце тьма, то есть слепое рабство слепым законам необходимости, мертвой механике мирового порядка. Человеку надо выбрать одно из двух: или отказаться от всякого творчества, примириться с тем, что всегда он был и будет не творец, а тварь; или же, окончательно возмутившись против мирового порядка, бежать в «разрушение и хаос», как выражается подпольный человек Достоевского – «столкнуть с одного разу ногой прахом хрустальный дворец всеобщего благополучия», вместе с босяцкой «будкой всеобщего спасения». А если так, то зачем и творить? Можно разрушать для творчества, но как творить для разрушения?
Босяк, впрочем, и сам предчувствует, что именно здесь, в творчестве, ждет его какое-то последнее крушение.
«Мне тесно, – говорит он, – стало быть, должен я жизнь раздвигать, ломать и перестраивать… А как? Вот тут мне и петля… Не понимаю я этого – и тут мне конец!»
«Дайте людям полную свободу, – тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, зарвется человек выше своих ушей и пером полетит туда и сюда. Чудотворцем себя возомнит и начнет он тогда дух свой испущать… А духа этого самого строительного совсем в нем малая толика! Попыжится это он день-другой, потопорщится во все стороны и в скорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем».
Тотчас после торжественного гимна человечеству: «человек это великолепно, все в человеке, все для человека!» – один из слушателей признается:
«– Я, брат, боюсь иногда. Понимаешь? Трушу… Потому, что же дальше?.. Все, как во сне… Зачем я родился?»
На этот вопрос один ответ: научно-позитивное: не знаем и не узнáем, ignoramus, ignorabimus. «Тьма»! Но после этого ответа – еще страшнее, потому что еще непонятнее.
С одной стороны: «существует только человек», «все в человеке»; а с другой: «человечество представляется кучей червей»; «люди, как тараканы – совсем лишние на земле, все для них, а они для чего? В чем их оправдание?» С одной стороны: «человек за все платит сам и потому он свободен»; а с другой: «никто ни в чем не виноват, потому что все мы одинаково скоты». «Я – скот, и сознание скотства моего не отягчает меня: я живу в полной гармонии». С одной стороны: «человек есть истинный Шекинах» – человек есть Бог; а с другой: человек – «скот». И следовательно, обожествленное человечество – обожествленное скотство.
Тут очевидно в самой глубине босяцкой метафизики какое-то зияющее противоречие, в которое вся она проваливается, а вместе с нею и сам босяк.
«Иной раз думаешь, думаешь. И вдруг все исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то. В душе тогда, как в погребе, темно, сыро и совсем пусто. Совсем ничего нет! Даже страшно… как будто ты не человек, а овраг бездонный».
Это самое глубокое из всех признаний босяка.
«Небо пусто»; но вот оказывается, что и земля пуста. И провал в эту пустоту земную – подземную – такой же бездонный, как в пустоту небесную. Нет Бога, но и человека нет – «совсем ничего нет». Последнее самоутверждение человека без Бога приводит к последнему самоотрицанию.
«Братцы! Мы все лопнем, ей-богу! А отчего лопнем? Оттого, что лишнее все в нас и вся жизнь наша лишняя!.. На что меня нужно? Не нужно меня! Убейте меня, чтоб я умер!.. Хочу, чтоб я умер!»
Ежели, дойдя до этой точки, босяк уже не только метафизически, но и физически не проваливается, то есть не кончает самоубийством, сумасшествием, то тут начинается реальное воплощение новой метафизики, вернее, мистики «подпольного человека», то же самое, что произошло с двумя мужиками Достоевского, стрелявшими из ружья в Причастие, – то же самое, но более страшное, потому что более сознательное: именно сознательная «потребность отрицания всего, самой главной святыни своей», потребность «свеситься над пропастью, заглянуть в самую бездну и броситься в нее, как ошалелому, вниз головой», «некоторое адское наслаждение собственной гибелью, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью», – «один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть все пропадай!» Пусть «вечная гибель, но был же и я на таком верху!..»
– «Хочется мне отличиться на чем-нибудь, – говорит один из босяков Горького. – Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, что стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты… И сказать им: „Ах вы, гады, жулье вы лицемерное, и больше ничего!“ И потом вниз тормашками с высоты и… вдребезги!.. Я себя проявлю! Как? – это одному дьяволу известно…»
«– Пусть все скачет к черту на кулички! – говорит другой босяк. – Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула или разорвалась бы вдребезги… лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других».
Во имя чего это всемирное разрушение? Во имя ничего. Разрушение для разрушения, хаос для хаоса.
Спокойное, научно-позитивное: ничего не знаем, – превращается в яростное, мистическое: ничего не хотим, хотим ничего! И в этом хотении ничтожества обнаруживается последняя сущность босячества – служение «умному и страшному духу небытия».
Старец Лука, главный и, в сущности, единственный герой «На дне» – величайшее создание Горького.
Среди озверевших и осатаневших людей «святой старец» – как ангел Божий – со своей тихой усмешкой и тихой речью:
«Христос жалел и нам велел… Любить надо… Помогать человеку надо… Уважать его надо…»
Но истинного Христа, Богочеловека, незаметно подменяет он сперва человеком, только человеком: «Все – в человеке, все – для человека», – затем противоположным Христом, человекобогом: «Человек живет для лучшего человека», то есть для «сверхчеловека», который еще не пришел, но придет.
А пока придет сверхчеловек, старец Лука «уважает» и сверхчеловечков, которым и теперь уже «все позволено», «наплевать на все», – то есть, попросту, «жуликов».
«Я и жуликов уважаю; по-моему, ни одна блоха не плоха – все черненькие, все прыгают!»
И этих бесчисленных, маленьких, голеньких, черненьких созывает он, собирает и ведет в пустыню, в «будку всеобщего спасения». Манит их детскими сказками, лживыми грезами о «праведной земле», о таинственном «городе» с «лечебницей для пьяных», в которой – «мраморный пол, свет, чистота, пища, – и все даром», о «хрустальном дворце» и золотом веке «всеобщего благополучия». В жизни навевает им «сон золотой», а в смерти обещает вечный отдых, вечный покой – желанное ничтожество: «Ничего там не будет, ничего; спокой, и больше ничего!»
Те, кто подходит к старцу, чувствуют в нем какую-то страшную ложь, как бы провал в бездонную пустоту:
«Старик – шарлатан…»
«Лука, старец лукавый, все истории рассказывает…»
«Это он, старая дрожжа, проквасил нам наших сожителей…»
«– Зачем ты все врешь?» – обращается к нему один из слушателей.
«– Это в чем же вру-то я?
– Во всем… Там у тебя хорошо, здесь хорошо… Ведь врешь! На что?
– А ты мне поверь… Спасибо скажешь… И чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя».
«Правды он не любил, старик, – рассуждают ученики об учителе. – Очень против правды восставал. Так и надо! Верно, – какая тут правда? И без нее дышать нечем»…
«Старик – не шарлатан! Что такое правда? Человек, вот правда! Он это понимал… Он врал… Но это из жалости к вам, черт вас возьми!.. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ложь оправдывает. Ложь нужна. Ложь – религия!»
Религия «старца лукавого» и есть религия лжи. Дьявол – «отец лжи»; он истину ненавидит, потому что не устоял в истине; когда говорит ложь, свое говорит, потому что он – отец лжи, и вечная ложь – его оружие в борьбе с вечною истиною – с Богом.
– «Слушай, старик: есть Бог?»
«Лука молчит, улыбаясь».
Может быть, во всей русской литературе, после Достоевского, нет ничего страшнее этой безмолвной улыбки старца Луки.
«– Ну? Есть? Говори?»
Лука, наконец, отвечает «негромко»:
«– Коли веришь, – есть; не веришь, – нет. Во что веришь, то и есть».
Вот слово, достойное самого «отца лжи». На вопрос: есть Бог? – ответить: да, – значило бы для него, утвердив вечную истину, уничтожить себя, вечную ложь; ответить: нет, – значило бы выдать себя, свою последнюю сущность, ту же вечную ложь, ибо, разумеется, сам он, Лукавый, лучше, чем кто-либо, знает, что Бог есть, потому что «видит Бога». И Лука, «старец лукавый», отвечает надвое: и да, и нет – ни да, ни нет. Эти два ответа – две стены одного провала в бездонную пустоту.
– Хочешь верить в Бога, – верь; не хочешь, – не верь. Бог тебя не спасет. А ты мне поверь. Спасибо скажешь. И чего тебе правда больно нужна? Подумай-ка. Она, правда-то, может, обух для тебя.
Правда – погибель, ложь – спасение; правда – зло, ложь – добро; правда – от дьявола, ложь – от Бога. Ложь стала правдой, правда – ложью.
Извне как будто ничего не разрушено; но внутри все опрокинуто, перевернуто вверх дном, так что и разрушать нечего: увлекаемое собственной тяжестью, все само собой падает, рушится, возвращается к древнему хаосу, к небытию – «летит к черту на кулички». А таинственному старцу этого только и нужно, для этого он и пришел, как будто «во имя Отца», а на самом деле, «во имя свое».
«Мы солжем во имя Твое, – говорит у Достоевского Великий Инквизитор своему Посетителю. – Нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но, под конец, они-то и станут послушными».
Это ведь и значит: «по-моему, ни одна блоха не плоха, все черненькие, все прыгают».
«Они будут дивиться на нас и считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу, которой они испугались, и над ними господствовать, – так ужасно им станет под конец быть свободными».
«Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы… Мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками»…
Один из «бывших людей» на дне, поет, приветствуя старца Луку, учителя лжи:
…Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
А то, что говорит старцу другой, можно бы сказать и Великому Инквизитору:






