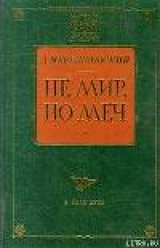
Текст книги "Не мир, но меч"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕЛИГИЯ
Имеет ли русская революция религиозный смысл?
Для Европы и для самих русских пока заслоняется в ней все остальное великим смыслом общественным. Что это переворот не только политический, как все доныне бывшие европейские революции, но и социально-экономический, следовательно, небывалый в истории, уже и теперь, кажется, явно для всех. Именно в этом социальном значении своем русская революция есть продолжение и, может быть, конец того, что начали и не кончили революции европейские. Во всяком случае, этим грозным девятым валом уносится Россия от всех берегов исторических; этим небывалым пожаром охвачено государственное строение, величайшее не только в пространстве, но и во времени. Русское самодержавие уходит корнями своими через Византию, Второй Рим христианский, в Первый Рим языческий и еще далее, в глубину веков, в монархии Востока. Рушится здание тысячелетней древности, тысячелетней крепости, твердыня, которая служила оплотом всех реакций и о которую разбивались все революции. Последняя, глубочайшая основа этой твердыни, – не только социально-политическая, но и религиозная.
Монархия, единовластие, отражает во внешних государственных формах внутреннюю религиозную потребность человеческого духа, потребность Божеского единства – единобожия: один царь на земле, как один Бог на небе; единовластие человеческое – символ единовластия Божеского; монархия – символ теократии. Можно, конечно, сомневаться в мистической предельности и вечности этого символа, ибо откровение Божеского единства не есть последнее религиозное откровение богочеловечества; откровение троичности выше, чем откровение единства. Но, во всяком случае, ежели не с мистической, то с исторической точки зрения, если не для будущего, то для прошлого русская революция, низвержение русского единовластия, имеет великий смысл религиозный.
Для того чтобы понять этот смысл, следует рассматривать русскую революцию, как одно из действий и, может быть, именно последнее действие трагедии всемирного освобождения; тогда первое действие той же трагедии – Великая французская революция.
То, что началось в области личной, внутренней, со времени Ренессанса, выхождение из церкви или, говоря старым русским словом, «обмирщение» феодальной и католической Европы, – то самое французская революция продолжила в области внешней, политической.
Римское католичество пыталось осуществить религиозный синтез западноевропейской культуры. Попытка не удалась: культура оказалась шире, чем христианство. Summa Theologiae, старое небо католичества не покрыло новой земли. Ростом круга земного разорван был круг небесный, недвижный горизонт, очерченный христианской догматикой. Небо для человечества сделалось тем же, что крышка гроба для мертвеца воскресшего. Обмирщение, раскрепощение подлинного царства человеческого от сомнительного Царства Божиего, от сомнительной «теократии» папского Рима и есть усилие великой земли сбросить гробовую крышку малого неба. Или задохнуться под ней, или разбить ее – человечеству не оставалось иного выбора.
Последний, диалектически неизбежный вывод из французской революции есть происходящее ныне во Франции отделение церкви от государства, или, вернее, государства от церкви. Это одно из тех событий, размеры которых становятся понятны только издали: надо отойти от горы, чтобы увидеть, как она высока.
Отделением церкви от государства во Франции проведен всемирно-исторический водораздел, равный по глубине, хотя по смыслу, конечно, противоположный тому, который, пятнадцать веков назад, проведен императором Константином равноапостольным, объявившим христианство государственной религией. Тогда Европа крестилась; ныне, если позволительно употребить новое слово для нового понятия, она раскрещивается. Тогда языческие народы обращались в христианство; ныне христианские народы обращаются – во что именно, этого пока мы не знаем, но, по всей вероятности, во что-то не менее отличное от старого христианства, чем старое язычество. И едва ли простая случайность то, что именно «христианнейшая» Франция, первая из европейских стран, объявила себя нехристианской и, следовательно, антихристианской, потому что кто не со Мною, тот против Меня.
Разумеется, глубокое недоразумение или бесстыдная ложь заключается в том, что какое бы то ни было современное государство считает нужным называть себя «христианским», связывать себя с именем и учением «Мертвого Жида», как Юлиан Отступник ругал воскресшего Господа. И те, для кого Христос – истина, должны бы радоваться обличению лжи и обнаружению истины о нехристианстве современной Европы; должны бы радоваться, что отныне Креста не будет там, где Крест – кощунство. И если католическая церковь не радуется отделению своему от государства, это свидетельствует о том, что она сама чувствует себя больше государством, чем церковью, и менее чтит истину, заключенную в ней, чем враги этой истины. Во всяком случае, Франция – и здесь, как везде на путях человечества к будущему, первая, но не последняя, оказалась верною непреклонной логике истории: куда пришла Франция, придут и все остальные народы, все «христианские» государства, потому что нет иных путей вперед, а история назад не возвращается. Тогда-то произойдет великое отступление, апостазис, о котором предсказано самим Основателем христианства: Сыне Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?
Между постепенным геологическим переворотом, тем оседанием религиозной почвы под всей европейской культурою, которое привело к отделению церкви от государства во Франции, с одной стороны, и тем внезапным вулканическим взрывом, который происходит в русской революции, с другой, существует глубоко скрытая подземная, но неразрывная связь.
I
Римское папство и русское царство суть две попытки «теократии», т. е. религиозной политики, осуществления града Божиего в граде человеческом. Слово «теократия» употребляется здесь, конечно, в совершенно внешнем, условном, историческом смысле, который не предрешает вопроса о том, насколько внутреннее содержание этой внешней формы истинно или ложно. Старая Московская Россия, получив свою теократию, православное самодержавие, в наследство от Византии, Второго Рима, мечтала сделаться Третьим Римом, последним градом вселенским.
Но теократия западная, римское папство, и теократия восточная, русское царство, исходя из одной точки соединения или только смешения церкви с государством, следуют далее по двум противоположным путям. Во Втором Риме, в папском владычестве, происходит уклон от меча духовного к мечу железному, от царства небесного к царству земному; римский первосвященник, ежели не стал, то всегда хотел стать римским кесарем, глава церкви – главой государства. В Третьем Риме, в византийском и русском самодержавии, – уклон обратный: от меча железного к мечу духовному, от царства земного к небесному, причем в идеале земное поглощается небесным, государственное – церковным, а в реальности наоборот: небесное поглощалось земным, церковное – государственным; глава государства становился главою церкви, кесарь несомненно-языческого Первого Рима – первосвященником сомнительно-христианского Третьего Рима.
Этот византийский уклон привел старую Россию к тому же, хотя с другого конца, к чему пришла и средневековая, католическая Европа, – к борьбе государства с церковью, московских царей – с патриархами, очень бледному, опрокинутому, как в зеркале, но все же точному отражению борьбы императоров с папами. На Западе римская империя побеждена римским папством – правда, на одно мгновение и притом так, что эта мгновенная реальная победа оказалась вечным идеальным поражением; на Востоке патриаршество, русское папство, побеждено русской империей. Петр Великий вовсе не нарушил, как обвиняли его староверы и славянофилы, а исполнил завет Москвы и Византии, когда, уничтожив патриаршество, если не назвал, то сделал себя самодержцем и первосвященником вместе, главою государства и церкви вместе, обладателем царства земного и царства небесного вместе. Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе, эти слова Христа, основание истинного Царства – Церкви, в котором сам Христос – единый самодержец и первосвященник, могли бы повторить со своей точки зрения русский самодержец и римский первосвященник. Обе эти ложные теократии двумя различными путями пришли к одному и тому же: западная – к превращению церкви в государство; восточная – к поглощению церкви государством; в обоих случаях – одинаковое упразднение Церкви, царства любви и свободы, царства Божиего – государством, царством вражды и насилия, царством безбожия.
Петр Великий исполнил древний завет о соединении церкви с государством; но другой завет московского и византийского государственно-церковного строительства – окаменелую недвижность, верность преданию, уставу, преобладание начала статического над динамическим, – Петр должен был нарушить, подчиняясь необходимости вдвинуть Россию в Европу, для того чтобы сделать русский Третий Рим всемирным, ибо требование всемирности заключено в идее безграничной власти римского кесаря, императора, каковым и желал быть Петр, да и не мог не желать, доводя до конца в русском самодержавии византийское предание восточной Римской империи. Он поневоле должен был нарушить восточную статику западной динамикой. Сделал, впрочем, все, что от него зависело, чтобы подчинить и эту новую динамику древней статике, в ее главном средоточии, в абсолютном единстве православия и самодержавия, чтобы поработить свободный дух Запада, взять у него формы без содержания, свет без огня, плоть без души. Получилось нечто подобное тем ярким чужеземным цветкам или бабочкам, которые сохраняются внутри стеклянного шара, или царству спящей царевны: все живое, войдя в это царство, замирает, засыпает очарованным сном; движение становится недвижностью. Спящая царевна – европейская культура; хрустальный гроб ее – православное самодержавие.
Но Петр все-таки не сделал того, что хотел, потому что это вообще невозможно: мир устроен так, что движение сильнее недвижности, динамика сильнее статики – все спящие царевны просыпаются. Малых европейских дрожжей оказалось достаточно, чтобы поднять все византийское тесто Москвы. Равновесие было нарушено; надстройка не соответствовала фундаменту, и все огромное здание дало трещину – раскол, сперва церковный, потом и бытовой, культурный, общественный – распад России на старую и новую, нижнюю и верхнюю, простонародную и так называемую «интеллигентскую».
Церковные раскольники, «люди древнего благочестия», – первые русские мятежники, революционеры, хотя эта революция – во имя реакции. В сознании раскольников – тьма, рабство, недвижность, бесконечная статика; но в бессознательной стихии – неугасимый свет и свобода религиозного творчества, бесконечная динамика, притом уже идущая не извне, из Европы, а из глубины духа народного. Раскольники, хотя и неверно мистически поняли, но верно исторически почувствовали религиозную невозможность православного самодержавия. Первые, хотя и без достаточного права, объявили русское самодержавие «царством антихриста». Раскол, соединившийся с казацкою вольницей, пугачевщиной, есть революция снизу, черный террор; а революция сверху, белый террор – сама реформа, если не по общей идее, то по личным свойствам Петрова гения, безудержно-стремительного, всесокрушающего в самом творчестве, анархического, безвластного в самовластии – гения, который сделался гением всей новой России. Эти-то два противоположные, но одинаково бурные течения слились в один водоворот, в котором и крутится государственный корабль России вот уже два столетия. Православное самодержавие оказалось невозможным равновесием, реакцией в революции, страшным висением над бездною, которое должно кончиться еще более страшным падением в бездну.
И по мере того как высилось здание, расширялась и трещина, углублялся раскол. С поверхности исторической перешел он в глубину мистическую, где возникло сектантство, которое в крайних сектах – штунде, молоканстве, духоборчестве – шло до почти сознательного религиозного отрицания не только русского самодержавия, но и всякого вообще государства, всякой власти, как царства антихристова, до почти сознательного религиозного анархизма. Русское сектантство постоянно растет, развивается, и пока еще нельзя предвидеть, во что оно вырастет. Но и теперь уже в некоторых мистических углублениях его – в проблеме пола, как она поставлена в хлыстовстве и скопчестве, в проблеме общественности, как она поставлена в штунде и духоборчестве, – проявляется такая сила, если не религиозного творчества, то религиозного алкания, «взыскания», какой мир не видал с первых веков христианства. Все русские сектанты могли бы сказать о себе то же, что говорят раскольники: мы люди, настоящего града не имеющие, Грядущего Града взыскующие. Отрицание «града настоящего», т. е. государственности, как начала антирелигиозного, утверждение града грядущего, т. е. безгосударственной религиозной общественности, и есть движущая, хотя пока еще бессознательно движущая, сила всего великого русского раскола-сектантства, этой религиозной революции, которая рано или поздно должна соединиться с ныне совершающейся в России революцией социально-политической.
II
Религиозно-революционное движение, начавшееся внизу, в народе, вместе с реформою Петра, почти одновременно началось и вверху, в так называемой интеллигенции. Но первоначально эти две волны одного течения шли розно. Русло революции оставалось узко-политическим, и притом не всенародным, а сословным. Вся история самодержавия в XVIII веке – ряд военных, дворцовых переворотов – революций в четырех стенах.
Среди этих дворцовых революций возникла мысль об ограничении монархии как единственном спасении России. Племянница Петра I, императрица Анна Иоанновна, уже подписала конституцию, но, опираясь на старые московские и новые петербургские предания, торжественно разорвала подписанную грамоту и на мечты о конституции ответила бироновщиной. Точно так же впоследствии с каждой вынужденной подачкой, вроде грамоты о дворянской вольности, либеральных поблажек Александра I, самодержавный гнет усиливался. Но мысль о конституции тоже усиливалась, становилась преобладающей политической мыслью всех лучших русских людей XVIII века, просачивалась из придворного круга в широкие слои общества, то разгоралась, то глухо тлела под пеплом, пока, наконец, не вспыхнула пламенем Декабрьского бунта.
Рядом и отдельно возникало движение религиозное. Существует исторически ни на чем не основанное, но символически вещее предание, будто бы Петр I, возвратившись в 1717 году из-за границы, привез с собою статут масонский и на его основаниях велел открыть или даже сам учредил первую ложу в Кронштадте. В действительности масонские ложи в России появились после смерти Петра. В царствование Екатерины Великой произошло первое столкновение самодержавия с масонством, как с обширным и опасным, будто бы политическим заговором.
Николай Новиков, начинатель русского книжного дела и повременной печати, основал в Москве общество, по внешности издательское и благотворительное, на самом деле религиозное, имевшее тайную связь с масонами и розенкрейцерами, так называемыми тогда «мартинистами». Общество приобрело влияние не только в Москве, но и по всей России. В Новикове, в первом, высказалась сила общественная, независимая от самодержавия. Создание этой силы и было в глазах Екатерины «государственным преступлением». Впоследствии рассказывали, будто бы ей донесли, что 30 человек мартинистов бросали жребий, кому зарезать императрицу, и что жребий пал на одного из ближайших друзей Новикова. Донос, если он существовал, был, конечно, ложный: Новиков доказал на следствии свою невинность так убедительно, что едва ли государыне можно было сомневаться в искренности верноподданнических чувств его. Московский архиепископ Платон, которому отдали Новикова на «испытание в законе Божием», писал императрице: «Молю всещедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве, Богом и тобою, всемилостивейшая государыня, мне вверенной, но и во всем мире были христиане таковые, как Новиков». Но Екатерина, напуганная французской революцией и слухами об участии наследника, Павла Петровича, сына и злейшего врага своего, в мнимом заговоре, решила истребить гнездо «мартышек», как она называла мартинистов. Майор гусарских эскадронов с отрядом солдат арестовал Новикова, ворвавшись к нему ночью, и напугал так, что у маленьких детей его сделался припадок эпилепсии, от которой они уже никогда не могли вылечиться. «Вот расхвастались, как будто город взяли! Старичонку, скорченного гемороидами, взяли под караул; да одного бы десятского или будочника за ним послать, так и притащил бы его!» – шутили тогда в Москве об этом аресте. «Великая жена», друг Вольтера, «Екатерина-матушка» не постыдилась приговорить без суда «скорченного старичонку», как опаснейшего злодея, к «тягчайшей и нещадной казни»; следуя, однако, «сродному ей человеколюбию и желая оставить ему время на принесение в своих злодействах покаяния», сказано в приговоре, повелела запереть его на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость.
Один крестьянин, из имения масона, сосланного по делу Новикова, отвечал на вопрос: «За что сослали твоего барина?» – «Сказывают, что другого Бога искал». – «И поделом ему, – возразил собеседник, тоже крестьянин, – на что-де лучше русского Бога?» Екатерине понравилось это «простодушие», и она несколько раз повторяла анекдот.
Впрочем, царь ли от Бога, или Бог от царя, этого не разобрал бы не только простодушный крестьянин, но и сама императрица-философ. Во всяком случае, для нее было уже ясно, что искать «другого Бога» всегда предполагает в России искать другого царства. И Новиков, сидя в Шлиссельбургской крепости, имел досуг размыслить о том же.
Он был кругом прав, Екатерина кругом виновата; но виноватая была все же правее правого: гениальным чутьем самовластия учуяла она слишком опасную связь русской религиозной революции с политической. Несколько лет до новиковского дела, прочитав книгу Радищева, обличение самодержавия, как нелепости политической, Екатерина воскликнула: «Он – мартинист!» Она ошиблась на этот раз ошибкою, обратною той, которую сделала в приговоре над Новиковым. Радищев – революционер-атеист; Новиков – верноподданный мистик. Но в глазах самодержавия мистицизм, отрицающий русского Бога, и революция, отрицающая русское царство, – одинаковая религия, противоположная религии православного самодержавия.
Это внутреннее единство религиозного и революционного движения в России всего нагляднее обнаружил внук Екатерины II, император Александр I на примере своей собственной личности.
«Дней Александровых прекрасное начало» – золотой век русского мистицизма и либерализма. Как бы в мгновенном, молниеносном прозрении, открылась тогда перед Россией религиозная святыня политического освобождения. Человек искренне, хотя и безотчетно верующий, к тому же мучимый раскаянием в невольном и отчасти невинном отцеубийстве, Александр искал утоления этой муки в религии и, не найдя его в православии, предался мистике.
«Мой план состоит в том, – писал наследник, – чтобы, по отречении от этого трудного поприща, поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастие в обществе друзей и в изучении природы». И много лет спустя, уже царствуя, однажды, в беседе с госпожою Сталь, он заметил, что «судьба народа в продолжение веков отнюдь не должна зависеть от воли одного человека, существа ограниченного и преходящего». «Но я, – прибавил он, – еще не успел даровать России конституции». – «Ваше величество сами – наилучшая конституция». – «Если бы и так, то это только счастливая случайность».
До какой степени это в самом деле была только счастливая случайность, показала вторая половина царствования. Вступая на престол, он вступил в заколдованный круг, из которого нет выхода. Следуя внутренней метафизической необходимости, заключенной в существе самодержавия, он совершил полный оборот от зенита к надиру, от религиозного утверждения к религиозному отрицанию политической свободы. Это кроткое самовластие, этот «кнут на вате» оказался не менее страшным, но более гнусным, чем прежний кнут голый. Вторая половина царствования соединила пастырский жезл архимандрита Фотия с аракчеевскими шпицрутенами для искоренения мистических и либеральных плевел, насеянных первою. Александр начал Марком Аврелием, кончил Тиберием. Солнце, взошедшее так ясно, закатилось в кровавый туман. Он умер среди наступающего террора, среди ужаса, который внушал другим и который равен был ужасу, который сам он испытывал.
Существует легенда, будто бы в Таганроге скончался не Александр, а один из его приближенных, – император выздоровел, тайно покинул дворец, долго странствовал по России, в крестьянском платье, никем не узнанный, и кончил жизнь святым отшельником, в глубине сибирских тундр. В этой народной легенде отразилось то же религиозное прозрение, которое заставило Александра мечтать об отречении от престола.
Но легенда так и осталась легендою, опровергаемою всею историческою действительностью русского самодержавия: царь от Бога.
Самодержавие для православия так же непобедимо, как папство для католичества: папа не может отречься от папства, царь – от царства. В обоих случаях преступление – не личное и даже не народное, а всемирное, и его преодоление должно быть всемирным.
III
Посеянное при Александре I в бескровном либерализме взошло при Николае I кровавою жатвою.
Религиозное и революционное движения русского общества, дотоле разъединенные, впервые соединились в Декабрьском бунте. Наиболее сознательные и творческие вожди декабристов – Раевский, Рылеев, кн. Одоевский, Фонвизин, барон Штейнгель, братья Муравьевы и многие другие вышли из мистического движения предшествующей эпохи. Подобно народным сектантам и раскольникам, все это люди «настоящего града не имеющие, грядущего града взыскующие», – другого града, другого царства, потому что и «другого Бога».
Есть в этом движении и противоположное начало, нерелигиозное. Человек такого ума и такой душевной силы, как Пестель, – атеист. Но он и не русский; по крови и по духу он чистый немец. Религиозное отрицание Пестеля умозрительное, отвлеченное; когда же он переходит к революционному действию, то считает нужным прибегнуть к помощи той религиозной стихии, с которой слишком неразрывно связано и само движение революционное. Неверующий Пестель соглашался с Рылеевым, который однажды заметил по поводу так называемого «Православного Катехизиса» братьев Муравьевых: «Такими сочинениями удобнее всего действовать на умы народа». И уж конечно не без ведома и одобрения Пестеля этот «Катехизис», во всяком случае, не менее «подлинный», чем Катехизис Филарета, послужил орудием пропаганды при возмущении черниговского полка.
«Вопрос. Не сам ли Бог учредил самодержавие?
Ответ. Бог в области своей никогда не учреждал зла. Злая власть не может быть от Бога.
Вопрос. Какое правление сходно с законом Божиим?
Ответ. Такое, где нет царей. Бог создал нас всех равными.
Вопрос. Стало быть, Бог не любит царей?
Ответ. Нет. Они прокляты суть от Бога, яко притеснители народа, а Бог есть человеколюбец. Да прочтет каждый, желающий знать суд Божий о царях, книгу Царств, главу восьмую: Возопиете в то время из-за царя вашего, которого выбрали вы себе, но не услышит вас Господь. – Итак, избрание царей противно воле Божией.
Вопрос. Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству?
Ответ. Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться: да будет всем един Царь на небеси и на земли – Иисус Христос».
Прочтя это место, император Николай I написал на полях: «Quelle infamie! – Какая гнусность!»
Следовало совершиться всему, о чем декабристы не смели мечтать и что теперь на наших глазах совершается, – следовало разразиться русской революции, для того чтобы мы, наконец, поняли религиозное значение того, что высказано в этих забытых и никакого реального действия не имевших листках «Православного Катехизиса»; чтобы мы догадались, что здесь поставлен религиозный вопрос о власти так, как он никогда в истории христианства не ставился. Здесь впервые Благовестие, Евангелие Царствия Божия понято и принято не как мертвая, идеальная и бесплотная отвлеченность, а как живая, действенная реальность, как основание нового религиозно-общественного порядка, абсолютно противоположного всякому порядку государственному. На обетование Христа пришедшего: Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе и Христа грядущего: будет царствовать на земле – первый и единственный ответ на всем протяжении исторического христианства, этот младенческий, но уже пророческий лепет русской религиозной революции: Да будет всем един Царь на небеси и на земли – Иисус Христос. – «Утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам».
Историческим христианством принято Царство Божие только на небе, а царство на земле отдано «Князю мира сего» в лице папы-кесаря на запад или кесаря-папы на восток. Но ежели Христос не идеально и бесплотно, а реально и воплощенно есть Царь на земле, как на небе; ежели истинно слово Его: Се, Я с вами, до скончания века. Аминь, – то не может быть иного Царя, иного первосвященника, кроме Христа, сущего до скончания века с нами и в нас, в нашей плоти и крови, через таинство плоти и крови. Вот почему всякая подмена сущей плоти Христовой, сущего лика Христова человеческой плотью и ликом или только личиною, маскою – папою или кесарем, есть абсолютная ложь, абсолютное антихристианство. Кто может стать «на место» – вместо Христа, как не антихрист? В этом смысле, всякий «наместник» Христа – самозванец Христа, антихрист.
Так религиозным сознанием русской революции объясняется бессознательный, вещий ужас русского раскола: царь – антихрист. Хотя, разумеется, восточному кесарю так же далеко до подлинного антихриста, как западному первосвященнику; это лишь два исторические символа, два пути к тому, что за историей, – к последнему воплощению зверя.
В «Православном Катехизисе» декабристов критикуется глубочайшее мистическое основание не только самодержавия, но и какой бы то ни было государственной власти. Да всем будет один царь на земле и на небе, – Христос – это чаяние русских искателей града грядущего неосуществимо ни конституционною монархией, ни буржуазной республикой, о которой мечтали тогдашние, – ни даже республикой социал-демократической, о которой мечтают нынешние революционеры; оно осуществимо только абсолютною безгосударственностыо, безвластием как утверждением боговластия.
Так, в первой точке русской политической революции дан последний предел революции религиозной, может быть, не только русской, но и всемирной.
Приходило ли, однако, в голову составителям «Православного Катехизиса», что он столь же не православный, как и не самодержавный? Русские святители не могли бы, конечно, не согласиться с мнением русского царя «Quelle infamie! Какая гнусность!» И согласились, действительно.
После усмирения Декабрьского бунта св. синоду поручено было составить благодарственный молебен «на испровержение крамолы». Молебен составили и служили торжественно перед народом в Петербурге, на Исаакиевской площади, в Москве и других городах России. В последней эктении возглашалось: «Еще молимся о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедания и благодарения нас, недостойных рабов своих, яко от неистовщующия крамолы, злоумышлявшия на испровержение веры православныя и престола и на разорение Царства Российского, явил есть нам заступление и спасение свое».
Так Царство Божие русский царь объявил «гнусностью», а русскую церковь – «крамолою».
IV
Если кто-нибудь из современников мог понять и перевести на язык взрослых, «премудрых и разумных», младенческий лепет декабристов, то это, конечно, Петр Чаадаев, один из глубочайших русских мыслителей, основатель нашей философии истории.
Будучи в самой тесной умственной и личной связи с декабристами, он, вероятно, принял бы участие в их революционном действии, если бы не одна и, может быть, главная особенность всей его духовной природы – перевес внутреннего созерцания над внешним действием, ума над волею. Как это почти всегда бывает с людьми чистого мышления, у Чаадаева – абсолютная недвижность извне, при величайшем движении внутри. Это – прирожденный монах, великий молчальник и затворник мысли. Не сочувствуя, или, по крайней мере, никогда не выражая сочувствия тому, что декабристы сделали, Чаадаев не мог не сочувствовать тому, что они хотели сделать. Он сам хотел даже большего. С той суровой непреклонностью диалектики, которой всегда был верен, он, дойдя до конца своего религиозного сознания, вышел из православия, из восточного византийского христианства, и вошел во вселенское. Если бы он прочел «Православный Катехизис» братьев Муравьевых, то, конечно, понял бы, что Катехизис этот столь же не православен, как не самодержавен. Именно он, Чаадаев, первый понял, что самодержавие, вера в русское царство, и православие, вера в русского Бога, – два исторические явления одной и той же метафизической сущности, так что отрицающий одно из них не может не отрицать и другое. Он, первый из образованных русских людей, не только усомнился в простодушной народной истине: «на что лучше русского Бога?» – не только искал, но и нашел «другого Бога», другое царство.
Да приидет Царствие Твое – adveniat regnum tuum, – в этих четырех словах молитвы Господней – вся философия и вся религия Чаадаева. Он повторял их неустанно, кончал ими все свои литературные произведения и частные письма, все свои дела и мысли, так что, наконец, слова эти сделались как бы самим дыханием жизни его, биением сердца. В сущности, он и не сказал ничего, кроме этих четырех слов, – но сказал их так, как никто никогда не говорил.
Осуществление Царства Божиего не только на небе, но и на земле, в земной жизни человечества, в религиозной общественности, в Церкви как Царстве – таково, по мнению Чаадаева, «последнее предназначение христианства». Но для того, чтобы исполнить его, церковь должна быть свободна от власти мирской. Эту свободу сохранила будто бы церковь западная, римско-католическая, тогда как восточная, византийская, утратила ее, подчинившись мирским властям и объявив главу государства, языческого самодержца, главою церкви, первосвященником. Вот почему свободная церковь западная могла раскрыть заключенную в христианстве идею не только личного, но и общественного спасения, начало объединяющее, синтетическое; из этого начала, которое выразилось в идее папства, как всемирного единства, возникло и всемирное единство всего западного просвещения, объединившего европейские народы. Порабощенная государству, церковь восточная могла раскрыть идею спасения только личного, безобщественного, начало уединяющее, монашеское. Вот почему действенная сила христианства осталась здесь втуне. Россия, приняв христианство от Византии, пошла по тому же пути христианства монашеского, исключительно личного и внутреннего, безобщественного, вышла из семьи западноевропейских народов, из всемирного единства, христианского просвещения и обособилась, замкнулась во тьме первобытного, младенческого и в то же время старческого варварства. «Недостаток нашего религиозного учения (т. е. православия), – говорит Чаадаев, – отстранил нас от всемирного движения, в котором развилась и выразилась общественная идея христианства, и отбросил в число тех народностей, которым лишь посредственно и очень поздно суждено испытать на себе совершенное действие христианства». «Мы будем истинно свободны, – заключает он, – с того дня, когда из наших уст, помимо нашей воли, вырвется признание во всех ошибках нашего прошлого, когда из наших недр исторгнется крик раскаяния и скорби, отзвук которого наполнит мир». Главная из этих ошибок для Чаадаева – православие.






