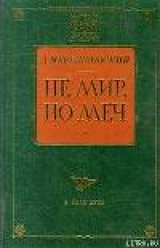
Текст книги "Не мир, но меч"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
«Кто против Господа, Царицы Небесной и меня, убогого Серафима, пойдет, тому не дам жития ни в сем веке, ни в будущем».
Я себя не обманываю – знаю, что если не там в вечности, то здесь в «сем веке» он, может быть, и проклял бы меня, а если бы не проклял, то уж, во всяком случае, не благословил бы, промолчал, ничего не ответил бы на все мои вопросы.
И все-таки я верю, что последняя, нездешняя тайна Серафимовой и всей христианской святости, когда откроется, будет тем самым откровением, которого и я жду, которого ждут все, кто ожидает церкви грядущего Господа. Все мы верим и надеемся, что в этой церкви Серафим благословит нас всех.
Но благословение – там, а здесь: «Кто против меня пойдет, тому не дам жития».
И вот на это хочется здесь же ответить:
– Батюшка Серафим! Если ты идешь за Бога против мира, то мы идем против тебя с миром и с Богом, ибо истинен Бог наш, Христос, пришедший в мир, сущий в мире и грядущий в мире. Тут между нами и тобою, действительно, бездонная «канавка» – великий рубеж, отделяющий до времени явление Сына от явления Духа, второй Завет от третьего. Тут между нами и тобою, по слову Господа, – не мир, но меч – опять, конечно, до времени, ибо когда время исполнится и тайна всех трех Заветов совершится, то будет уже – не меч, но мир.
ОТВET НА ВОПРОС
В текущем 1907 г. французским журналом le Mercurede France предложен был как светским писателям, философам, ученым, общественным деятелям, так и представителям духовенства различных стран и вероисповеданий вопрос:
Присутствуем ли мы при разложении (dissolution) или развитии (evolution) религиозной идеи в современном человечестве? – Настоящая заметка есть ответ на этот вопрос.
Д.М.
Разложение есть только внешняя видимость настоящего религиозного момента; а внутреннее содержание его – то высшее напряжете эволюции, когда она становится революцией. Предстоящая религиозная революция подобна той, которая совершалась при возникновении христианства.
Всякая эволюция проходит через три объективные момента, соответствующие трем субъективным моментам диалектического развития; первый момент есть первое низшее интегральное единство, слитность противоположных начал; второй – их разъединение, дифференциация; третий – последнее соединение, совершенная интеграция в высший эволюционный тип. Первый момент – тезис; второй – антитезис; третий – синтез.
Этим трем моментам биологического и диалектического развития соответствуют три момента религиозной эволюции человечества.
Первый – все дохристианские религии, от языческого политеизма до еврейского монотеизма, которые утверждают низшее, недифференцированное единство мира и Бога, земли и неба, духа и плоти; утверждают объективное природное бытие, космос как единственно абсолютное; не разделают объект от субъекта, внешнее от внутреннего, безличное от личного. Бессознательная основа всех этих религий – пантеизм, всебожие, в котором Pan, все, не отделяется от Theos, Бог: все в Боге, Бог во всем, – без движения, без сознания, без динамического процесса. Все эти религии суть откровение Бога-Отца как единого, абсолютного, безличного объекта, которым поглощается всякое частное, субъективное, личное бытие.
Второй момент – христианство, которое нарушает первое интегральное единство, дифференцирует и противополагает субъект объекту, личное безличному. Христианство есть откровение абсолютного субъекта, личности, Сына Божиего, который воплотился в личности человеческой – во Христе.
Для всех религий дохристианских – царство Божие есть «мир сей», мир в Боге, космос; царство же Христово – не от мира сего. В христианстве впервые является разделение мира на два порядка – феноменальный и трансцендентный, земной и небесный, плотский и духовный. Христианство постулирует последнее соединение этих двух порядков: Я и Отец – одно; но последнее соединение возможно лишь там, где совершилось последнее разъединение: Боже мой, Боже мой, зачем Ты оставил меня? – Высшая интеграция возможна лишь там, где пройдены все ступени дифференциации.
Третий и последний момент религиозной эволюции, момент, который именно теперь наступает, есть откровение Духа, которое соединит откровение Отца с откровением Сына.
Религия дохристианская – тезис; христианство – антитезис; религия Духа – синтез.
Первый завет – религия Бога в мире.
Второй завет Сына – религия Бога в человеке – Богочеловека.
Третий завет – религия Бога в человечестве – богочеловечества.
Отец воплощается в космосе.
Сын – в логосе.
Дух – в последнем соединении логоса с космосом, в едином соборном вселенском существе – богочеловечестве.
Для того чтобы вступить в третий момент, мир должен окончательно выйти из второго момента; для того чтобы вступить в религию Духа, мир должен окончательно выйти из религии Сына – из христианства: в настоящее время, в кажущемся отречении от Христа это необходимое выхождение и совершается.
Тезис и антитезис суть две противоположные половины совершенной синтетической истины, и каждая из них постольку участвует в истине, поскольку стремится к соединению с другой противоположной половиною; если же одна, отрицая другую, утверждает себя как совершенную истину, то она становится ложью. Это именно и случилось с христианством.
Христианство, пока находилось в динамическом процессе, в развитии и в творчестве, стремилось к последнему откровению, к Апокалипсису, соединяющему Бога с миром, Дух с плотью, небо с землею в «новом граде Иерусалиме», в «царстве святых на земле»; оно стремилось к последнему синтезу: да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе. Но, когда над динамикой возобладала статика и христианство остановилось, окаменело в мертвой догматике, оно превратило неразрешенную, но вечно разрешаемую противоположность двух начал в их неразрешимое противоречие, антитезу в антиномию. Выражение этой антиномии – монашеский аскетизм в крайних точках своих есть отречение от феноменального мира во имя трансцендентного Бога, умерщвление плоти во имя бесплотного духа, проклятие земли во имя безземного неба. Антитезис, вместо того чтобы стремиться к соединению со своим тезисом, поглощал и упразднял его окончательно. Одна половина истины, религия Сына, отрицая другую – религию Отца и, утверждая себя как совершенную истину, сделалась ложью. Тогда-то первая, подавленная, но не побежденная половина истины восстала на вторую; умерщвляемый, но неумертвимый тезис восстал на антитезис – плоть на Дух, земля на небо, мир на Бога. Это восстание и есть так называемое Возрождение языческой древности, которое началось в XIV веке и продолжается до наших дней в современной антихристианской культуре – искусстве, науке, философии, социально-политической революционной общественности.
Кажущееся безбожие современного мира есть действительное богоборчество. Иаков во сне боролся с Богом и, когда Бог увидел, что не одолевает его, то сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Но Иаков сказал Богу: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И за эту святую борьбу Бог возлюбил Иакова больше всех сынов человеческих и дал ему новое имя Израиля-богоборца.
Современное человечество тоже во сне, бессознательно, борется с Богом, уже не с Отцом, а с Сыном, со Христом. И вот почему, как это ни странно сказать, современные безбожники, христоборцы, ближе ко Христу, чем современные христиане: не видя лица Его, они в борьбе обнимают Его, прикасаются к Нему, соединяются с ним. И Христос, не одолев мира, скажет ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. И мир скажет Христу: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И Христос благословит мир в восходящей заре, в откровении Духа, в третьем Завете, и даст человечеству имя новое Богосыновства, богочеловечества.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ОДНОЙ КНИГЕ[1]1
«Le Tsar et la Révolution», par D. Merejkowsky, Z. Hippius, D. Philosophoff. Paris, 1907.
[Закрыть]
С русской революцией рано или поздно придется столкнуться Европе, не тому или другому европейскому народу, а именно Европе как целому, – с русской революцией или русской анархией, ибо что такое в настоящее время совершается в России, переход ли от одной государственной формы к другой, выход ли из всех государственных форм в неизвестное, это сейчас решить трудно. Во всяком случае, уже и теперь ясно, что это – игра опасная не только для нас, русских, но и для вас, европейцев. С пристальным и тревожным вниманием следите вы за русской революцией – недостаточно все-таки пристальным, недостаточно тревожным: то, что у нас происходит, страшнее, чем кажется вам. Мы горим, в этом нет сомнения; но что мы одни будем гореть и вас не подожжем, так же ли это несомненно?
Все внешние события нашего переворота до мельчайших подробностей известны Европе; но внутренний их смысл от нее ускользает. Она видит движущееся тело, а не движущую душу русской революции. Душа ее, душа русского народа, остается для Европы вечною загадкою.
Мы похожи на вас, как левая рука похожа на правую: правая не совпадает с левою в одной и той же плоскости: надо перевернуть одну, чтоб они совпали. Чтó у вас, тó и у нас, но обратно; мы – вы наизнанку. Говоря Кантовским языком, ваша область – феноменальное, наша – трансцендентное; говоря языком Ницше – в вас Аполлон, в нас – Дионис; ваш гений – мера; наш – чрезмерность. Вы умеете останавливаться вовремя; доходя до стены, обходите или возвращаетесь; мы разбиваем себе голову об стену. Нас трудно сдвинуть, но, раз мы сдвинулись, нам нет удержу – мы не идем, а бежим, не бежим, а летим, не летим, а падаем, и притом «вверх пятами», по выражению Достоевского. Вы любите середину; мы любим концы. Вы трезвые, мы пьяные; вы – разумные, мы – исступленные; вы – справедливые, мы – беззаконные. Вы сберегаете душу свою, мы всегда ищем, за что бы нам потерять ее. Вы – «град настоящий имеющие»; мы – «грядущего града взыскующие». Вы, на последнем пределе вашей свободы, – все же государственники; мы, в глубине нашего рабства, почти никогда не переставали быть мятежниками, тайными анархистами – и теперь тайное только сделалось явным. Для вас политика – знание; для нас – религия. Не в разуме и в чувстве, в которых часто мы доходим до совершенного отрицания, до нити нигилизма, – а в сокровеннейшей воле нашей, мы – мистики.
В русской литературе, особенно в двух главных вершинах ее, во Л. Толстом и Достоевском, эта первая основа русской души, мистика воли, открылась вам отчасти, но именно только отчасти. Чтобы понять ее до конца, мало нас перечесть, надо нас пережить. А это трудно и страшно; это, повторяю, страшнее, чем вы думаете. Мы – ваша опасность, ваша язва, жало сатаны или Бога, данное вам в плоть. Вы еще от нас пострадаете, но, в последнем счете, к общему благу, потому что мы друг другу нужны, как левая рука нужна правой.
В этой книге мы стараемся показать, что последний смысл русской революции остается непонятным вне понимания мистического.
Самодержавие и православие две половины единого религиозного целого, так же как папство и католичество. Царь – не только царь, глава государства, но и глава церкви, первосвященник, помазанник Божий, то есть, в последнем, ежели исторически не осуществленном, то мистически необходимом пределе власти своей – наместник Христа, тот же папа – кесарь и папа вместе. Самодержавие есть утверждение абсолютной святыни; но в порядке мистическом – а главная особенность русского духа, мистика воли, не дает нам выйти из этого порядка – отрицание одного абсолюта не может не быть утверждением другого, противоположного. Святыня против святыни. Самодержавие – религия. И революция – тоже религия. Всего менее сознают это сами революционеры. В сознании своем они – безбожники. Имя Божие ненавистно им, потому что связано с наибольшим кощунством над их собственной подлинной, хотя и безымянной, святынею. Для них религия значит реакция. И они правы, если не положительной, то отрицательной религиозной правдой. В России более, чем где-либо в мире, дела дьявола, ложь и человекоубийство, покрываются именем Божиим. Дьявол украл у нас имя Божие. Ежели смотреть не на то, что русские революционеры говорят, а на то, что они делают, нельзя не увидеть, что эти безбожники иногда святые. Со времени первых мучеников христианских не было людей, которые бы так умирали: по слову Тертуллиана, «они летят на смерть, как пчелы на мед».
Русская революция – не только политика, но и религия – вот что всего труднее понять Европе, для которой и сама религия давно уже политика. Вы судите по себе: вам кажется, что мы переживаем естественную болезнь политического роста, которую переживали в свое время все европейские народы; пусть же перебесимся – все равно, выше головы не прыгнем, кончим тем же, чем вы, остепенимся, протянем ножки по одежке, взнуздаемся парламентским намордником, откажемся от социалистических и анархических крайностей и удовольствуемся вместо града Божиего, старенькой конституционной лавочкой, буржуазно-демократической серединкой на половинке; – так было везде, так будет и у нас.
Пожалуй, и действительно было бы так, если бы мы были не на изнанку, если бы не наша трансцендентность, заставляющая нас разбивать голову об стену, лететь «пятами вверх». Во всяком случае, на конституционной монархии мы не остановимся. Да и не могла бы, если бы даже хотела, русская монархия дать конституцию. Для царя православного отречься от самодержавия значит отречься от православия.
Но когда все исторические формы нашей государственности и церковности будут низвергнуты, тогда в политическом и религиозном сознании народа зазияет такая пустота, которую не наполнят никакие существующие формы европейской государственности – не только конституционная монархия, но и буржуазно-демократическая республика. Для того чтобы тысячелетние громады окончательно рухнули, нужно такое землетрясение, что все старые парламентские лавочки попадают, как карточные домики. Ни на одной из них русская революция не остановится. Но тогда на чем? и что же далее? Далее – прыжок в неизвестное, в трансцендентное, полет «пятами вверх». Русская революция так же абсолютна, как отрицаемое ею самодержавие. Ее сознательный эмпирический предел – социализм; бессознательный, мистический – безгосударственная религиозная общественность. Еще Бакунин предчувствовал, что окончательная революция будет не народной, а всемирной. Русская революция – всемирная.
Когда вы, европейцы, это поймете, то броситесь тушить пожар. Но берегитесь: не вы нас потушите, а мы зажжем вас.
В настоящее время понятие безвластия или остается отрицательным, или заимствует свои утверждения из метафизики чуждого и даже противоположного понятия социализма, который в предельных выводах своих есть та же государственность, принудительная зависимость каждого от всех, личности от безличных законов экономической необходимости. Но где же та последняя свобода, которою побуждается всякая внешняя необходимость, всякое насилие, метафизическое начало государственности? Не наука, не философия, а только религия может ответить на этот вопрос. Последнее утверждение новой религиозной безгосударственной общественности есть новое религиозное сознание и действие, новое религиозное соединение личности и общества, единого и всех, беспредельной свободы и беспредельной любви. Истинное безвластие есть боговластие. Слова эти загадочны. Но пусть пока так и останутся они загадкою.
Мы обращаемся не к буржуазному европейскому обществу, а лишь к отдельным личностям высшей всемирной культуры, к тем, для кого уже и теперь, по слову Ницше, «государство самое холодное из чудовищ». Такие одинокие, слишком ранние анархисты, как Бакунин, Толстой, Штирнер, Ницше, – горные вершины, озаряемые первыми лучами дня; а внизу, где еще темная ночь, – бесчисленные неведомые братья наши, всемирный рабочий народ, великое воинство грядущей всемирной революции. Мы верим, что рано или поздно дойдет и до них громовой голос русской революции, в котором зазвучит над старым европейским кладбищем труба архангела, возвещающая страшный суд и воскресение мертвых.
ГОГОЛЬ
Творчество, жизнь и религия
Часть первая
ТВОРЧЕСТВО
I
«Как черта выставить дураком» – это, по собственному признанию Гоголя, было главною мыслью всей его жизни и творчества. «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом» (Письмо Шевыреву из Неаполя от 27 апреля 1847 года).
В религиозном понимании Гоголя черт есть мистическая сущность и реальное существо, в котором сосредоточилось отрицание Бога, вечное зло. Гоголь как художник при свете смеха исследует природу этой мистической сущности; как человек – оружием смеха борется с этим реальным существом: смех Гоголя – борьба человека с чертом.
Бог есть бесконечное, конец и начало сущего; черт – отрицание Бога, а следовательно, и отрицание бесконечного, отрицание всякого конца и начала; черт есть начатое и неоконченное, которое выдает себя за безначальное и бесконечное; черт – нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин – вечная плоскость, вечная пошлость. Единственный предмет гоголевского творчества и есть черт именно в этом смысле, то есть как явление «бессмертной пошлости людской», созерцаемое за всеми условиями местными и временными – историческими, народными, государственными, общественными, – явление безусловного, вечного и всемирного зла, пошлость sub specie aeterni («под видом вечности»).
«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого точно нет у других писателей» («Из переписки с друзьями», XVIII, 3). Зло видимо всем в великих нарушениях нравственного закона, в редких и необычайных злодействах, в потрясающих развязках трагедий; Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилии, не в безумных крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в остроте и в глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, – открыл как бы дифференциальное исчисление, бесконечно великое значение бесконечно малых величин добра и зла. Первый он понял, что черт и есть самое малое, которое лишь вследствие нашей собственной малости кажется великим, самое слабое, которое лишь вследствие нашей собственной слабости, кажется сильным. «Я называю вещи, – говорит он, – прямо по имени, то есть черта называю прямо чертом, не даю ему великолепного костюма á 1а Байрон и знаю, что он ходит во фраке…» «Дьявол выступил уже без маски в мир: он явился в своем собственном виде».
Главная сила дьявола – умение казаться не тем, что он есть. Будучи серединой, он кажется одним из двух концов – бесконечностей мира, то Сыном-плотью, восставшим на Отца и Духа, то Отцом и Духом, восставшими на Сына-плоть; будучи тварью, он кажется творцом; будучи темным, кажется Денницею; будучи косным, кажется крылатым; будучи смешным, кажется смеющимся. Смех Мефистофеля, гордость Каина, сила Прометея, мудрость Люцифера, свобода сверхчеловека – вот различные в веках и народах «великолепные костюмы», маски этого вечного подражателя, приживальщика, обезьяны Бога. Гоголь, первый, увидел черта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необычайностью, а обыкновенностью, пошлостью; первый понял, что лицо черта есть не далекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое близкое, знакомое, реальное «человеческое, слишком человеческое» лицо, лицо толпы, лицо, «как у всех», почти наше собственное лицо в те минуты, когда мы не смеем быть сами собой и соглашаемся быть, «как все».
Два главных героя Гоголя – Хлестаков и Чичиков – суть два современных русских лица, две ипостаси вечного и всемирного зла – «бессмертной пошлости людской». По слову Пушкина, то были двух бесов изображенья.
Вдохновенный мечтатель Хлестаков и положительный делец Чичиков – за этими двумя противоположными лицами скрыто соединяющее их третье лицо черта «без маски», «во фраке», в «своем собственном виде», лицо нашего вечного двойника, который, показывая нам в себе наше собственное отражение, как в зеркале, говорит:
– Чему смеетесь? Над собой смеетесь!
II
«Вы эту скотину (черта), бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он щелкопер и весь состоит из надуванья. Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад – тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана; а в самом деле он черт знает что. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: хвалился черт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти. Пугать, надувать, приводить в уныние – это его дело».
Легко догадаться, кто именно этот «мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие», то есть, в качестве ревизора, распекающий всех.
В черновых заметках к «Мертвым душам» Гоголь пишет: «Весь город со всем вихрем сплетен – прообразование бездельности (то есть пошлости) жизни всего человечества в массе… Как низвести всемирную картину безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до прообразования безделья мира?»
Итак, опять-таки по собственному признанию Гоголя, в обоих величайших произведениях его – в «Ревизоре» и «Мертвых душах» – картины русского провинциального города 20-х годов имеют, кроме явного, некоторый тайный смысл, вечный и всемирный, «прообразующий», или, как мы теперь сказали бы, символический, ибо символ и значит «прообразование»: среди «безделья», пустоты, пошлости мира человеческого, не человек, а сам черт, «отец лжи», в образе Хлестакова или Чичикова, плетет свою вечную, всемирную «сплетню». «Я совершенно убедился в том, что сплетня плетется чертом, а не человеком, – пишет Гоголь в частном письме по поводу частного дела. – Человек от праздности и сглупа брякнет слово без смысла, которого бы и не хотел сказать (не так ли именно Бобчинский и Добчинский брякнули слово „ревизор“?). Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое; и мало-помалу сплетется сама собою история, без ведома всех. Настоящего автора ее безумно и отыскивать, потому что его не отыщешь… Не обвиняйте никого… Помните, что все на свете обман, все кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле… Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ревизовать Тот, Кого ничем не подкупишь» (Письмо к N. F. из Москвы от 6 декабря 1849).
Не дан ли здесь полный, не только понятный всем, реальный, но и до сей поры никем, кажется, непонятый, мистический смысл Ревизора?
В Хлестакове, кроме реального человеческого лица, есть «призрак»: «это фантасмагорическое лицо, – говорит Гоголь, – которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой Бог знает куда». Герой «Шинели», Акакий Акакиевич, точно так же как Хлестаков, только не при жизни, а после смерти своей, становится призраком – мертвецом, который у Калинкина моста пугает прохожих и стаскивает с них шинели. И герой «Записок сумасшедшего» становится лицом фантастическим, призрачным – «королем испанским Фердинандом VIII». У всех троих исходная точка одна и та же: это – мелкие петербургские чиновники, обезличенные клеточки огромного государственного тела, бесконечно малые дроби бесконечно великого целого. Из этой-то исходной точки – почти совершенного поглощения живой человеческой личности мертвым безличным целым – устремляются они в пустоту, в пространство и описывают три различные, но одинаково чудовищные параболы: один – во лжи, другой – в безумии, третий – в суеверной легенде. Во всех трех случаях личность мстит за свое реальное отрицание; отказываясь от реального, мстит призрачным, фантастическим самоутверждением. Человек старается быть не тем, что есть во всякой человеческой личности и что кричит из нее к людям, к Богу: я – один, другого подобного мне никогда нигде не было и не будет, я сам для себя все – «я, я, я!» – как в исступлении кричит Хлестаков.
В качестве реальной величины в государстве Хлестаков – ничтожество: «один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими». Собственный лакей его, дурак и плут Осип, презирает барина: «Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой». Он, однако, сын дворянина, старосветского помещика из глубины России. Но никакой связи со своим родом, народом, землей он не сохранил. Он весь до мозга костей – петербургский безземельный «пролетарий», безродный, искусственный человек – гомункул, выскочивший из «петровской табели о рангах», как из алхимической склянки. Люди прошлого, подобные отцу его, для него – варвары, почти не люди: «они, пентюхи, и не знают, что такое значит „прикажете принять“. К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, в гостиную». Отрицание, впрочем, обоюдное: «батюшка присылает ему денежки»; но если бы узнал он, как живет сынок в Петербурге: «делом не занимается – вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по пришпекту, в картишки играет», то, по выражению Осипа, «не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, подняв рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня бы четыре ты почесывался».
Как личность умственная и нравственная, Хлестаков отнюдь не полное ничтожество. «Хлестаков, – определяет Гоголь, – есть человек ловкий, совершенный comme il faut, умный, даже, пожалуй, добродетельный», – ну, конечно, не слишком умный и добродетельный, но зато и не слишком глупый и злой. У него самый обыкновенный ум, самая обыкновенная – общая, легкая, «светская совесть». В нем есть все, что теперь в ход пошло и что впоследствии окажется пошлым. «Одет по моде», и говорит, и думает, и чувствует по моде. «Он принадлежит к тому кругу, который, по-видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей», – замечает Гоголь. Он, как все: и ум, и душа, и слова, и лицо у него, как у всех. В нем, по глубокому определению опять-таки самого Гоголя, ничего не означено резко, то есть определенно, окончательно, до последнего предела, до конца. Сущность Хлестакова именно в этой неопределенности, неоконченности. «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли» – не способен сосредоточить, довести до конца ни одну из своих мыслей, ни одно из своих чувств. Он, как выражается черт Ивана Карамазова, «потерял все свои концы и начала», он – воплощенное отрицание всех концов и начал, воплощенная нравственная и умственная середина, посредственность.
Но главные силы, которые движут и управляют им, не в общественной и не в умственной или нравственной личности, а в безличном, бессознательном, стихийном существе его – в инстинктах. Тут прежде всего слепой животный инстинкт самосохранения – неимоверный волчий голод: «Так хочется есть, как еще никогда не хотелось… Тьфу, даже тошнит…» Это не простой мужичий голод, который насыщается хлебом насущным, а благородный, господский. Вправе на удовлетворение этого голода Хлестаков сознает себя в высшей степени барином: «Ты растолкуй ему (хозяину гостиницы) серьезно, что мне нужно есть… Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим то же. Вот новости!» Есть хочется, нужно есть – это уже нечто безусловное, бесконечное в существе Хлестакова, – во всяком случае это его естественный конец и начало, его первая и последняя правда.
Природа, наделив его такою потребностью, вооружила и особой силой для ее удовлетворения, – силой лжи, притворства, уменья казаться не тем, что он есть. И эта сила у него опять-таки не в уме, не в воле, а в глубочайшем бессознательном инстинкте.
Некоторые насекомые формой и окраской тел с точностью, до полного обмана даже человеческого зрения, воспроизводят форму и окраску мертвых сучков, увядших листьев, камней и других предметов, пользуясь этим свойством, как оружием в борьбе за существование, дабы избегать врагов и ловить добычу. В Хлестакове заложено природою нечто подобное этой первозданной, естественной лжи или мимике лицедейства. В устах его ложь есть вечная «игра природы». Язык его лжет так же непроизвольно, неудержимо, как сердце бьется, легкие дышат. «Хлестаков лжет, – говорит Гоголь, – вовсе не холодно или фанфаронски-театрально; он лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута его жизни – почти род вдохновения».
Ложь Хлестакова имеет нечто общее с творческим вымыслом художника. Он опьяняет себя мечтою до полного самозабвения. Меньше всего думает о реальных целях, выгодах. Это ложь бескорыстная – ложь для лжи, искусство для искусства. Ему в эту минуту ничего не надо от слушателей: только бы поверили. Он лжет невинно, бесхитростно и первый сам себе верит, сам себя обманывает – в этом тайна его обаяния. Он лжет и чувствует: это хорошо, это правда. То, чего нет, для него, как для всякого художника, прекраснее и потому правдивее самой правды. Он весь горит и трепещет как бы от священного восторга. Тут какая-то нега, сладострастие лжи. Если бы стали обличать его, он сначала просто не понял бы, а потом с чувством высшей поэтической правды и правоты презрел бы столь низменную точку зрения. Беззащитно и беззлобно огорчился бы, как обиженный ребенок, как оскорбленный чернью поэт. Недаром утверждает Гоголь, что одно из главных свойств Хлестакова – «чистосердечие и простота». У этого гения лжи, как у всякого истинного гения, – почти детская простота и ясность. Тот Хлестаков, который берет взятки у обманутых им чиновников с такой бесстыдной наглостью, уже совсем другой человек: поэт исчез, вдохновение потухло:
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
С ложью связано в нем другое столь же первозданное, стихийное свойство. «У меня, – признается он, – легкость в мыслях необыкновенная». Не только в мыслях, но и в чувствах, в действиях, в словах, даже в «тоненьком, худеньком теле», во всем существе его «необыкновенная легкость»: весь он точно «ветром подбит», едва земли касается – вот-вот вспорхнет и улетит. Для него и в нем самом нет ничего трудного, тяжелого и глубокого – никаких задержек, никаких преград между истиной и ложью, добром и злом, законным и преступным; он даже не «преступает», а перелетает благодаря этой своей окрыляющей легкости через «все черты и все пределы». Величайшие мысли человечества, которые давят его целые века своей тяжестью, попадая в голову Хлестакова, становятся вдруг легче пуха. Вот, например, одна из главных мыслей XVII и XVIII века, Монтеня, Гоббса, Жан-Жака Руссо, – мысль о «естественном состоянии», о возврате человека в природу. Когда Хлестаков признается в любви жене городничего, та отвечает ему с робким недоумением: «но позвольте заметить, я в некотором роде… я замужем». – «Это ничего, – возражает Хлестаков. – Для любви нет различия: и Карамзин сказал: „Законы осуждают“. Мы удалимся под сень струй»… Это значит: человеческие законы осуждают нашу любовь, но мы уйдем от людей в природу, где царствуют иные, вечные законы. От древнегреческой идиллии Дафниса и Хлои, которые тоже были счастливы «под сенью струй», до чувствительных романов XVIII века, до пастушеских сцен во вкусе Ватто, Буше и через Карамзина до Хлестакова – какой неимоверный путь прошла человеческая мысль и во что она превратилась!






