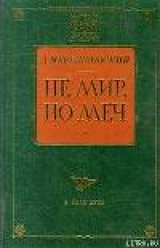
Текст книги "Не мир, но меч"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Два главных «чудовища», которые всех ближе и всех страшнее Гоголю, которых он потому и преследует с наибольшей злобой, – Хлестаков и Чичиков.
«Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности». Всех меньше отделились от него именно эти двое – Хлестаков и Чичиков.
«Я размахнулся в моей книге („Переписка с друзьями“) таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее», – пишет Гоголь Жуковскому (из Неаполя, 6 марта 1847). «Право, – заключает он, – есть во мне что-то Хлестаковское». Какое страшное значение получает это признание, ежели сопоставить с ним другое – то, что в Хлестакове видел он черта!
Чичиковского было в Гоголе, может быть, еще больше, чем Хлестаковского. Чичикову точно так же, как Хлестакову, мог бы он сказать то, что Иван Карамазов говорит своему черту: «Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых… Ты – я, сам я, только с другой рожей». Но Гоголь этого не сказал, не увидел или только не хотел, не посмел увидеть в Чичикове своего черта, может быть, именно потому, что Чичиков еще меньше «отделился от него самого и получил самостоятельность», чем Хлестаков. Тут правда и сила смеха вдруг изменили Гоголю – он пожалел себя в Чичикове: что-то было в «земном реализме» Чичикова, чего Гоголь не одолел в себе самом. Чувствуя, что это во всяком случае необыкновенный человек, захотел он его сделать человеком великим: «Назначение ваше, Павел Иванович, быть великим человеком», – говорит он ему устами нового христианина Муразова. Спасти Чичикова Гоголю нужно было во что бы то ни стало: ему казалось, что он спасает себя в нем.
Но он его не спас, а только себя погубил вместе с ним. Великое призвание Чичикова было последней и самой хитрой засадой, последней и самой соблазнительной маской, за которой спрятался черт, подлинный хозяин «Мертвых душ», подстерегая Гоголя.
Как Иван Карамазов борется с чертом в своем кошмаре, так и Гоголь – в своем творчестве, тоже своего рода «кошмаре». «Кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло». «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы вволю насмеялся человек над чертом», – вот главное, что было в душе его. Удалось ли это ему? В конце концов, кто над кем посмеялся в творчестве Гоголя – человек над чертом или черт над человеком?
Во всяком случае, вызов был принят, и Гоголь чувствовал, что нельзя ему отказываться от поединка, поздно отступать. Но эта страшная борьба, которая началась в искусстве, в отвлеченном от жизни созерцании, должна была решиться в самой жизни, в реальном действии. Прежде чем одолеть вечное зло во внешнем мире как художник, Гоголь должен был одолеть его в себе самом как человек. Он это понял и действительно перенес борьбу из творчества в жизнь; в борьбе этой увидел не только свое художественное призвание, но и «дело жизни», «душевное дело».
Есть, впрочем, уже и в самом созерцании Гоголя начало действия, в самом слове его – начало дела. Этим он противоположен Пушкину.
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв —
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Вечную правду этого пушкинского завета, правду созерцания, Гоголь признает, но вместе с тем видит уже и другую, противоположную, столь же вечную правду действия. Тут воплощается в Гоголе неизбежный, окончательно совершающийся только именно в нас, в наши дни переход русской литературы, всего русского духа от искусства к религии, от великого созерцания к великому действию, от слова к делу. «Нельзя повторять Пушкина, – говорит Гоголь. – Нет, не Пушкин или кто другой должен стать теперь образец нам: другие времена уже пришли… Другие дела наступают для поэзии. Как во времена младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву – на битву уже не за временную нашу свободу, но за нашу душу».
Пушкин зовет прочь из битвы; Гоголь – в битву. Это и есть, конечно, битва с вечным злом на вечное благо, последняя битва человека с чертом. Этот «браннолюбивый дух» в Гоголе – нечто столь же первозданное, истинное, как мирный дух в Пушкине; тут нет у Гоголя никакой измены самому себе, никакого отречения: он столь верен природе своей, как и Пушкин.
«Во сне и наяву мне грезится Петербург и служба государству», – пишет матери из Нежина восемнадцатилетний Гоголь. «Мысль о службе у меня никогда не пропадала, – говорит он в конце жизни. – Я не совращался со своего пути… Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был жизнь, а не что другое». «Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения». «Ум мой был всегда наклонен к существенности и пользе». «Я чувствовал всегда, что буду участник сильный и в деле общего добра и что без меня не обойдется»… «Мне захотелось служить земле своей… Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу так же служить земле своей». «Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит большое самопожертвование. – В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства». Но прежде, чем вступить, подобно древним русским богатырям, в битву со «страшилищами», Гоголь должен был победить самое страшное из них, жившее в нем самом. «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей… Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и в этом мне поможет Бог».
И здесь, в этой «войне» с самим собой так же, как везде, оставаясь верным своей природе, своей самой внутренней сущности, Гоголь не мог не перейти от «воображения» к «действительности», от слова к делу: «Дело мое – душа и прочное дело жизни». Он покидает искусство для искуса; кончается пушкинская «молитва», жертвоприношение – начинается «битва», самопожертвование Гоголя; исчезает поэт, выступает пророк.
И вместе с тем тут начинается трагедия Гоголя – incipit tragoedia – борьба с вечным злом – пошлостью, – уже не в творческом созерцании, а в религиозном действии, великая борьба человека с чертом.
Часть вторая
ЖИЗНЬ И РЕЛИГИЯ
I
Из двух начал явился Пушкин, – говорит Гоголь. Одно из них определяет он, как «отрешение от земли и существенности», стремление в «область бестелесных видений», т. е. как начало духовности, вернее, бесплотности, – христианское или кажущееся, в противоположность язычеству, «христианским». Другое – «прикрепление к земле и к телу», к «осязаемой существенности» – начало плотское, языческое или опять-таки кажущееся доныне, в противоположность христианству, «языческим».
Предвидел ли Гоголь, что, определяя Пушкина, он и самого себя определял, что и он явился из этих же самых «двух начал»?
«Никогда не чувствовал себя погруженным в такое спокойное блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Что за небо!.. Что за воздух!.. Пью – не напьюсь, гляжу – не нагляжусь… Никогда я не был так весел, так доволен жизнью».
Друзья Гоголя рассказывают, как на вилле Волконской, упиравшейся стеной в старый римский акведук, который служил ей террасой, «он ложился спиной на аркаду и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью, оставаясь недвижимым целые часы, с воспаленными щеками». – «Италия! Она моя!.. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине». Одно из писем помечает он, вместо христианского летосчисления, древнеримским: «год 2588 от основания Города», как будто на одно мгновение пожелал забыть, что Христос родился, как будто 1835 лет христианства, вместе с «Россией, Петербургом, снегами, департаментом», только снились ему.
Это, конечно, шутка; но надо знать, чем и тогда уже было для Гоголя христианство, чтобы почувствовать, что значит эта шутка. «Когда я увидел во второй раз Рим, – говорит он именно в этом письме, помеченном „от основания Города“, – мне казалось, что я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но, нет, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет».
Не Вифлеем, не Голгофа, а «мертвая и великолепная Кампанья», земля умерших богов – предвечная родина Гоголя. Языческую древность он не то что понимает или чувствует – он живет в ней. Так жили в ней, может быть, еще только два человека новой Европы – великие отступники христианства Гете и Ницше.
Рим – ρώμη – значит по-гречески – сила, крепость плоти. Рим есть величайшее последнее всемирное воплощение одного из тех «двух начал», о которых говорит Гоголь по поводу Пушкина; Рим есть самое сильное, самое крепкое «прикрепление» человеческого духа «к земле и к телу», к «осязаемой существенности», перед которой все, что было прежде и после, кажется призрачным, бесплотным, не существующим. Здесь, в Риме, человек впервые сказал себе, подобно Гоголю: «Я никогда не чувствовал себя погруженным в такое спокойное блаженство», или, подобно гетевскому Прометею: «Я не бог, но равен богам». Сюда, в Рим, каждый из отдельных народов, из отдельных языков принес, как особый камень в общее всемирное здание, особую силу и крепость плоти своей, особую радость жизни своей; все народы, все языки мира со своими богами собрались в объединенное всемирное язычество под купол Пантеона, это земное небо, и ключевым камнем, замкнувшим свод его, была последняя мысль Рима: земля есть небо, человек есть Бог.
Сквозь все «бестелесные видения» христианства Гоголь в глубине своей русской, даже малороссийской, казацкой природы, в первозданной стихии своего языкá и языка, иногда прощупывает это, как будто навеки противоположное христианству языческое начало, эту языческую радость жизни, крепость плоти, непотрясаемую твердь «земного неба».
«Ей-богу, мы все страшно отделились от наших первозданных элементов, – пишет он своему киевскому приятелю Максимовичу из Петербурга, с его „снегами, подлецами и департаментами“, как будто вдруг проснувшись от дурного сна. – Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел казак (между прочим, и старый казак „великий язычник“, толстовский дядя Ерошка). – Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это черт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина… Откупори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства… И на другой день двигайся и работай и укрепляйся железною силою».
Эта «железная» сила в окончательном всемирном сознании и есть ρώμη – Рим, в бессознательной стихийности – «прикрепление» всякого народа «к земле своей и к телу» своему, к языческой первозданной природе своей. Гоголь, конечно, и здесь только шутит; но в шутке этой скрыта та же самая тоска по предвечной родине, с которой он смотрел на мертвую и великолепную Кампанью.
Из этой первозданной стихии народной вышел смех Гоголя.
«Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой… Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. Молодость подталкивала». Впоследствии, окончательно «удалившись от первозданных элементов своих», он сделал этот смех «смехом сквозь слезы» – жестоким орудием жестокого знания – чем-то вроде анатомического ножа, который режет жизнь, как труп. Но первоначально это был именно только смех для смеха, переливающийся через край, избыток веселья. Он опьянялся смехом, как вином; грелся в нем от петербургского холода, как в луче родного малороссийского или римского солнца. Во всяком случае, Гоголь – молодой казак, пляшущий в одной рубашке трепака, – столь же реален, столь же значителен, как и Гоголь – угрюмый монах, пророчествующий о «бестелесных видениях», о загробных «страшилищах».
Отсюда же, из этой первозданной стихии языческой, – и столь особенное, столь чуждое нашему христианскому «ложу нескверному», иногда для нас прямо жуткое, «демоническое» сладострастие Гоголя.
«Я полагаю, что Гоголь вовсе не знал любви к женщинам», – замечает биограф. И в самом деле, ничего похожего на влюбленность нельзя отыскать в жизни Гоголя. По свидетельству врача, который ухаживал за ним перед смертью, «сношений с женщинами давно не имел, и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия». – «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать, – пишет юный Гоголь одному своему влюбленному приятелю. – Я потому говорю благодаря, что это пламя меня превратило б в прах в одно мгновение».
В повести «Вий» прекрасная панночка-ведьма раз пришла на конюшню, где псарь Микита чистил коня. «Дай, – говорит, – Микита, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую и полную, и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и, куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, а с той поры иссох весь, как щепка; когда раз пришли на конюшню, то вместо него лежала только куча золы, да пустое ведро: сгорел, совсем сгорел сам собою!»
Не повторяется ли здесь, в сказочном образе, личное признание Гоголя: «Это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение» – в прах, в «кучу золы», как бедного псаря Микиту. «К спасенью моему, – продолжал Гоголь, – твердая воля отводила меня от желания заглянуть в пропасть».
Сила, которая удаляет его от женщин, – не скудость, а напротив, какой-то особый, оргийный избыток чувственности; это странное молчание – не смерть, а чрезмерная полнота, замирающее напряжение, грозовая тишина пола.
Когда философ Хома Брут скакал с ведьмой, сидевшей у него верхом на плечах, он видел, как там внизу, в нижней бездне, подземном небе, «из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога – выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета… Облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой эластической окружности… Она вся дрожит и смеется в воде. „Что это?“ – думал философ, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом; он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение». «Дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмехаются, щеки пылают, очи выманивают душу… она сгорела бы от любви, она зацеловала бы… Беги, крещеный человек!» Здесь предел сладострастия, за который так же страшно переступить, как за предел смерти. «В тонком серебряном тумане мелькали девушки легкие, как тени. Тело их было как будто изваяно из прозрачных облаков и будто светилось насквозь при серебряном месяце» («Майская ночь»). Эта прозрачная белизна женского тела, как наваждение, преследует Гоголя: в «Мертвых душах» на губернском балу рядом с Чичиковым прекрасная молодая девушка «одна только белела и восходила прозрачною из мутной и непрозрачной толпы» – как видение из другого мира, как русалка в темной заглохшей воде.
Эти «прозрачные, светящиеся насквозь, как будто изваянные из облаков», тела русалок по природе своей подобны телам древних богов; это – та же самая мистически-реальная, одухотворенная плоть, величайшая противоположность христианской бесплотной духовности, – плоть легкая и все-таки нетленно твердая, как твердь небес. Это и есть одно из двух начал, заключенных в самом Гоголе – начало плоти.
«Тело одной русалки, – продолжает рассказчик, – не так светилось, как у прочих: внутри его виднелось что-то черное».
Черное пятно, страшная черная точка есть и в гоголевской «плоти», в первозданной языческой стихии его веселости, его смеха. Это – точка соприкосновения двух начал, двух половин, двух полюсов мира, рождающая беспредельный мистический ужас. Уже, впрочем, и там, в самой Элладе, есть эта черная точка: и там, в тишине самого блаженного, самого ослепительного полдня раздается вдруг потрясающий крик, таинственный зов, голос Пана, от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе. Гоголю с детства знаком этот крик: «Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» («Старосветские помещики»).
Этот непонятный «панический» ужас объяснился в тот день, когда родился Христос и умер великий Пан. В конце язычества есть начало христианства; в конце земного – начало небесного, в конце плоти – начало того, что за плотью.
Страшный «таинственный зов» слышится Гоголю и в Пушкине. «Поэта, – говорит Гоголь, – поразил вид Казбека, на верхушке которого увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом»:
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседстве Бога скрыться мне!
Вот и другое начало из тех двух, которые видел он в Пушкине. Оно же сказалось и в Гоголе, только с гораздо большей силой, чем в Пушкине. «Я не рожден для треволнений, – пишет Гоголь в 1842 году накануне своего христианского обращения, – и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». Иными словами, это ведь и значит: «туда б, в заоблачную келью»!
В тишине самого солнечного языческого полдня кто-то вдруг «назвал Гоголя по имени», и страшен был этот зов из другого мира.
II
Из этих-то «двух начал» явился Гоголь. «В Пушкине, – говорит он, – середина», – конечно, не в смысле посредственности, нечистого смешения, а в смысле чистейшего соединения, синтеза двух начал. «В нем все уравновешено». Равновесие Пушкина нарушено в Гоголе; лад Пушкина становится разладом в Гоголе. Это – одно из величайших нарушений равновесия, которые когда-либо происходили в душе человеческой. Здание дало трещину в главном своде, поколебалось до последних основ своих и упало, и «было падение дома того великое».
В этом-то неравновесии двух первозданных начал – языческого и христианского, плотского и духовного, реального и мистического – заключается вся не только творческая, созерцательная, но и жизненная религиозная судьба Гоголя.
Разлад, дисгармония во внутреннем существе его отражаются и во внешнем, даже телесном облике.
При первом взгляде наружность его удивляет: в ней что-то странное, на других людей не похожее, слишком напряженное, слишком острое и вместе с тем надломленное, больное. «Длинный сухой нос придавал этому лицу и этим сидевшим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее, – говорит очевидец. – Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты». Зоркая и грустная одинокая птица. Самое поверхностное впечатление от наружности Гоголя – тревожное, почти жуткое и в то же время смешное, комическое: зловещая карикатура; других смешит и сам смешон. «Ведь ты, братец, сам делаешься комическим лицом!» – говорит ему Погодин. – «Я именно комик, – соглашается Гоголь, – и вся моя фигура карикатурна».
Чем пристальнее всматриваешься в него, тем это смешное становится более жутким, почти страшным, фантастическим. «Таинственный карла» – прозвали его школьные товарищи в Нежине. И Достоевский отметил в нем это нечто «таинственное», фантастическое, когда назвал его «демоном смеха». «Чудак он превеликий!» – восклицает один из его приятелей. «Чудак» – это слишком мало. Не «чудак», а скорее, чудо или чудовище. «Это еще что такое, и откуда это?» – вот первое, что приходит в голову при взгляде на лицо Гоголя среди обыкновенных, хотя бы и самых избранных, самых гениальных, но все же человеческих лиц. «Птица», «карла», «демон», карикатура, призрак, что-то фантастическое, только не человек или, по крайней мере, не совсем человек.
«Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь», – т. е. чувства естественного страха перед мертвым телом, – это пишет С. Т. Аксаков, один из ближайших друзей Гоголя, тотчас после смерти его. Живой Гоголь для Аксакова – «не человек», мертвый – не мертвец. Живой для него таинственнее, призрачнее, чем умерший.
И чем ближе подходят к нему люди, тем сильнее чувствуют в нем это страшно далекое, чуждое, удивительное, к чему нельзя привыкнуть и что в иные мгновения внушает самым близким друзьям его непонятную враждебность, смешанную со страхом и отвращением.
Погодин с дружеской откровенностью называет Гоголя «отвратительнейшим существом». «Вообще в нем было что-то отталкивающее», – замечает Сергей Аксаков. «Я не знаю, – заключает он по этому поводу, – любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю – нет; да это и невозможно». Шевырев, тоже старый друг и даже отчасти ученик его, видит в нем «неряшество душевное, происходящее от неограниченного самолюбия».
Одни обвиняют его в «ханжестве», другие признаются, что считают его «кандидатом в святые отшельники или… в дом умалишенных» и чуть не в присутствии «друга» и «учителя» рассуждают об его «сумасшествии» и о «плутовстве в его сумасшествии».
Во всех этих «дружеских» отзывах какая-то беспричинная жестокость. Любящие его вдруг начинают ненавидеть, сами не зная за что, стараясь объяснить эту ненависть личными пороками Гоголя, но едва ли справедливо: ведь несмотря на эти пороки, те же самые люди, которые называют его плутом и сумасшедшим, в другие минуты с такой же искренностью считают его пророком, учителем, даже прямо «святым» и «мучеником». С. Т. Аксаков, который писал в 1847 году при жизни его: «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости», – пишет через пять лет после смерти его: «Я признаю Гоголя святым; это – истинный мученик христианства». В сущности же для Аксакова так и осталось навсегда неразъясненным, что такое Гоголь – сумасшедший или мученик, плут или святой.
Подобные противоречия в отзывах неразрешимы, если не предположить, что они зависят от противоречия в самом Гоголе: «два начала», два существа в нем; наблюдателю является то одно из них, то другое, сообразно с точкой зрения, на которой он стоит, и с меркой, которой он мерит.
Последний год своего пребывания в Нежинском лицее Гоголь посвятил «глубокому обдумыванию будущей должности и нового бытия в деятельном мире»; он давал себе слово, что все его «силы будут порываться на то, чтобы означить жизнь одним благодеянием, одной пользою отечества». «Мысль о службе меня никогда не оставляла, – вспоминает он в конце жизни, в „Авторской исповеди“. – Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование».
Жизнь и смерть Гоголя свидетельствуют о том, какая страшная искренность была в этой детской мечте его. И вот, однако, в это же самое время, среди глубокого обдумывания «нового бытия», уже стремясь в Петербург на великое служение, он пишет туда же о другой столь же пламенной и заветной мечте своей – о модном фраке и панталонах. «Напиши, пожалуйста, – просит он своего петербургского приятеля, – какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны… Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень хотелось бы себе сделать синий с металлическими пуговицами». Знаменитый фрак Чичикова «наваринского пламени с дымом» не родствен ли этому синему фраку юношеских мечтаний Гоголя?
По выпуску из лицея он прежде всех своих товарищей оделся в партикулярное платье. «Как теперь, вижу его в светло-коричневом сюртуке, – рассказывает очевидец, – которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка считалась тогда nес plus ultra молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками как будто не нарочно раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку».
Это, конечно, ребячество, но оно останется в нем надолго, может быть навсегда. В Петербурге, поступив в департамент, он вскоре начал упрекать себя за то, что «осмелился откинуть божественные помыслы», – т. е. об истинной «службе», служении земле своей, о самоотверженном подвиге. И тут же, среди благородных самообличений, сообщает провинциальному другу как важное петербургское известие: «Галстуков черных не носят; вместо них употребляют синие». Это уже как будто из письма Хлестакова; так и ждешь продолжения: «Прощай, душа Тряпичкин. Скучно, брат, так жить… Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться».
В заботе человека об одежде сказывается любовь и уважение к своему телу. Байрон и Пушкин хорошо одевались; у них выходило это так же просто и естественно, как и то, что они хорошо писали: во внешнем изяществе невольно выражались соответствие, гармония между внешним и внутренним. В древней латеранской статуе Софокла складки одежды кажутся столь же гармоническими, как и стихи его трагедий.
У Гоголя даже в этой мелочи, в неумении одеваться, обнаруживается основная черта всей его личности – дисгармония, противоречие. Щегольство дурного вкуса. «Одежда его, – говорит очевидец, – представляла резкую противоположность щегольства и неряшества». Зимой 1830 г., когда он узнал, какой модный цвет фраков и галстуков, он, вместе с тем, до такой степени обносился, что «нижнего белья у него не было ни одной штуки», по собственному признанию. Однажды, несмотря на свою крайнюю зябкость, всю зиму, «отхватал в летней шинели». Эти подробности как будто заимствованы из жизнеописания Хлестакова. Но кто знает? Не внушила ли Гоголю одного из глубочайших, гениальнейших его созданий, «Шинели», эта именно хлестаковская, подбитая ветром шинель?
В Петербурге сблизился он с Пушкиным. Дружба эта оставила на всей жизни Гоголя неизгладимый след. Он благоговел перед Пушкиным. «Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу… Ничего не предпринимал я без его совета». – «О, Пушкин, Пушкин! – вспомнит он впоследствии. – Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни!» Но в тогдашних письмах своих хвастает «не этим прекрасным сном», а тем, что книга его понравилась здесь всем, начиная с государыни, и что государыня приказала ему читать в «находящемся в ее ведении пансионе благородных девиц». «Квартира моя на пятом этаже; это здесь не значит ничего: сам государь занимает комнаты не ниже моих; напротив вверху гораздо чище и здоровее воздух». В действительности, он в это время, как сам жалуется по другому поводу, «живет на чердаке». Но хотя, мол, и чердак, а на одном уровне с покоями Зимнего дворца. И это без малейшей иронии, с детской искренностью. «Есть во мне что-то хлестаковское», – опять невольно вспоминается признание Гоголя.
Отсутствие нравственной выдержки, цельности, внутренняя неустойчивость, неравновесие ставят его в самые неловкие, нелепые и смешные, унизительные положения, делают «комическим» или, вернее, трагикомическим лицом, собственной карикатурой, правда, карикатурой исполинской, ибо в самом ничтожестве сохраняет он величие своих «первозданных элементов».
Такова история с его профессорством. «Он смотрел на науку, как на средство для составления карьеры», – замечает биограф. По выражению самого Гоголя – он «отжил кафедру». Приятелю Максимовичу, тоже будущему профессору, советует «работать сплеча, что придется» и с истинно хлестаковской легкостью решает «хватить среднюю историю томиков в восемь или девять, если Бог поможет». И. С. Тургенев, один из слушателей Гоголя, уверяет, будто бы все студенты были убеждены, что он «ничего не смыслит в истории». Лекции начинал он фразами вроде следующей: «Азия была каким-то народовержущим вулканом». Скучал сам и видел, что всем скучно. «Я читаю один… Никто меня не слушает! Хоть бы одно студенческое существо меня понимало». На экзамен пришел с головой, окутанной косынками, предоставил экзаменовать слушателей декану и ассистентам, а сам молчал все время. «Боится, что Шульгин (другой профессор) собьет его самого, так и притворяется, будто рта разинуть не может», – объясняли студенты. «Непризнанный взошел я на кафедру и непризнанный схожу я с нее!» – с торжественностью заявляет он врагам своим, а друзьям – с цинической откровенностью: «Я расплевался с университетом». И в самом деле, в этой жалкой и смешной фигуре университетского Акакия Акакиевича с подвязанной щекой кто мог бы признать великого учителя, обладавшего, несмотря на недостаток сведений, гениальными историческими прозрениями?
Противоречие – и в самых простых, кровных чувствах, например в любви к матери.
Любил ли Гоголь мать? Иногда его отношение к ней кажется бессердечным. Она сама нуждается, а он берет у нее деньги и тратит «на франтовство, на разные фраки, сюртучки, галстуки, подтяжки, платочки». Деньги, полученные от матери для передачи в Опекунский совет, оставляет себе, без ее ведома, и тратит на нелепую заграничную поездку, оправдываясь мнимою болезнью и страстью, от которой будто бы ему нужно бежать из Петербурга. Впоследствии сам называет этот поступок «безрассудным» – выражение, кажется, слишком снисходительное. «Чтобы отомстить вам и рассердить вас, я написал это», – пишет он матери по другому поводу.
Так – с одной стороны; а с другой – стоит вспомнить, как в самые страшные минуты жизни обращается он к матери с просьбой помолиться за него и верить в чудо молитвы, как в свою последнюю святыню и спасение, – чтобы почувствовать, чем для него была мать, и чтобы воздержаться от легких приговоров. Некоторые из его обращений к матери напоминают ужасный, душераздирающий вопль, которым кончаются «Записки сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына!.. Посмотри, как мучат они его!.. Ему нет места на свете! его гонят!.. Матушка, пожалей о своем бедном дитятке».






