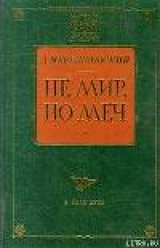
Текст книги "Не мир, но меч"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
«– Врешь ты хорошо… сказки говоришь приятно!» «– И все будут счастливы, – продолжает Великий Инквизитор, – все миллионы существ, кроме сотни тысяч, управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть»…
«– Ничего там не будет, ничего. Спокой – и больше ничего», – соглашается старец Лука с Великим Инквизитором.
«– …Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими; но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее гадкое тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их, для счастья их, на себя, мы станем пред тобой и скажем: „Суди нас, если можешь и смеешь!“ Знай, что я не боюсь тебя!»
«То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется».
«Мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна!»
С ним, то есть с «умным и страшным духом небытия».
Если бы кто-нибудь, после этого монолога, спросил Великого Инквизитора:
– Есть Бог?
Он молчал бы, «улыбаясь», а потом ответил бы, как старец Лука:
«Если веришь, – есть; если не веришь, – нет… А ты мне поверь. Спасибо скажешь!»
Но последней тайны своей Великий Инквизитор, так же как старец Лука, не открывает. Последняя тайна обоих в том, что они, подобно отцу своему, отцу лжи, который «человекоубийца был искони», хотят не спасти, а погубить мир. Оба они знают, что человек никогда ни для какого блаженства не откажется окончательно от свободы, никогда ни для какой утешительной лжи не отвергнет истину окончательно, никогда ни для каких золотых снов земли не забудет снов небесных окончательно. Оба они знают, что рано или поздно человек проснется от сна, затоскует в рабстве, проклянет ложь и увидит за ложью бездонную пустоту, в которую влечет его «отец лжи».
Тогда-то наступит та последняя скорбь, о которой сказано: «Будет скорбь, какой не было от начала мира»; тогда люди «будут издыхать от страха», потому что страшнее всякого страха – небытие; будут «проклинать имя Бога живого и звать смерть, но смерть убежит от них». И захотят уничтожить себя, уничтожить мир, только бы не видеть этого грозящего ничтожества, этой бездонной пустоты небытия.
Великий Инквизитор и старец Лука – не реальные лица, а фантастические призраки. Но тот, для кого христианство реально, увидит и за этими призраками нечто реальное, как бы математически точную проекцию в неизмеримые дали будущего.
Во всемирной истории проходят иногда тени грядущих событий. В нереальном, но, может быть, только пока еще нереальном, не воплотившемся лице, которое сквозит за этими двумя призрачно-прозрачными масками – Великим Инквизитором и старцем Лукою, – прошла, кажется, одна из таких теней, никем не узнанная, пророческая и как бы предостерегающая тень того, чего еще нет, но что будет, если не лживо слово самой Истины:
«Я пришел во имя Отца Моего, и вы Меня не принимаете; другой придет во имя свое, его примете».
Эти вещие призраки – первые вехи пути, на который уже вступило так называемое «христианское» человечество, – пути, ведущего от религии истины к религии лжи, от богочеловечества к человекобожеству, от Христа к антихристу.
III
«Здесь все слиняло – один голый человек остался», – определяет себе подобных босяк «На дне». Человечество, только человечество, голое человечество и есть босячество.
Чеховский интеллигент – тот же горьковский босяк, с которого уже «все слиняло», кроме некоторых умственных и нравственных условностей, внешних покровов, ветхих рубищ, едва прикрывающих последнюю наготу, последний стыд человеческий; горьковский босяк – тот же чеховский интеллигент, обнаженный и от этих последних покровов, совсем «голый человек».
Мы видели общую исходную точку интеллигента и босяка – одну и ту же догматику позитивизма.
«Существуют законы и силы… Человеку некуда податься… Ничего неизвестно… Тьма!» – утверждает горьковский босяк. «Обратитесь к точным знаниям… доверьтесь очевидности… дважды два есть четыре», – говорит чеховский интеллигент.
«– Теперь перед смертью меня интересует одна только наука, – признается умирающий старый профессор в „Скучной истории“. – Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна… Но я не виноват, что верю так, а не иначе… Судьба костного мозга интересует меня больше, чем конечная цель мироздания».
На вопрос о конечной цели мироздания наука отвечает: не знаю. Профессор всю жизнь довольствовался этим ответом и, ежели перед смертью почувствовал, что не может им довольствоваться, то сам не понимает, почему случилось так, никакого иного ответа не находит и не сомневается, что наука все, а не часть всего, точно так же, как познающий разум, источник науки, не все, а только часть всего существа человеческого.
Догматический позитивизм приводит босяка к столь же догматическому материализму в нравственности: «Брюхо в человеке главное дело. А как брюхо спокойно, значит, и душа жива. Всякое деяние человеческое от брюха происходит». «Волк прав». Эта единственная волчья правда босячества превратится у чеховской интеллигенции в материализм, реализм, дарвинизм или в какой-нибудь другой изм, но, в сущности, это будет все тот же босяцкий цинизм. Герой «Дуэли», зоолог фон Корен «хлопочет об улучшении человеческой породы» посредством естественного подбора и борьбы за существование, которые будто бы суть высшие законы не только животного, но и человеческого мира. «Есть сила, которая сильнее нас и нашей философии… Когда эта сила хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия… Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы… уничтожить их». «Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?» – «Несомненно». – «Но ведь сильные распяли Господа нашего Иисуса Христа!» Зоолог возражает на это довольно жалкими софизмами, стараясь доказать, что заповедь любви Христовой отнюдь не противоречит зоологическому закону борьбы, пожирания слабых сильными, так что можно подумать, будто бы Христос распят только для того, чтобы подтвердить единую спасающую истину дарвинизма. Такое «разумное христианство» не ветхое ли рубище, сквозь дыры которого зияет бесстыдная нагота человеческого, только человеческого разума, а за нею еще более бесстыдная, голая, босяцкая «волчья» правда?
«Мертвечина ты, стерва тухлая!» – отвечает у Горького босяк христианину. «Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний, это, конечно, учение Христа, – рассуждает чеховский интеллигент. – Эта проповедь любви ради любви, как искусства для искусства, если бы могла иметь силу, в конце концов, привела бы человечество к полному вымиранию, и таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле… Поэтому никогда не ставьте вопроса на так называемую христианскую почву».
Как относился сам Чехов к религии вообще и к христианству в частности?
По произведениям его можно только догадываться, хотя с очень большой вероятностью, что, подобно своему герою, Чехов видел в христианстве «одно из гуманитарных знаний», принимал в нем человеческую нравственность, а все остальное отвергал, как суеверие; но и в этом очищенном виде христианство представлялось ему столь сомнительным, что он сам, подобно зоологу фон Корену, предпочитал «никогда не ставить вопроса на так называемую христианскую почву». Как бы то ни было, тот факт, что христианство в произведениях Чехова почти умолчено, уже сам по себе значителен.
Мне пришлось бы ограничиться сказанным, если бы судьба не дала мне в руки двух документов чрезвычайной ценности для истории внутренних религиозных переживаний Чехова, которые он всегда скрывал ревниво и тщательно. Это два неизданных частных письма его к С. П. Дягилеву, редактору «Мира Искусства», чьей любезности я обязан разрешением привести здесь выдержки из этих писем. В одном из них от 12 июля 1903 года, то есть за год до смерти, Чехов пишет:
«Я давно растерял мою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».
Во втором, от 30 декабря 1902 года, по поводу современного религиозного движения в России, идущего от Вл. Соловьева и Достоевского, движения, которое выразилось отчасти, хотя далеко неполно, в Религиозно-философских собраниях и в журнале «Новый Путь»:
«Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит все дальше, что бы там не говорили и какие бы философско-религиозные общества не собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете, – само по себе, а вся современная культура – сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой никак нельзя. Теперешняя культура это – начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога; т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура – это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, – есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает».[5]5
Письма приводятся полностью.
[Закрыть]
30 декабря 1902.
Многоуважаемый
Сергей Павлович!
«Мир Искусства» со статьей о «Чайке» я получил, статью прочел – большое Вам спасибо. Когда я кончил эту статью, то мне опять захотелось написать пьесу, что, вероятно, я и сделаю после января.
Вы пишете, что мы говорили о серьезном религиозном движении в России. Мы говорили про движение не в России, а в интеллигенции. Про Россию я ничего не скажу, интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать: что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там не говорили и какие бы философско-религиозные общества не собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором Вы пишете, – само по себе, а вся современная культура – сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первой никак нельзя. Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога – т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура – это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, – есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает. Впрочем, история длинная, всего не напишешь в письме. Когда увидите г. Философова, то, пожалуйста, передайте ему мою глубокую благодарность. Поздравляю Вас с новым годом, желаю всего хорошего.
Преданный
А. Чехов.
12 июля 1903.
Многоуважаемый Сергей Павлович, я немного запаздываю ответом на Ваше письмо, так как получил его не в Наро-Фоминском, а в Ялте, куда приехал на этих днях и где пробуду, вероятно, до осени. Я долго думал, прочитав Ваше письмо, и как ни заманчиво Ваше предложение, или приглашение, все же я должен в конце концов ответить Вам не так, как хотелось бы и мне и Вам.
Быть редактором «Мира Искусства» я не могу, так как жить в Петербурге мне нельзя, а журнал не переедет для меня в Москву, редактировать же по почте и по телеграфу невозможно и иметь во мне только номинального редактора для журнала нет никакого расчета. Это – во-первых. Во-вторых, как картину пишет только один художник и речь говорит только один оратор, так и журнал редактируется только одним человеком. Конечно, я не критик и, пожалуй, критический отдел редактировал бы неважно, но с другой стороны, как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Д. С. и ценю его, и как человека, и как литературного деятеля, но ведь воз-то мы, если и повезем, то в разные стороны. Как бы ни было – ошибочно мое отношение к делу или нет, я всегда думал и теперь так уверен, что редактор должен быть один, только один, и что «Мир Искусства», в частности, должны редактировать только Вы одни. Таково мое мнение, и мне кажется, что я не изменю его.
Не сердитесь на меня, дорогой Сергей Павлович; мне кажется, что Вы, если бы проредактировали журнал еще лет пять, то согласились бы со мной. В журнале, как в картине или поэме, должно быть одно лицо и должна чувствоваться одна воля. Это и было до сих пор в «Мире Искусства», и это было хорошо И надо бы держаться этого.
Желаю Вам всего хорошего, крепко жму руку. В Ялте прохладно, или, по крайней мере, не жарко, я торжествую. Низко Вам кланяюсь.
Ваш А. Чехов.
Достоевский верил в истину учения Христова; эта истина была для него, конечно, совсем иного порядка, но не меньшей, а большей достоверности, чем «дважды два есть четыре». Вера Достоевского кажется Чехову смутным «угадыванием», не потому ли, что мир внутреннего мистического опыта, который Достоевскому так близок, почти незнаком Чехову? Этот внутренний религиозный опыт, может быть, объективно ложен, но отнюдь не менее точен и ясен, чем самые точные и ясные математические истины. Разумеется, для тех, кто незнаком с интегральным и дифференциальным исчислением, формулы высшей математики кажутся менее ясными, чем дважды два четыре; но из этого не следует, что они менее точны и достоверны. Во всяком случае, возвращаться от высшей математики к таблице умножения в поисках за общедоступной ясностью – значит, идти не вперед, а назад, не к великому будущему, а к малому прошлому. Противополагая недостаточно, будто бы ясной религиозной истине, в которую верил Достоевский, но которая была открыта людям не Достоевским, а Христом, другую, еще не известную истину «настоящего Бога», которая будет открыта, может быть, через десятки тысяч лет и которая сведет все тайны Божии, доныне казавшиеся людям страшными и неисповедимыми, к общедоступной ясности таблицы умножения, – Чехов тем самым подписывает смертный приговор не только современному религиозному движению в России, но и всему христианству, всей религиозной жизни человечества, как вымирающему «пережитку», обломку старых, никому ненужных суеверий; порывает всякую живую связь между прошлым и будущим всемирной культуры. Ежели так, то не только современное религиозное движение в России, но и все христианство, «само по себе», а «современная культура сама по себе». Они враги на жизнь и смерть. Пусть Чехов и не сделал этого вывода; все же ясно, что он не мог его избегнуть.
В рассказе «Студент», в глухой деревне у пылающего костра, в ночь на Страстную Пятницу простые люди тронуты до слез рассказом студента о том, что происходило девятнадцать веков назад в точно такую же ночь, у такого же костра, во дворе первосвященника Каиафы. «То, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, – думает студент, – имеет отношение к настоящему, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Прошлое связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой… Правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле»…
С одной стороны, христианство – только «пережиток того, что отживает и уже почти отжило», обломок старины, не имеющий никакого отношения к будущему; с другой – христианство есть вечная цепь, соединяющая прошлое с будущим, в христианстве – «вечная правда и красота, составляющие главное в человеческой жизни и вообще на земле». Как выйти из этого противоречия? Чехов не только не вышел из него, но и не вошел в него, как следует, по крайней мере, своим сознанием не вошел, а прошел мимо, не задумываясь. Он говорил христианству то окончательное да, то окончательное нет с одинаковой опрометчивой легкостью. И русская интеллигенция тоже не задумалась.
Кажется, в жизни Чехова, так же, впрочем, как в жизни каждого человека, было мгновение, когда он встретился лицом к лицу со Христом и мог бы подойти к нему; но что-то испугало, оттолкнуло Чехова – не вечное ли смешение религии с реакцией, подозрение, что в христианстве заключено отрицание человеческой свободы и человеческого разума даже до таблицы умножения? И Чехов прошел мимо Христа, не оглядываясь и даже потом нарочно стараясь не смотреть в ту сторону, где Христос. А если бы посмотрел, то увидел бы, что и «десятитысячелетиям» не так-то легко будет отделаться от «пережитков того, что произошло во дворе первосвященника или в саду Гефсиманском, где сильнейший из людей скорбел до кровавого пота, молясь: Да идет чаша сия мимо Меня, впрочем не Моя, но Твоя да будет воля, – и этою молитвою разрешал самую страшную мировую антиномию божественной необходимости, по которой смерть есть смерть, как „дважды два есть четыре“, и божественной свободой, которая требует, чтобы смерть была не смертью, а воскресением, несмотря на то, что дважды два есть четыре».
«Ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, а начало смерти», – устами Подпольного человечка возражает Достоевский Чехову. «По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Я согласен, что дважды два превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два пять премилая иногда вещица».
Это, конечно, – безумие, то самое безумие, за которое Чехов невзлюбил Достоевского. Но неужели и сам Чехов, хоть изредка, например, в ту минуту, когда, умирая в пустоте безверия, готов был, кажется, воскликнуть с одним из своих героев: «Хоть бы удариться в мистицизм, хоть бы кусочек какой-нибудь веры!» – не чувствовал соблазна этого безумия? Неужели никогда не видел он, что дважды два четыре, возведенное на степень религии, – вовсе не путь, а стена, о которую человечество бьется головой и будет биться, пока не разобьет или эту стену, или собственную голову – и хорошо делает, потому что человечество только до тех пор и достойно этого имени, пока свобода для него дороже головы? И неужели, наконец, Чехов не понял бы, при всем своем благоразумии, безумия тех, кто, после десятитысячелетий культурной работы, отыскав «настоящего Бога», в котором не оказалось бы ничего больше, чем дважды два четыре, возмутились бы и пожелали отправить такого Бога к черту?
Чехова разрывали на части всевозможные политические и литературные лагери: делали его позитивистом, социалистом, марксистом, народником, декадентом и даже мистиком; последняя попытка неудачнее всех остальных. Ежели у Чехова и была жажда религии, то жажда эта осталась навсегда неутоленною; а что касается доподлинных религиозных переживаний его, то можно сказать о нем то же, что он говорит об одном из своих героев:
«Небольшой кусочек религиозного чувства теплился в груди его наравне с другими нянюшкиными сказками».
Или то, что он сам о себе говорит:
«Я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего».
И в этом, впрочем, как во всем остальном, Чехов истинный представитель религиозного сознания русской интеллигенции.
Решив, что «небо пусто», а «с земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь», чеховский интеллигент, так же как горьковский босяк, противопоставляет христианству, которое кажется ему религией «пустого неба», религию полной, исполненной земли, религию прогресса – земного рая, земного неба.
«Пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести, триста лет, и какая будет жизнь, какая жизнь!» Вместе с пронзительно унылою свирелью Луки Бедного, Антона Бедного – песнью о кончине мира, о всеобщей погибели – эта песнь о бесконечности мира, о всеобщем спасении, песнь грядущего рая земного, грустно веселая, как призывный крик журавлей, – второй, всегда сопутствующий первому и ему противоречащий, Leitmotiv чеховской музыки. «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней». Это однообразное, похожее не то на молитву, не то на заклятье: «через двести, триста лет» повторяется упорно и уныло, почти так же уныло, как две-три ноты плачущей свирели.
«Через двести, триста, наконец, тысячу лет, – дело не в сроке, – настанет новая счастливая жизнь»… Это священное исповедание, этот новый «ислам» твердят почти все герои Чехова, которых он любит, твердит он сам. «Как часто, – вспоминает один из приятелей Чехова, – говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами: „Знаете ли, через триста, четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна… Как хороша будет жизнь через триста лет!“»
Казалось бы, на этом и успокоиться. Все ясно, все просто; никаких сомнений, никаких тайн. «Через двести, триста лет» наступит золотой век на земле, а пока надо ждать и надеяться, да идти навстречу этому восходящему солнцу прогресса.
Казалось бы, так. А между тем Чехов не только на этом не успокаивается, но с этого-то и начинается вся его трагедия; тут-то и возникают для него самые неразрешимые сомнения, самые неразгаданные загадки. Тут кончается внешний, мнимый, все понимающий, всем понятный – и выступает подлинный, «подпольный», ничего не понимающий и никому не понятный Чехов.
«– Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни… Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь полна сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя.
– Что же, собственно, вам страшно?
– Мне все страшно… Мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому все это нужно… Никого и ничего я не понимаю… Если вы понимаете что-нибудь, то… поздравляю вас. У меня темно в глазах».
Не тот же ли это самый страх у чеховского интеллигента, что у горьковского босяка, который признается тотчас после торжественного гимна человечеству:
«– Я, брат, боюсь иногда… Понимаешь? Трушу… Потому, что же дальше?.. Все как во сне… Зачем я родился?»
На вопрос обоих – один научно-позитивный ответ: «Ничего неизвестно. Тьма!» Ответ, равняющий жизнь человека и всего человечества с жизнью козявки, «полной сплошного ужаса». Жизнь кажется ловушкой, из которой нет выхода; природа – «темной, безгранично-глубокой и холодной ямой, из которой не выбраться».
«Небо пусто»; но нельзя человеку не видеть над собою этого пустого неба и нельзя не чувствовать своего бесконечного одиночества в этой бесконечной пустоте. Бывшая некогда в религии сила притяжения «к мирам иным», сила мистической радости не исчезает с исчезновением религии, а превращается в равную и противоположную силу отталкивания, силу мистического ужаса.
«Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, – говорит Чехов, – то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены… Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной».
Ужасна, потому что непонятна, жизнь; еще ужаснее, потому что еще непонятнее, смерть.
Вопрос о бессмертии, так же как вопрос о Боге, – одна из главных тем русской литературы от Лермонтова до Л. Толстого и Достоевского. Но как бы ни углублялся этот вопрос, как бы ни колебалось его решение между да и нет, – все же вопрос остается вопросом. Чехов первый на него ответил окончательным и бесповоротным нет, поставив средоточием душевной трагедии всех своих героев мысль о смерти, как об уничтожении.
«– А вы не верите в бессмертие души? – спрашивает уездного доктора уездный почтмейстер.
– Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.
– Признаться, и я сомневаюсь».
Как просто! Но под этой простотой весь ужас, на какой способна душа человеческая.
«О, зачем человек не бессмертен? – думает тот же доктор, оставшись ночью один. – Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корою а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом, и потом, словно в насмешку, превращать его в глину».
И доктор сходит с ума от этих простых мыслей.
«Скоро меня возьмет смерть», – думает старый профессор, знаменитый ученый, герой «Скучной истории». И все великие научные истины кажутся ему ничтожными перед этой простой истиной: «скоро меня возьмет смерть».
Он продолжает верить, что «наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека и что только ею одною человек победит природу и себя»… Но вера эта не спасает его от страха смерти. Вера в науку сама по себе, а мысль о смерти сама по себе. «Если кто философствует, это значит, что он не понимает». – «Никакая философия не может примирить меня со смертью, и я смотрю на нее, просто как на погибель». Среди лекции, в то самое время, когда он проповедует бессмертное величие и торжество науки, – «к горлу вдруг подступают слезы», и он чувствует «страстное истерическое желание протянуть вперед руки… и прокричать громким голосом», что его, «знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни». – «И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу». – «Ужас у меня безотчетный, животный… такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево».
Он смутно сознает: «Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам… Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Или раньше я был слеп?» Кажется, еще шаг сознания – и он поймет все, поймет, что действительно был слеп, и слепа была его вера в науку. Какая же эта вера, с которой можно жить, но нельзя умереть, которая исчезает от мысли о смерти, как лед от огня? Но поздно. Сознание его так и не сделает этого шага. Прежде не видел он истины, потому что был слеп, а теперь слеп, потому что увидел истину и слишком внезапный свет ее ослепил его. И он уже, видя, не видит и ничего не может сознать, а может только дрожать, как затравленный зверь, и кричать последним отчаянным криком: «Я утопаю… бегу… прошу помощи!» Но никто и ничто ему не поможет – меньше всего религия науки, человеческого, только человеческого разума, религия прогресса – здешней вечности, смертного бессмертия.
Теперь понятно, для чего нужна эта религия: она служит чем-то вроде ширм от страшного света истины, «белого света смерти». Но старинные ширмы из пестрой тафтицы с веселеньким узорцем во вкусе XVIII века, изображающим пастораль золотого века, эти вольтеровские ширмы, за коими так мирно почивали наши дедушки и бабушки, – давно износились, продырявились, и сквозь все дыры светит свет белого дня; спящие просыпаются и уже не могут заснуть и снова увидеть золотой сон прогресса.
«– Воссияет заря новой жизни, восторжествует правда! – бредят спящие.
– Я не нахожу особенной причины радоваться, – отвечают проснувшиеся. – Правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же, в конце концов, вас заколотят в гроб и бросят в яму.
– А бессмертие?
– Э, полноте!
– Вы не верите, ну, а я верю… Если нет бессмертия, то его, рано или поздно, изобретет великий человеческий ум».
На это изобретенное бессмертие проснувшийся не отвечает даже: «Э, полноте», – а только снисходительно улыбается и спрашивает: «Вы изволили где-нибудь получить образование?»
«Прогресс – алхимия», – как-то неосторожно признается один из чеховских героев, и кажется, это – искреннейшее признание самого Чехова. Во всяком случае, вера в научное бессмертие ничем не отличается от веры в жизненный эликсир или философский камень средневековых алхимиков. Это – ситцевая заплата XX века на шелковых ширмах XVIII. Но ситец дерет шелк, и дыра еще больше. Впрочем, как ни чини эти ширмы, а, рано или поздно, придется их сдать в лавку старьевщика, вместе с другим дедушкиным хламом. Да и рассвело уже так, что ни за какими ширмами, ни старыми, ни новыми, от света не спрячешься – просыпаться пора.
«Я хотел бы проснуться через сто лет, – мечтает умирающий профессор в „Скучной истории“, – и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой… Дальше что? – А дальше ничего».
«– Я, брат, иногда боюсь… Понимаешь? Трушу… Потому, что же дальше?»
И чеховский интеллигент, знаменитый ученый, на высоте всех своих знаний, оказывается перед лицом смерти таким же «голым человеком», как босяк «на дне».
«Если вообразить, – думает сходящий с ума доктор „Палаты № 6“, – если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все – и культура и нравственный закон – пропадет и даже лопухом не порастет».
И с умным доктором, и с великим ученым согласен пастух Лука Бедный, который поет на своей унылой свирели о конце мира, о всеобщей погибели. Он тоже не сомневается в прогрессе, в движении куда-то вперед, но сомневается, что впереди – спасение, а не погибель:






