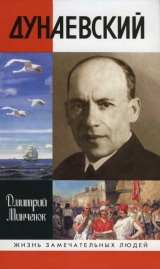
Текст книги "Дунаевский — красный Моцарт"
Автор книги: Дмитрий Минченок
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
Летом он отправляет свою гордую дворянку Бобочку в её "родовое имение" – Андреевку. Оставшись один, композитор тут же попадает в "историю". Стандартные мужские объяснения – "увлёкся", "оказался жертвой". Да ещё и сам рассказал обо всём Клаве – сестре Зинаиды Сергеевны.
Интрига запутана, да дело вовсе и не в ней, а только в силе душевных переживаний. В душевной смуте, которая унесла покой. Говорить об этом было бы вовсе ни к чему, если бы всё это не стало тем "сором", из которого рождались волшебные мелодии. Любая душевная травма не остаётся незамеченной вдохновением, потому и приходится об этом вспоминать.
Бобочке донесли, что, оставшись один, Дунаевский увлекается актрисой Лидией Петкер, женой актёра Павла Поля, работавшей в Театре сатиры. Всё время вместе: днём – работа, вечером – отдых. И при этом Дунаевский – влюбчивый, эмоциональный – один. В какой-то момент он поддался миражу, очарованию, а затем имел неосторожность рассказать об этом Клаве. В ответ та написала обо всём Зинаиде в Андреевку. Бобочка прислала гневное письмо Исааку Осиповичу, требуя объяснений. Дунаевский срочно пишет ей "покаянное письмо":
"Бывают, конечно, всякие настроения, и им, пожалуй, иногда следует давать выход наружу. Но это понятно лишь тогда, когда видишь друг друга, когда можно немедленно возразить, опровергнуть ненужные слова. Ты мне уже писала письмо, безусловно, под дурным настроением и упустила из виду, что должно пройти не менее восьми дней, чтобы до тебя долетели мои ответные слова. Может быть, тебе доставляет удовольствие вариться в глупых подозрениях. Про себя этого не скажу. Так вот, моя родная, несмотря на твои все письма, моя любимая, единственная, видимо, тебя очень легко столкнуть в яму недоверия и подозрения. Это только лишний раз доказывает, что ты не очень слепо мне веришь. Да и как тут верить человеку, у которого такое ужасное прошлое, который даже при жене целые дни, вечера пропадает у женщин. Легко вообразить, каков он в отсутствие жены.
Лёгкая "информация" досужих людей плюс собственное воображение дополняют всю картину жизни современного "вдовца". А вот ударить бы этих информаторов по языку, да так, чтобы у них раз и навсегда пропала охота втираться в чужие отношения. К сожалению моему и к удивлению, на этот раз информатором является твоя собственная сестра, которая единственно с моих же слов могла тебе рассказать о моём заместительстве Поля у Петкер. Видимо, долгое жительство в общежитии Эрмитажа наложило сильный отпечаток на её натуру. И она пошла по стопам мамы Нади, а я считаю до этих пор, что она не имеет права так отвечать на твои заботы о ней. Она должна была немного пощадить твоё самочувствие и нервы. Вряд ли в основе её сплетен могут лежать какие-либо благородные побуждения.
Мне даже смешно говорить всерьёз о Петкер. Ещё смешнее в какой-либо степени опровергать твои слова. Не это грустно, а грустно то, что ты не веришь мне. Что четырёхлетняя жизнь со мной не научила тебя находить во мне то, что, как мне казалось, было очевидно. А очевидно вот что…"
И тут он произносит ключевую фразу, определившую их отношения, несмотря на все душевные смуты, постигшие обоих.
"Какая сотня каких женщин может заменить мне один твой золотой волос? Или ты всерьёз меня считаешь дураком, способным променять мою жизнь с тобой на какой-то мираж? Во-первых, не наступила ещё пора разочарований, неудовлетворённости. Во-вторых, прошла уже пора безрассудств и мальчишества, когда я идеализировал мои встречи с людьми. Я люблю тебя настоящей крепкой любовью. Я привязан к тебе всем своим существом, я удовлетворён эстетически. И это всё даёт мне непоборимую веру в тебя. И думаю, что и вера в тебя объясняется твоей натурой, твоей честностью".
Всё, что его толкнуло на эту интрижку, Исаак Осипович объясняет очень убедительно. "Есть во мне и жизнерадостность, и любовь к обществу, и, естественно, доза молодой ветрености. Ну и какое это имеет значение, что ж ужасного или неестественного в том, что одинокий мужчина иначе проводит своё время, чем в присутствии жены. Надо же это понимать. Не вульгарно и не как радость по поводу отъезда жены: "фу, славу богу, уехала". Твои слова о том, что с каждым годом нам труднее становится расставаться, я целиком разделяю и подтверждением моих слов так считаю, что у меня ещё довольно много и совести, и чести. И вот в том ответе, который я держу перед собой, я должен признать, что твоё письмо очень поспешно по содержанию и к тому же очень несправедливо и обидно. А вот если мы коснёмся кое-каких твоих поступков, то, хоть ты и поверишь тому, что не писал я вовсе, не потому, что любовь к Петкер забила все мои помыслы, а по другим причинам".
Далее он размышляет по поводу женщин и их верности. "Известно с давних времён, что честность женщины очень условное понятие. Дело здесь в том, что я люблю. И если бы ко мне подошёл кто-нибудь и сказал, что моя жена в Андреевке с кем-то путается, я бы на это разочаровался несколько иначе, чем ты.
Скажи, пожалуйста, когда ты приехала в Андреевку, могла мне написать хоть бы о том, что благополучно доехала. Когда наступило 15 июля, мог ли я надеяться, что любящая жена поздравит меня телеграммой или хотя бы вежливо ответит мне на моё поздравление. Я был очень и очень обижен и огорчён. Я уже тут шутил, что ты меня бросила, но отнюдь не думал, что ты меня разлюбила или сошлась с другим. Вот здесь наши претензии друг к другу: и пойми, что ты повинна в том самом невнимании, в каком ты так нередко любишь меня упрекать. Очень всё это нехорошо и неприятно. А теперь о другом. Ты ошибаешься, когда думаешь, что я не собирался в Андреевку".
Это было странное письмо. С одной стороны, покаяние, а с другой – объяснение в любви. Вскоре Дунаевский поехал в Андреевку. У Евгения Исааковича есть фотография, где отец сидит на телеге рядом с извозчиком. Этот приезд многое изменил:
"Твоё письмо и другие обстоятельства вынудят меня изменить планы. Оперетта затягивается благодаря не сдаче изменённого текста, согласно постановлениям художественного совета. Я уеду и буду кончать её в поездке. Собираюсь ехать на Кавказ, в Теберду. На днях окончательно определил свои планы. Конечно, без тебя не поеду, и так и знай, что, если ты не поедешь со мной, я из Москвы не двинусь. Для этого ты должна приехать в Москву, отсюда мы уже вместе и поедем. Имею заказы из Мюзик-холла, театра МГСПС и на балет для Большого театра, предложенного мне автором "Красного мака", художником Курилко. Я сегодня был у него на даче в Перовке, и мы обо всём сговорились. Я страшно рад этому, так как в случае удачи это даст нам возможность безбедно жить. Работы уйма, если ты действительно хочешь, чтобы я отдохнул, ты поедешь со мной.
Жду твоего письма. Крепко-крепко целую тебя и люблю, мою единственную жёнушку Бобу. Если в ближайшие дни выяснишь свои дела на месяц, немедленно телеграфируй о твоём приезде. Прошу тебя беречь себя, не волноваться попусту и ещё крепче-крепче любить твоего верного Ослика".
Размышляя сегодня о причинах скоропалительного отъезда Дунаевского из Москвы, отдельные исследователи считают, что не последнюю роль в согласии покинуть Москву сыграло желание разрешить душевные проблемы, разногласия с собственным "я".
Звонок из Ленинграда. Приглашают работать в новый театр. Мюзик-холл – что это значит? Оставить все победы и поражения в Москве, забыть все сердечные дела и махнуть в Ленинград, город-мечту, где царит звонкая имперская тишина… По всей видимости, это было действительно неожиданное предложение, потому что ещё в августе 1929 года об отъезде в Ленинград в разговоре (письменном) с женой – ни слова. Дунаевский откликнулся на предложение переехать. Это более жестокая версия, но более верная. Литературная версия тоже существовала.
Эпопея в Москве закончилась 29 ноября 1929 года премьерой "Полярных страстей" уже без Дунаевского. Он увидел её позже. Получился весёлый, даже чересчур весёлый спектакль. Григорий Ярон вспоминал, что весьма тоненькая сюжетная ниточка – борьба Инки за право на образование и её роман с Юлаем – непрерывно разрывалась различными вставными номерами. Получилось ревю, где удачным сатирическим моментом явились сцены с высланными "нэпманами". Фокстрот и танго, гениальные мелодии… "Москва – это город, Москва – это вещь", – грассируя, пели актёры. Немного подекадентски, зато стильно. Фокстрот был стилизован под классическую арию индийского гостя "Не счесть алмазов в каменных пещерах"…
Полярные страсти, холод льдов, замораживающая атмосфера… Переезд всё сместил. Что-то в чувствах наслоилось, что-то надо было исправлять, что-то надо было выковывать заново. Но весь этот период прошёл под знаком любви к Зинаиде Сергеевне.
Известность Дунаевского поползла вверх, как столбик ртути в термометре. У спектакля была хорошая критика.
ДЖАЗ ДЛЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЛУХА
В мае 1927 года в Ленинграде состоялось закрытое партийное совещание по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП (б). В Наркомпросе давно собирались создать платформу для выращивания пролетарских «смешных» кадров. Но отнеслись к этому делу исключительно серьёзно. Одним из главных стал вопрос о контроле за деятелями культуры. Посчитали, что академических, ставших известными ещё при царе художников можно привлекать только деньгами и страхом. Хотя для идеологии социализма понятия «денег» как решающего фактора заинтересованности не существовало. Тем не менее на том историческом заседании товарищ Кнорин говорил: "Дело заключается в том, что вопросы театральной жизни гораздо сложнее, чем вопросы литературы. Партия взяла курс на управление театром. Внешняя обстановка театральной работы находится в наших руках. И мы будем на неё влиять! Мы будем влиять на Станиславского, Чехова (имелся в виду племянник Антона Павловича Михаил Чехов. – Д. М.) и других. Мы заставим Станиславского руководить государственным театром при договоре, заключённом в ЦК Рабис, при государственной субсидии, это имеет большое значение. Над Сологубом у нас нет таких средств воздействия. Его творчество не находится под таким влиянием, и это плохо". Луначарский и его единомышленники предлагали влиять деньгами, но все большую власть приобретали те, кто предпочитал использовать страх. За ними маячила пока ещё не слишком заметная, но всё более явная тень Сталина.
Одним из самых сложных был вопрос стиля: какой должна быть пролетарская агитка? В закрытой стенограмме совещания, разосланной по местам, сообщалось о новой методологии "пролетарского смеха", разработанной товарищем Кнориным. Фрагменты из его выступления на закрытом совещании работников искусства и партийных руководителей спустя шестьдесят лет воспринимаются памятниками "марсианского" стиля. То совещание было довольно экзотическим. Товарищ Кнорин срывающимся из-за многочасовой речи голосом вещал: "Долой сухие агитки! Они наше зло".
Агитки конца двадцатых – начала тридцатых годов были нелепым словообразовательным замесом, разбитым на пару голосов. В начале тридцатых годов мастерами РАПМа был создан гениальный сленг, которому теперь можно только позавидовать. Фразы про необходимые "очки политичности", которые помогают разглядеть "зонтик чистого искусства", который надо нещадно отбирать, пугали зрителей. "Зонтиком чистого искусства" именовали Станиславского и его команду. "Очки политичности" обозначали курсы элементарной политграмотности. Метафоры были умопомрачительные. Творчество таких театральных спецов, как Станиславский, Немирович, Сумбатов, называлось не иначе как "прогулкой по монархическому парку". Александра Островского с его пьесами пролеткультовцы именовали "оплотом старорежимности" и предостерегали трудящихся от знакомства с ним.
На место классиков прочили новых драматургов "от станка". Пять товарищей из Омска собрались вместе в бывшем помещении оперного театра и за восемь часов без перерыва, "не отходя от станка", написали коммунистическую пьесу. Главным героем выступал рабочий с характеристикой "очень честный человек", который сначала спивался под влиянием своей жены. Потом он подвергался разложению под звуки фокстрота. А в заключение на сцене появлялся чёрт, который утаскивал его на тот свет. Когда их похвалили, они приняли обязательство написать ещё четыре такие же агитки. Их пример был очень популярным в среде профессиональных идеологов.
В качестве негативных героев выбирали отъявленных пьяниц и хулиганов. Вот агитка, рекомендованная для празднования 8 Марта. Рекомендованный жанр – "живая газета". Главный герой – Ванька-Хлюст, хулиган, бабник и пьяница. Текст, который он произносит: "На какой мне рожон тяжесть брачную несть, ведь достаточно жён у приятелей есть". Рапмовские драматурги соревновались в придумывании текстов. Сохранились многие перлы того творчества:
У Петра на сердце клякса – милка осрамилася,
Не дошли ещё до загса – двойней разродилася.
Наиболее дальновидные деятели партии пытались исправить положение. Эта борьба напоминала детектив, до которого голливудским сценаристам надо было ещё расти и расти. «Мягкий как воск» Бухарин, теряя власть политическую, ещё имел довольно сильное идеологическое влияние. Перед Сталиным стояла совсем другая задача – ему было необходимо поставить под контроль все идеологические группировки, подчиняющиеся его противникам. С этой целью началось «закручивание гаек» во всех сферах. В конце двадцатых в газетах стали появляться сообщения о разбушевавшейся стихии буржуазной пошлости, чуждой советскому зрителю. Кто-то придумал лозунг «В бой против похабщины». Всё это совпало с началом первого устрашающего судебного чистилища – шахтинского дела. В мае 1928 года пятьдесят восемь донбасских инженеров предстали перед судом по обвинению во вредительстве и саботаже против молодой Республики Советов.
"Опытным участком по контролю за смехом" сделали город Ильича, где было особенно сильно влияние оппозиции – Троцкого и Зиновьева. Ленинград к тому времени был Меккой искусств. Там вспыхивали и довольно скоро угасали различные художественные объединения и группировки. Там чудили Хармс с Вагиновым и Введенским. Город был большой грядкой, на которой произрастали различные "измы". Пытались удержать неумолимо катившийся в пропасть милый Серебряный век с помощью изящных преданий, организуя литературные вечера, кружки, объединения, вовсю пользуясь теми уловками, которыми пользовались ещё в прошлом веке, и не знали, что все эти литературные игры с каждым годом становятся всё опаснее. В Москве дрались за власть, в Ленинграде пожинали плоды этой власти.
Говорили, что одним из авторов идеи пролетарского мюзик-холла был Бухарин, а до отставки с поста наркома просвещения – Анатолий Луначарский. В результате Сталин посчитал, что это вражеская акция. И всё же весной 1928 года Ленинградский обком партии санкционировал открытие в городе нового театра. Мюзик-холл с его агитками, которые на профессиональном языке назывались обозрениями, приравняли к цирковому искусству и передали в ведение Центрального управления госцирками. В резолюции закрытого заседания обкома партии указывалось: "Нужно принять все меры по созданию сатирического искусства для рабочих и крестьян".
Билеты приказали распространять преимущественно среди тех, кто в мюзик-холл ходить не хотел: среди рабочих. Им специально предоставляли сорокапятипроцентные скидки. Шестьдесят процентов всех билетов распространяли в рабочих организациях. Там билеты оседали в профкомовских сейфах. Зато по кассе проходил аншлаг, а зал был пустой. И в отчётах публика значилась в основном пролетарской. Это называлось её "оздоровлением", поскольку главными зрителями мюзик-холлов были нэпманы. Посоветовавшись со специалистами – Таировым и Мейерхольдом, решили, что надо продвигать в массы жанр обозрений. Сатирические обозрения, по мнению начальника культуры Платона Михайловича Керженцева, были лучшим средством против пропаганды и распространения капитулянтства и комчванства.
Существует ещё одна версия о том, как относились большевики к юмору, рассказанная Утёсовым. После одного из концертов его подозвали к Керженцеву:
" – Товарищ Утёсов, можно вас на минуточку? У нас тут спор с Платоном Михайловичем.
Я подошёл, меня пригласили сесть.
– О чём спор?
– Да вот, Платон Михайлович не любит эстраду.
– Как же так, Платон Михайлович, вы нами руководите и нас же не любите. Странное положение.
– А я и не скрываю, что считаю эстраду третьим сортом искусства.
– Думаю, что это взгляд неверный.
– Да нет, думаю, что это взгляд нормальный.
– А ведь Владимир Ильич был другого мнения об эстраде, – не скрывая гордости, сказал Утёсов.
Керженцев, наклонившись ко мне, спросил с угрожающими нотками в голосе:
– Откуда вам известно мнение Владимира Ильича по этому поводу?
– Ну как же, в воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской написано по этому поводу, что в Париже они часто ездили на Монмартр слушать Монтегюса (популярный французский комик. – Д. М.). Я думаю, вы знаете, кто такой Монтегюс?
Керженцев нашёлся с усмешкой:
– Да, но вы же не Монтегюс.
– Но и вы не Ленин, Платон Михайлович, – сказал я самым вежливым тоном, попрощался и ушёл".
Создали мюзик-холл побольшевистски – "на чужих костях", отобрав помещение у оперного театра, располагавшегося в бывшем Народном доме. Существовавшую в нём труппу оперных певцов распустили. Кстати, в этой труппе были два лилипута – наверное, единственные в мире оперные певцы. Им органично предложили перейти в мюзик-холл и даже выдали пайки.
Директором нового театра был назначен Даниил Яковлевич Грач, человек известный в театральных кругах, большой любитель женщин и веселья, к тому же чрезвычайно самолюбивый. Но кто в искусстве не без греха? Он был замечательным примером человека, который свою любовь к жизни умеет превращать в любовь к работе. Для контроля над репертуаром создали художественно-политический совет. В худсовет нового театра с решающим правом голоса пригласили Леонида Утёсова. Его путь к тому времени представлялся стороннему наблюдателю чрезвычайно извилистым и тернистым, несмотря на славу. Он мог петь в оперетте и делал это неплохо – но не стал. Был неплохим хоровым дирижёром – и не смог. Слишком любил джаз. Всё, что было устаревшим, казалось ему скучным и неинтересным, как разговоры о длине юбок. В конце двадцатых годов, когда лозунг о всеобщей коллективизации уступил место лозунгу "Кадры решают всё", Утёсов становится одним из нужных и необходимых советской эстраде кадров.
Дунаевский писал, что "театр возник при почти полном отсутствии репертуара для такого театра, а вследствие позднего времени организации не могли привлечь достаточно квалифицированных актёрских и режиссёрских кадров. Нужно было всё начинать заново, объединять вокруг театра драматургические силы, которые по прежней своей работе зарекомендовали себя как мастера малых драматических форм. Нужно было вообще заново пересмотреть позиции театра, который принципиально должен был отличаться от дореволюционного. Наконец, вследствие новизны дела театр должен был научиться серьёзно изучать зрителя, определять его вкусовые ощущения и правильное репертуарное направление".
Идеологическая машина только ещё настраивалась и не всем событиям могла дать нужную характеристику. Например, почти безыдейно прошёл осенью 1927 года шахматный матч между Алёхиным и Капабланкой, закончившийся победой Алёхина. В этих условиях из Ленинграда могла получиться "теплица джаза". В разгар пролетарских чисток и сбора взносов в общество молодых авиаторов Осоавиахима, роста ассоциаций пролетарских писателей, музыкантов, художников и создания уникального социалистического "новояза" Утёсов нашёл необходимую ему атмосферу, в которой могли прижиться его мечты о новой советской музыке. И помочь в этом ему мог только Дунаевский – один из создателей новых мифов.
Утёсов интуитивно понимал – "чтобы дать джазу прописку, надо поженить его на советских правилах". "Западные джазы у нас не очень прививаются", – говорил Утёсов Дунаевскому как более опытный в общении с власть имущими. Можно сослаться на закон живописи, чтобы объяснить неприязнь большевиков к джазу – цвет "музыки чёрных" плохо смешивался с красным. Тем не менее музыканты из числа наиболее преданных этой новейшей музыкальной гармонии тихонько "лабали", "диссонировали", "скрипели" новой гармонией по ресторанчикам и полуподвальным кафе, недодушенным со времён расцвета нэпа.
Утёсов с присущей ему энергией и уверенностью неофита принялся за организацию первого в Ленинграде джазового коллектива. Джаз был его "станцией". Ехать дальше ему не хотелось. "Пора было слезать и распаковывать чемоданы", как тогда говорили люди с одесским чувством трагического.
"Если вы хотите, чтобы джаз не пошёл на самотёк, уступите ему дорогу", – шутил Утёсов, чувствуя, что старый Питер на короткий миг становится филиалом Одессы. Даниил Грач, который получил от Ленсовета разрешение создать "смешной театр", был человеком расторопным, понимающим, чего "хочут" художники. Он распустил среди актёров слух, что в новом театре будут очень много платить. Одними из первых на эту удочку попались молодые артисты, в проекции уже народные: Николай Черкасов и Борис Чирков.
Сам Утёсов рассчитывал на свою популярность и приятельские отношения со многими видными функционерами, например с тем же товарищем Керженцевым. Он говорил афоризмами, предлагая разные пути проталкивания джаза. "Чтобы джаз был у нас, его нужно повернуть в нужном направлении. Есть только одно направление, которое всем нравится, – это когда вкусно". То, что в среде учёных людей называлось синтезом, Утёсов называл винегретом.
Пожалуй, никто из этих милых и самоотверженных людей в то время не знал, что стояло за таким новым понятием, как советский смех, одним из создателей которого стал Исаак Дунаевский. Смех "создавали" интуитивно, пользуясь общими кухнями, коммунальными условиями – как дрожжами, на которых вырастают смешные истории. И при этом хотели, чтобы на продукции красовался значок: сделано в СССР. Джаз должен стать советским, не важно, что такого ещё не было. В конце концов, опера тоже сначала была только итальянской, пока её не растащили по всей Европе.
Начиналось всё полусерьёзно. Леониду Утёсову требовались единомышленники, с которыми можно было залезать на музыкальный бронепоезд и лететь вперёд без остановки. Хорошо бы собрать таких, которые уже интуитивно чувствовали джазовую гармонию. К тому времени выбор таких музыкантов был чрезвычайно ограничен. Официально в Москве джазом занимались только Александр Цфасман с командой, а в Ленинграде – Утёсов без команды. Где можно было найти остальных? Если в других городах и имелись мастера-музыканты, то о них ничего не знали. В Ленинградской филармонии Утёсову удалось уговорить одного из замечательнейших в то время трубачей – Якова Скоморовского – бросить к чертям филармонию и заняться авантюрой вместе с ним. Скоморовский согласился.
Это была большая удача, потому что среди музыкантов он имел безграничные знакомства. Он знал их наперечёт, как цыган краденых лошадей. Из разных театральных углов Ленинграда он помог завербовать столь же разных людей.
Люди выходили на свет и щурились под пристальным взглядом пересмешника Утёсова. Специально для Утёсова в новый коллектив привели знаменитого Гершковича. Он играл на тромбоне как бог и, только когда откладывал инструмент в сторону, спускался на землю, чтобы поговорить с женой. Из Театра сатиры выманили Якова Ханина и Зиновия Фрадкина. Из бывшего Мариинского, из симфонического оркестра, – Макса Бадхена. О нём ходили легенды, и не было такого ресторанного музыканта, который бы не говорил о себе, что он друг Макса. При этом Бадхен вовсе не был гулякой, пропадающим после концертов в ресторанах. Строгие ленинградские мамаши уверяли, что его скрипка действует на их детей лучше любого успокоительного.
Если в Америке джаз раньше всех начали играть чёрные, то в СССР – евреи. Гитарист Борис Градский, который знал гитару, как любимую женщину, пришёл с эстрады. Оттуда же явились скрипач и саксофонист Изяслав Зелигман и ещё один саксофонист Геннадий Ратнер. Оркестр состоял из десяти человек, но если принимать во внимание количество инструментов, которым дополнительно владел каждый из них, то посадочные места пришлось бы неэкономно увеличить в пять раз. В общем, получалось, что десять музыкантов Утёсова могли легко заменить банду головорезов из пятидесяти человек, вооружённых музыкальными инструментами. Состав был как в классическом джаз-банде или коммунальной квартире, недоукомплектованной мебелью: три саксофона на десять человек, владевших этим инструментом, как родной женой. Классический состав предполагал только двух трубачей, что для всех было загадкой. Интересно, что трубачи считались отличными любовниками: их губы, расплющенные о металл, за долгие годы упражнений становились большими и чуткими. Тромбон – один на всех, как и рояль, который в случае нужды, типа дня рождения, мог заменить стол; контрабас, в футляре которого можно было спрятать лишнего человека; ударная группа, способная заглушить гром, и банджо для исполнения цыганских или испанских песен.
Утёсов не скрывал своего удовлетворения – музыканты были один другого краше. История рождения коллектива напоминала подрывную антисоветскую комедию, каким-то образом пропущенную бдительным цензором. Историки называют годом дебюта мюзик-холла 1928 год. В семидесятых годах пожилой Утёсов, вспоминая, назвал другую дату: 8 марта 1929 года. Как бы то ни было, дебют был успешным. Красивые женщины в зале и цветы на сцене – это всё, что нужно для констатации успеха.
Открылся занавес, и на сцене появились музыканты, не похожие на себя – уж слишком не по форме одеты. В светлых брюках и таких же джемперах, на головах – чёрные беретки, лихо заломленные набок. Самое смешное, что точно в такой форме будут ходить фашисты Муссолини, но анекдотического совпадения никто из бдительных чиновников не заметит. Общее впечатление, что на сцене коллектив бухгалтеров, собравшихся за город. И главное – одни мужчины. Это, конечно, будоражило, но только женщин. Что же привлекало внимание других? Да то, что таких коллективов, как утёсовский "Теа-джаз", на тогдашней эстраде не существовало. Его оригинальность была, как тогда говорили, "на сто процентов сверху донизу". И не только в музыке. Утёсов выступал неподражаемо и блистательно, это было в натуре одесского мастера. Сейчас можно говорить о том, что Утёсов повторил открытие Брехта. Он разделил актёра на музыканта, выступающего перед публикой, и персонажа, притворяющегося другим персонажем. Отсюда родилось определение "театральный джаз". Каждый музыкант утёсовской труппы изображал двух или трёх колоритных личностей. В итоге на сцене оказалось около пятидесяти музыкантов-актёров – уникальный мужской коллектив.
Каждая зрительница нового Театра миниатюр мечтала найти своё супружеское счастье в объятиях любого из музыкантов оркестра Утёсова. Те это знали и чувствовали себя первыми советскими плейбоями. В адрес коллектива приходили мешки писем, в которых женщины клятвенно обещали создать новую советскую ячейку. В тот период утёсовцы были самыми светскими персонажами города Ленина. Именно они ввели в ленинградскую моду обтягивающие в бёдрах брюки клёш, белые рубашки с галстуком и беретку, лихо заломленную набок. Утёсову, чтобы он выделялся, надевали тёмный жакет. Тридцать три богатыря и дядька Черномор.
Ещё раз подтвердилась истина первого советского десятилетия – каждый мог стать тем, кем хотел. Можно было прийти и сказать: я поэт – и стать поэтом. Я художник – и находили место, работу, должность… Надо было только очень захотеть. Такая старая истина…
7 декабря 1928 года в помещении Оперного театра Народного дома на Петроградской стороне сатирическим обозрением «Чудеса XXI века, или Последний извозчик Ленинграда» был открыт Ленинградский мюзик-холл. Сам спектакль, так же как и его название, был целиком «слизан» с представления Московского мюзик-холла, которое называлось «Чудеса XXI века, или Последний извозчик Москвы».
Невозможно не рассказать о сюжетах, которые они придумывали. В один из первых спектаклей Утёсов ввёл сцену, где музыканты изображали бурлаков.
– Играть джаз – это не легче, чем тянуть баржу, – говорил Утёсов. – Во всяком случае, скрипу столько же. Вот наш самый главный бурлак, – показывал Утёсов на тромбон. Тромбон вздрагивал, из-под него вылезала сонная физиономия Гершковича, и он выдувал из сопла своего агрегата сочный звук, похожий на рёв голодного осла. То, что придумывал Утёсов, не имело определённого сюжета – это была талантливая импровизация молодых, красивых, счастливых людей, которые любили девушек, переживали измены, сдавали членские взносы в обмен на марки, организовывали Общества дружбы с китайцами, с жёнами сельчан-безлошадников, с детьми-инвалидами, чьи родители сдали нормы ГГО, и так далее.
Ленинградский мюзик-холл стал прибежищем смеха. Шутку сделали нормой, которая потом превратилась в тяжёлую обязанность. Рано или поздно это должно было закончиться. Утёсов, как никто другой, понимал, что ему нужны свежие идеи. Именно тогда он решил сделать ставку на Дунаевского. У них было много общих знакомых. Впервые они встретились в 1924 году в Москве, когда Утёсов работал в малых театрах и много слышал об успехе композитора. В один прекрасный день Утёсов отозвал в сторону директора театра Даниила Грача и загадочно сказал:
– Все лучшие птицы улетели, петь стало некому. У нас нет ставки штатного композитора. Но он нам нужен. Пусть этот человек называется дирижёром и умеет сочинять музыку. Ему это только в плюс. Главное, чтобы такой человек согласился прийти к нам работать. Я знаю такого человека. Но он живёт далеко отсюда и, может быть, неизвестен вам как спец. Даже если залезть на самую высокую башню города Ленинграда, его не увидишь. В своём городе он тоже может залезть на самую высокую башню и оттуда нас не увидеть. Его надо вежливо попросить к нам приехать, а дальше он на нас посмотрит и может отказаться с нами работать. Но мы посмотрим, как это ему удастся сделать на нашей территории. Вы меня поняли, товарищ Грач? Я хочу, чтобы вы поехали к нему и пригласили к нам. Он живёт в Москве, и его зовут Исаак Дунаевский.
Это была блестящая речь, которой могли бы позавидовать царь Соломон или же Троцкий. А также Бабель, про которого ходили упорные слухи, что он блестящий тамада Бабель дружил с Утёсовым, а Утёсову нравился Бабель. Бабель, в принципе, умел дружить с разными людьми, чего не умел Дунаевский. Тем не менее Бабеля расстреляли в 1940-м, а Дунаевский умер хоть и от разрыва сердца, но своей смертью. Со стороны можно было подумать, что Дунаевский дружил только с музыкой и женщинами. Он был мягким человеком, поэтому как-то не успевал сдружиться с мужчинами, которым не хватало терпения его понять. Женщины оказывались терпеливее.






