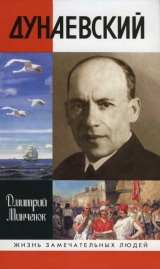
Текст книги "Дунаевский — красный Моцарт"
Автор книги: Дмитрий Минченок
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Затем пришло ещё одно письмо. С уточнением. Как оказалось, роковое: "Я увидел человека родного и уже знакомого мне. Пусть немного нафантазированного, но тем не менее реального человека, о котором я знал, как ему трудно жить. Знал, как он мучительно карабкается, обременённый многими заботами и обязанностями. Но я не ожидал увидеть человека, на котором и во всём поведении которого, во всём облике которого эта тяжёлая жизнь была так ярко отражена. Это было самое страшное, что не покидало моих ощущений в продолжение всего Вашего пребывания. Я уже и раньше, в письмах своих, знал, чувствовал, что Вы, Ваша вся внутренняя организация, созданы для другой жизни, но мне казалось, что "смеющаяся Людмила" живёт наперекор стихиям. Я не увидел "смеющейся Людмилы", я увидел тихо говорящего, почти покорного жизни человека. Это заслонило для меня в Вас и женщину, и Ваш внешний облик, и я, право же, не могу сказать толком, какие у вас губы, зубы, рот, глаза. Я не думал об этом. Потому, что я ловил себя на многих других мыслях и ощущениях, при всей близости нашей, созданной письмами, при всей, казалось бы, простоте, на которую оба мы имели право, по стажу нашей дружбы, я чувствовал себя чужим со всем благополучием, довольством, квартирой, машиной, рядом с Вами, такой тихой, покорной, но так хорошо справляющейся с тяжестью жизни. Мне стало обидно, больно за Вас, за жизнь, которая, право, не должна быть такой немилосердной по отношению к таким чудесным людям, как Вы. И все мои желания – к счастью для Вас, которые я Вам так искренне посылал в Ваше место жительства.
Я играл Вам, будил в Вашей чуткой душе какие-то мечты, думы и переживания. Возможно, что это были хорошие часы. Но что же следует после них? Я читаю Ваше письмо и снова вижу ту же мучительную борьбу одинокого человека, работающего на всех, ухаживающего за больными детьми, копающего картошку в огороде. Не слишком ли строго наказывает Вас жизнь за некогда совершенные неосторожности?"
Каждый может в письмах наговорить лишнего. Вот Исаак Осипович и наговорил того, о чём сам пожалел. Лучше бы успокоил, заставил бы поверить в свою искренность. Но природа любит сюрпризы. Сам же в одном из своих искренних давних писем обмолвился о том, как иногда он играет женщинам на рояле: "Я тоже мог за свои 49 лет говорить неоднократно о жажде жизни и любви. Я эту жажду претворял в реальные факты, делал много хороших и дурных поступков, имея много денег, вкушая, что называется, от древа добра и зла. Любил по полчаса и по десять лет. Дружил, обладал, сам отдавался, завоёвывал, играл Бетховена почти продажным женщинам, чтобы проследить, как это на них действует. Лепил себе кумиров из ничтожеств и проходил мимо подлинных кумиров, из опасения, что они – ничтожества! Но, упиваясь радостью, плача от горя, стыдя себя за мимолётные похоти, проклиная себя за боль и муки, доставляемые другим, я держал всегда свою генеральную линию жизни в полной целостности и неприкосновенности".
Да, это была великая история любви по переписке. И конечно, она не могла закончиться банально и просто. И в самом деле не закончилась. Людмила была женщиной выдающейся и незаслуженно пострадала, запутавшись в письмах. В 1952 году Дунаевский последний раз написал ей. Теперь у него у самого было проблем по горло. Тон её тогдашних писем резко противоречил всей жизненной позиции композитора – это была переписка императора с рабом. Людмила была потрясена и задавлена жизнью. Её младший сын заболел туберкулёзом, и она просила только одного – материальной помощи от Исаака Осиповича. И совершенно непозволительно писала, что её сын никогда не сможет иметь легковой машины. Это было действительно так. Исаак Осипович больше не писал ей писем, но ещё восемь месяцев регулярно высылал деньги. Около 500 рублей. Её сын Юра выжил.
В 1955 году, когда Людмила Сергеевна из газет узнала о смерти Исаака Осиповича, она приехала в Москву, появилась в его доме. План переехать в Москву так и остался неосуществлённым. Ей никто не помог. А через некоторое время сгорел её дом. Пожар произошёл ночью. Людмила Сергеевна вместе с детьми успела выскочить из дома, где осталась её парализованная мать. Через несколько часов вытащили полуобгоревший труп. Из имущества ничего не удалось спасти. Письма Дунаевского, по какому-то таинственному стечению обстоятельств, были обнаружены на заводе, в лаборатории Людмилы Сергеевны, где она их почему-то оставила. Она пережила Исаака Осиповича почти на четверть века и умерла от рака в 1979 году. На семейном совете трое её детей – два сына и дочь – решили отдать письма Дунаевского другу их матери, чтобы тот передал их в музей Глинки. Письма самой Райнль-Головиной они сожгли как не представляющие никакой ценности. По-видимому, Бог мстил ей за что-то понятное только Ему.
Совершенно случайно профессору Шаферу удалось обнаружить в архиве друга Дунаевского Давида Персона копии писем "смеющейся Людмилы" к Дунаевскому, которые она сделала, передавая письма Дунаевского для публикации в книге избранных писем. Таким образом, ещё одна женская судьба обернулась трагедией в сочетании с судьбой Исаака Осиповича.
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Хорошо поработать ему теперь удавалось только по праздникам. Он только начал приходить в себя после предательства Александрова, изнуряющих проработок партии, и вдруг – новое сокрушительное известие. Для фестиваля молодёжи в Берлине Госкино заказало режиссёру Ивану Пырьеву, с которым Дунаевский работал над «Кубанскими казаками», художественно-документальный фильм о миролюбии Советского Союза. Для этого фильма Дунаевский написал свой знаменитый марш «Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых…». Он уже собирался поехать в Берлин, готовился, но неожиданно узнал, что ему опять отказано.
Всё острее давала о себе знать проблема здоровья. "Старость неуклонно надвигается", – пишет он в одном из писем своей молодой подруге Раисе Рыськиной. Жена предлагала Дунаевскому лечиться, но его злило всякое напоминание о плохом самочувствии. Болезнь несовместима с молодостью, а он продолжал оставаться молодым… духом. К чёрту тело, надо о нём забыть! Знакомых удивляли планы Дунаевского на отдых. Он серьёзно обсуждал, как будет играть в волейбол и теннис, плавать на байдарках. В его очарованности красотой мира не было места болезни. "Кряхтеть на больничной койке я буду тогда, когда к этому буду уже очень вынужден", – сердито ответствовал он близким.
Его способность алхимика перевоплощаться в чужих душах начала пропадать. Он всё чаще стал задумываться о том, не сковывает ли его то государство, которое он прославил и которое его возвысило? Не оскудевает ли его мелодика от указаний товарища Сталина? Возможно, именно так следует понимать интеллектуальную проблему, стоявшую перед ним тем летом. А потом то, что казалось важным, совершенно отступило перед новыми ужасными событиями.
Новый, 1952 год Исаак Осипович встретил тяжело. Его, как гиря, придавил трагический случай во ВГИКе, произошедший с сыном Евгением на вечеринке 7 ноября. Евгений, к тому времени студент первого курса ВГИКа, пригласил несколько институтских знакомых и приятелей на дачу во Внуково отметить праздник. Исаак Осипович и Зинаида Сергеевна приехали на дачу, проследили за тем, чтобы было всё подготовлено, и покинули молодёжь – не хотели мешать. Женя был уже самостоятельным человеком.
Повеселились очень хорошо. Уже ночью, когда хмель смёл все барьеры, кто-то из приятелей решил прокатиться на машине. Машина Евгения была предметом вожделения его друзей. Жене ничего говорить не стали. Нашлись и хорошие спутницы, одна из них была студенткой третьего курса актёрского факультета. Ночью, когда Женя, устав, пошёл спать, двое приятелей, каждый со своей девушкой, выкрали ключи, подпоив сторожа, вывели машину из гаража и поехали кататься по внуковским косогорам. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в дерево.
Ночью в дом постучали – пришла милиция. Стали спрашивать: где ваша машина? Евгений говорит: "Моя машина стоит во дворе". – "Покажите", – попросили милиционеры. Сын вышел во двор и ахнул – машины не было. Потом узнал, что студентка погибла. Единственной тайной осталось, кто сидел за рулём. Начиная с ноября жизнь превратилась в кошмар не только у сына, но и у отца. Единственный рефрен его писем того времени: "Мне ужасно надоели вся моя жизнь, все мои дела, все мои занятия". Наступило почти тотальное отчуждение. Никакого уголовного дела против "угонщиков" возбуждать не стали за отсутствием состава преступления. Но колесо сплетен завертелось, будто джинна выпустили из бутылки.
Впервые после войны Дунаевский почувствовал преимущество того, что остался беспартийным. Тем не менее дело дошло до ЦК партии и ЦК ВЛКСМ. В высших инстанциях решили, что Евгений был совершенно непричастен ни к самой аварии, ни к безрассудному предложению его друзей отправиться покататься на машине. Но тот факт, что вечеринка произошла на даче у Дунаевского – лауреата Сталинской премии, а машина принадлежала его сыну-студенту, сыграл свою роль. В атмосфере всеобщего возбуждения Евгений Дунаевский оказался искупительной жертвой, жертвенным барашком, "как организатор пьянки, окончившейся автомобильной катастрофой". Во ВГИКе устроили показательное исключение: вчерашние друзья отвернулись и стали осуждать…
В начале 1952 года во ВГИКе был выпущен приказ с весьма нелепой, с точки зрения Исаака Осиповича, формулировкой. Трагический случай с самовольным использованием машины сына одним из его приятелей и последовавшая в результате неумелого вождения катастрофа с гибелью девушки в приказе были возведены чуть ли не в разряд спланированного предумышленного действия. Дунаевский бросился ко всем знакомым начальникам, прошёл по всем инстанциям, чтобы остановить машину лжи и сплетен. Всё было напрасно: начальники разводили руками, боязливо отговаривались. Кое-кто обещал помочь, но не стал этого делать. Кто-то просто разводил руками и говорил, что всё бесполезно.
Исааку Осиповичу казалось, что никто не в состоянии понять, выслушать, по-человечески войти в его положение. "Все начальники были как заведённые куклы, как механические ваньки-встаньки, при его появлении в кабинете с дежурной улыбкой вскакивающие, а после ухода брезгливо морщившиеся. Каждый человек был в отдельной клетке, а все клетки – в одной большой. И это уже проявлялось не в одиночном чувстве страха, а в общем чувстве беспомощности". Наверное, точнее всех это чувство всеобщей беспомощности, у каждого по-разному поводу, а по сути, одному и тому же – предчувствие агонии Хозяина, выразил Борис Ямпольский: "И страх, и предчувствия каждого не приплюсовывались, а умножались и, перемноженные в геометрической прогрессии, вырастали в такой мощный, непреодолимый страх, что уже ни у кого не было надежды вырваться из этого силка".
Даже дом превратился в камеру пыток. Домашние оказались без вины виноватыми. Дурацкое "если бы" оплело всех чувством вины. "Если бы не вино" – таких "если бы" набралось очень много. Пересуды за спиной в Союзе композиторов довели до нервного истощения. Дунаевский оказался стянутым кольцом проблем, которые он не мог решить. Он, который привык всегда и во всём побеждать, верховодить, вдруг оказался в числе проигравших. "Нотки пессимизма, – писал композитор Рае Рыськиной, – вызваны отнюдь не разочарованием в жизни, а исключительной сложностью, а зачастую и невыносимостью "околотворческой" обстановки. К сожалению, всё труднее и труднее становится творить, то есть радостно жить в звуках".
Жизнь шла своим чередом, а шушуканье за спиной не прекращалось. Опять ежедневно композитор садился около трёх часов в машину и ехал в Союз композиторов со своим неизменным кожаным портфелем. Потом вечером шёл куда-нибудь с Зоей: в ресторан Дома актёра, на просмотр, в ЦДЛ. Когда он садился писать, сразу всё отпускало. Творчество – он это хорошо и давно усвоил – было для него ценнейшим источником хорошего настроения. К сожалению, звуки как-то потускнели, и он уже сам не слышал той радости, которая прежде была в его песнях. Иногда в текст песен его соавторов попадали строчки как будто из постановлений и докладов; как-то стёрлись все различия между выступлением на партсобрании и массовой песней. Грозные сталинские указы и соответствующие им более мелкие, но оттого более болезненные постановления Союза композиторов, Комитета по делам искусств иссушали воображение. Насколько он вообще мог позволить себе критику по отношению к режиму, говорит фраза из его письма к девочке-комсомолке: "Творчество окружено такой неразберихой мнений, взглядов, что впору просто замолчать". Это покорность римского патриция перед диктатором. Замолчать совсем – это значит перестать быть композитором или даже, в проекции, покончить жизнь самоубийством.
Он по-прежнему оставался неистощимым романтиком, гимназическим "пятёрочником". Отдавал себе отчёт, что травля вокруг его имени происходит при молчаливом попустительстве Сталина. Он был слишком заметной фигурой, чтобы за ним не следили, не пытались узнать, что он делает, о чём думает. Он даже знал своё место в секретнейшей табели о рангах, существовавшей негласно в мозгах функционеров. Знал своё истинное положение в списках на всякие блага, которые распределялись за закрытыми дверями кабинетов чиновников ЦК партии. В секретной записке из Управления пропаганды на имя Жданова и Суслова, в которой перечислялись самые выдающиеся люди Советского государства с точки зрения их полезности, он был назван четвёртым в пятёрке самых знаменитых композиторов-песенников. Пятым шёл Блантер, как такой же еврей и беспартийный. Впереди – Александров, Соловьёв-Седой, Новиков, не покалеченные "пятым пунктом". Но по таланту он был первым.
… Упрямые гены мальчика из Лохвицы, в детстве безгранично любимого своей матерью, победили. Парадоксально, но даже самая мрачная оценка собственного состояния не загасила в нём желания создавать музыку. Наоборот, ему показалось, что всё только начинается. Он опять что-то кому-то и по какому-то нелепому поводу должен был доказывать. Ему вдруг захотелось заново вернуться к своей старой oпeретте «Золотая долина», которая за пятнадцать лет со дня премьеры безнадёжно устарела по содержанию. Его стремление – это необъявленное желание взять реванш хотя бы в музыке. Его обложили в быту, а он мечтает ударить по своим загонщикам с другой территории, с той, где он сам повелитель.
Его охватила охота к перемене мест. С середины февраля 1952 года он начал готовиться к гастрольной поездке в Ленинград, город его молодости и славы. Поездка в Ленинград уподобилась освежающему глотку воды в пустыне. Его ошеломил радостный приём интеллигентной ленинградской публики, особенно бурная овация, устроенная ему после премьерного исполнения "Школьного вальса". Концерты прошли с огромным успехом. Всё испортила вахтёрша со служебного входа филармонии. Увидев его, всплеснула руками: "Батюшки-светы, постарели-то как, Исаак Осипович". Исаак улыбнулся – раньше бы съязвил так, что авторше столь сомнительного утверждения не поздоровилось бы. Сейчас промолчал.
В ресторане после концерта директор филармонии рассказал ему про заговор против Дунаевского. Как будто кто-то (фамилии не уточнялись) не разрешал печатать симфонические партитуры его самых популярных отрывков из музыки к кинофильмам. Отдавали всё на откуп "слухачам". Это было действительно так. Издательство "Музгиз", которое подчинялось непосредственно Комитету по делам искусств при Совмине СССР, ни разу не обратилось к Дунаевскому с просьбой напечатать его симфонические партитуры. Кто-то специально делал так, чтобы его произведения исполняли как песенки кабацкого композитора, запоминая со слуха.
Ночью, оставшись в гостинице один после бурного приёма, он заплакал. Слёзы лились сами собой. Врачи бы сказали: результат нервного срыва. Признаки депрессии налицо: бессонница, беспричинные слёзы. Плакал и сам не мог понять отчего: "… то ли от счастья, от полноты успеха и трогательно-волнующего впечатления, то ли от неведомой тоски по несовершенному, по невыполненным мечтам своей жизни". Это было настолько невыносимое ощущение, что он сел писать Лиле Милявской. Письмо он закончил уже в Москве. Подумав, что вдруг она не поймёт его искренности, Исаак приписал, что пишет это "в надежде на чистоту восприятия, в надежде на то, что они отзовутся в Вашей душе полным и дружеским пониманием".
В тот год его захлёстывает отчаяние. Он хочет допинга безоговорочного восхищения. Может быть, ему не дано получить его дома. И в то же время с подозрением спрашивает в письме уже другую, милую молоденькую Вытчикову: "Я готов поверить, что Вам необходимо с каких-то точек зрения общение со мной. Но поверьте и Вы мне, что мне очень нужны и Вы, и такие, как Вы… Может быть, после этих моих слов Вы перестанете думать, что Ваши письма могут быть для меня ненужными. Вы принадлежите силой (пусть случайных) обстоятельств к тем моим друзьям, с которыми меня связывают очень важные нити моего общественного самочувствия".
И тут же, как ребёнок, вновь обижается: "Почему Вы не прислали мне просьбу о клавире, почему не написали? Я бы Вам выслал. А Вы предпочли записывать слова с приёмника, запоминать мелодию по слуху, вместо того чтобы обратиться ко мне за клавиром. "Школьный вальс" распространяется, как грипп".
Если одним словом можно выразить пятидесятые годы Дунаевского – это страх. Страх смерти, страх потери здоровья, страх за сына… А дальше начиналась вереница страхов, цеплявшихся за маленького мальчика от самого рождения. Страх, что родился не у того отца – не от партийно выдержанного большевика, а от торговца, который имел своё, пусть маленькое, пусть никому не заметное, но дело. Он об этом никогда не говорил, но это можно легко выяснить. Кстати, возможно, что он и в партию не стал вступать потому, что надо было очень чётко ответить о социальном происхождении своих родителей. Честь, достоинство, обидчивость, уверенность в себе не позволяли ему лгать.
Он снова напоминает себе: главное – немедленно засесть за переделку "Золотой долины". Для этого надо связаться с "Мозесом" Янковским – другом и автором сценария. Исаак Осипович взял в союзе путёвку в Дом творчества в Рузе. Наступил март, но снег в лесу ещё стоял. В Рузе было благодатно – природа, тишина, пение птиц. Дунаевский надеялся, что с весной придут новые силы, хорошее настроение. Композитора, как всегда, поселили в "его" домик, облюбованный им после войны – деревянный, одноэтажный. Там же стоял рояль. Рояли, кстати, стояли в каждом домике. За их покупку Хачатуряна, который тогда возглавлял Союз композиторов, обвиняли в разбазаривании средств. Короче, Руза была раем.
Композитор с головой погрузился в работу. На звонки Зои с предложением куда-нибудь пойти не отвечал. Только интересовался, как растёт Максим, не нужно ли ему что-либо. Зоя требовала жилплощади, говорила, что не может жить с маленьким сыном неизвестно где. Единственным выходом было строительство кооператива. Всегдашняя готовность Исаака Осиповича действовать пригодилась. Он организовал пайщиков, его выбрали председателем кооператива. Дунаевский начал строительство этого легендарного композиторского дома на улице Огарёва, где позже поселились абсолютно все.
Вторая половина марта прошла хорошо. Как в детстве, было весело, что дни нарастают. Он опять возлагал слишком большие надежды на союз с Янковским, на то, что «Золотая долина» будет шедевром, выстрелом в десятку. В Рузе к нему вечерами захаживал грузин, композитор Нариманидзе, очень милый человек и большой знаток грузинской песни. Дунаевский консультировался с ним по поводу грузинской темы в «Золотой долине», как должны звучать те или иные моменты в стилизованной части, оценил материал с точки зрения «грузинскости». Всё вроде было бы неплохо. Но одно «но»…
С душой что-то было не так. Композитор знал, что в жизни бывает только "одна весна, одно лето, одна осень и одна зима". И когда в роще он трогал первые весенние липкие цветочки, сама собой проскальзывала мысль: а ведь ещё один год промчался, ещё один год, ещё один шаг к концу. Он бронировал себя против осеннего увядания. Осень стала гипнотизировать его, подавлять своей великолепной красотой. Воспоминания о лете, о дачных пикниках и пижамах, курортных поездках как-то стёрлись.
Композитору нужен был чей-то совет и поддержка. Никто из окружающих этого дать не мог. Он стал рыться в партитурах, читать музыкальных классиков. Помощь пришла от Бетховена. Ему показалось, что он стал его по-новому понимать. В буквальном и музыкальном смысле. Музыка Бетховена потрясала своей бездонной чистотой и величием, а главное, мощью. Его симфоническое мышление всегда стремилось к этому. Неожиданно легко закончил финал первого акта "Золотой долины".
Во второй половине марта в Рузу неожиданно приехала Зоя Пашкова. Не выдержала одиночества в Москве, обеспокоилась тем, что он изменит ей с музыкой. А Дунаевский неожиданно выясняет, что вечера, которые он провёл в советах с Нариманидзе, бесконечные напевы грузинских песен ему ничего не дали. Надо самому придумывать грузинскую застольную. От всех хотелось поскорее избавиться. Композитор волновался, на кого Зоя оставила Максима. Когда Зоя уехала, пробыв у него только пару дней, композитор передал с ней письмо для Янковского, чтобы он всё-таки занялся сочинением или переделкой либретто. Старик упрямился. Исаак Осипович думал сдвинуть его с мёртвой точки шуткой. Подумывал, не стоит ли ему отрастить бороду. "Тогда я буду похож на патриарха", – шутил он. Кто-то сказал ему в Рузе, что с бородой он на самом деле будет похож на Римского-Корсакова. Это сравнение Дунаевского рассмешило и позабавило. Живой классик! Всё правильно.
В читальный зал библиотеки Рузы принесли третий номер газеты "Советская музыка". Первое, что увидел Дунаевский, была статья Новикова и Матвея Блантера, в пух и прах разносивших его творчество. Коллеги постарались на славу, обвиняя его в том, что он в конце декабря прошлого года (когда обрушились все проблемы с Генькой) не был на пленумах Союза композиторов, оторвался от масс. В своё время, когда справляли его юбилей, именно эти двое не поздравили его с присвоением ему звания народного артиста РСФСР.
Пока он отдыхал, с точки зрения его врагов, или работал, с точки зрения его семьи, на съезде на него вылились вёдра помоев. Ещё бы – после истории с сыном многие считали, что Дунаевскому не подняться, что дни его как композитора сочтены. В ноябре случилось несчастье, в декабре с трибуны пленума Дунаевского уже поносили, а потом кто-то услужливо предложил Блантеру и Новикову высказаться по этому поводу в журнале. Быстро же они списали Дунаевского со счётов! Надо было им показать, что композитор никого не боится. Он, конечно, понимал, что музыка волновала всех в последнюю очередь. Больше всего волновал их он сам, композитор Дунаевский. Его дачи, дома, машины, слава, успех у публики. Вот чего они хотели добиться, когда воспользовались случаем с сыном и напали по-подлому, из-за угла. Как же они усвоили холуйские привычки, навязанные Хозяином! Если вдруг кто-то оказывался слабым, надо его добить, чтобы не обвинили в пособничестве.
Он уже хорошо усвоил демагогический язык Союза композиторов и знал, как и кому следует отвечать. Его испугало только одно. В ругани Блантера и Новикова он услышал до боли знакомые старые интонации. Грозные окрики рапмовских критиков, их терминологию: "надрывные, унылые, тянущие назад интонации вместо зовущих вперёд". В конце двадцатых он один раз не выстоял, сбежал от полемики в Ленинград, сам позже думал, что испугался. И вот теперь ситуация повторялась. Надо было что-то делать, что-то предпринимать. Но, к сожалению, не было прежнего запала и задора. Его лучшее творение "Школьный вальс", который он любил и считал успехом, обругали на чём свет стоит. Говорили, что это песня не для школьников. Самонадеянные глупцы! Это было воспоминание. Редкое воспоминание, которое пришло как откровение. Он услышал в музыке голос прошлых лет, дикую ностальгию по Лохвице, по Кнорингу, по своим "сестричкам" – девочкам Любови и Цецилии. А они хотели опять куда-то звать, всё вперёд и вперёд. Пора остановиться, оглянуться. Исаковский, которого он создал как песенника, оказался вместе с Блантером, на другой стороне. Лебедев-Кумач такое бы себе не позволил. Времена меняются.
Письмо он написал. Получилось, как всегда, более теоретически, чем практически. Конечно, такой отповедью их не прошибёшь. Композитор это понимал, как понимал и то, что изменить ничего нельзя. Сталинские высотки росли как грибы, империя наливалась силой, а он этой силе соответствовать уже не мог. Его ругали все.
В мае решил сесть за письмо Рыськиной – соскучился по своей музе. Надо было хоть кому-то высказаться. Пустота, ненаполненность – основной тон письма. Эта ненаполненность мучила его весь апрель. Он практически ни с кем не общался. Сидел то в Рузе, то в Москве, писал и переделывал партитуры новых оперетт, обдумывал "Вольный ветер". Неожиданно позвонила Екатерина Дмитриевна Ладыженская – жена Янковского, сообщила, что Моисей загрипповал и не может приехать из Ленинграда. Так что мартовское сидение в Рузе композитор провёл почти безрезультатно. Написал "нечто вроде кантаты из восьми номеров", посвящённой Тихоокеанскому флоту в связи с тридцатилетием его существования. Автором стихотворного текста стал Борис Можаев, будущий знаменитый прозаик. Работа с его текстом Дунаевского увлекала, и получилось довольно занятно. Во всяком случае, Дунаевский чувствовал, что краснеть за неё не придётся.
И всё равно это была ненаполненность. "Ненаполненность", – как заклинание повторял Дунаевский. Беспрестанно курил, хотя врачи запрещали, просили сдерживаться. Местная повариха подкладывала ему котлеты покрупнее. Это Дунаевский заметил, как и то, что она смотрит с сожалением. Неужели что-то знает, неужели наслушалась разговоров и сочувствует?
Потом объявился Янковский, уже в Москве. Он был вёсел, его работа над двухтомником о Римском-Корсакове продвигалась вперёд. Композитор пенял ему, что работа над "Золотой долиной" задерживается. В связи с довольно серьёзной переделкой либретто, укреплением сюжета новая редакция музыки весьма значительно коснулась основной музыкальной драматургии оперетты. Добавилась совершенно новая картина: выпускной вечер в одном из ленинградских институтов. Эту сцену Дунаевский написал под влиянием "Школьного вальса". Кинорежиссёр Райзман, посмотрев фильм, сказал: "Я много лет работаю в кино, многое видел, многое слышал. Но никогда мне не приходилось видеть и слышать такого слияния документальной и сочинённой музыки. Совершенно невозможно сказать, где музыка документальная, а где она специально записывается в московском звуковом ателье". Это свидетельство Дунаевский очень ценил. Он как будто пытался оттянуть какой-то конец, занимал всё своё время ненужными встречами.
В начале лета намеревался встретиться в Ленинграде с Раечкой. Написал ей, что приедет. И вдруг неожиданно заболел. Весь конец мая сотрясался от кашля, кашель мешал жить и, главное, работать, потому что он не мог курить. Пока писал письмо Раечке, выкурил, хоть и малюсенькими затяжечками, две папиросы. Врач в поликлинике сказал, что это очень плохо и грозит серьёзными последствиями. Неожиданно пропал голос. Что ты будешь делать? Одновременно начались ларингит, трахеит и бронхит. А Раечка сообщала, что собирается на Кавказ, в горы. Затем болезнь начала прогрессировать. Из-за осложнений, повлёкших ослабление слуха и прочие прелести, Дунаевский не смог поехать в Ленинград в романтическое путешествие.
Когда загорелая и посвежевшая Раечка вернулась в Москву, Исаак Осипович уже был в Рузе – работал, отдыхал. Отдых оказался неожиданно приятным, подобралась симпатичная компания. "Представьте себе, – писал он в письме Раечке, – что и среди композиторов имеются люди славные – не московские". Начал опять волноваться за Евгения. Сын подал документы на первый курс в Художественный институт имени Сурикова. Дунаевский очень любил своего сына, собирался, если будет что не так, бросить все дела и заняться обиванием министерских порогов. Слава Богу, не пришлось.
Как часто бывает в Подмосковье, вдруг повеяло дыханием осени. Только что, несколько дней назад, было лето, а сейчас идёт дождь и всё по-осеннему. И солнце стыдливо прячется в просветах туч. Композитор помнил, как его душу волновали страсти: шахматы, бега, женщины, любовь, ощущение победителя, любимца матери, который всегда добивался желаемого. Жизнь – праздник. Он пробовал оживить в душе хотя бы одну из страстей – увлечение футболом. Снова начал страстно болеть за "Динамо". Письмо Раечки – наивной комсомолки – тронуло его своей искренностью. Он начал представлять её путешествие по Кавказу. "Есть две природы: та, которая ласкает нас после душного и закопчённого бензином и фабриками города, и та, настоящая природа, в которой мы растворяемся морально и физически. Я помню и знаю эту пригородную природу, когда после городского асфальта пленяет вид десятка полуиссохшихся сосен, а небольшая берёзовая или дубовая роща настраивает нас на журчащее состояние. Но когда попадаешь на настоящую первозданную природу Кавказа (в меньшей степени Крыма), то только тогда проникаешься чувством величайшего упоения и саморастворения. По сравнению с Вами я теперь ничего не значу как поклонник красоты природы. То, что я видел, я видел преимущественно из окна вагона, автомобиля или самолёта. Вы же теперь прикоснулись к ней, ходили по ней, обнимали её. Это не позволит мне пойти по Вашему примеру. Да, я развращён удобствами, без которых мне будет трудно. Но природу я люблю, и каждый раз, попадая в её объятия, я клянусь ей в верности, с тем чтобы потом… забыть эту клятву и изменить ей с городом, поглощающим силы и нервы".
В Рузе принесли письмо от Ивана Пырьева. Ему предложили доснять незаконченную Эйзенштейном вторую серию Ивана Грозного, и он хотел, чтобы Исаак Осипович написал к ней музыку. Композитор представил, как его враги, "оппозиция", как он их называл, будут шептать по углам: "Дунаевский и Иван Грозный"… Но ведь в эпоху царя не танцевали вальсов и не пели лёгкие песенки. Куда ему до Прокофьева? Этот момент Дунаевского заботил. Как всё легко его определили в мастера лёгкого жанра! "Один Пырьев – смелый человек, знает моё подлинное нутро, позволяющее мне всё уметь", – говорил Дунаевский.






