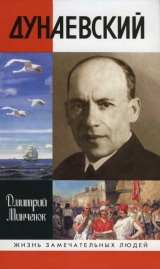
Текст книги "Дунаевский — красный Моцарт"
Автор книги: Дмитрий Минченок
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Первая картина нашего обозрения, с точки зрения географии, происходит в Итаке. Сейчас вы увидите мировой экземпляр женской верности: знаменитую Пенелопу, которая уже двадцать лет ждёт возвращения Одиссея. Множество женихов самых знаменитых фамилий домогаются её руки, но она остаётся верна своему мужу, потому что надеется, что он не погиб. Двадцать лет верна своему мужу! Здесь вы видите, что великий старец Гомер порою не уступает Жюль-Верну по силе своей фантастики. Я кончил. (Уходит.)
Премьера прошла с феерическим успехом. Не меньше, чем потрясающему остроумию Эрдмана и Масса, этот успех был обязан музыке Дунаевского – частушки, которые Пенелопа распевала под аккомпанемент арфы, вызывали в зале, по отзывам современников, гомерический хохот.
Потом на ту же самую мелодию звучал романс:
Дремала ночная Эллада,
И месяц сиял круторогий,
Ахилл был мужчина что надо,
И сердце дрожало под тогой.
Перед неувядающей, модно одетой красоткой Пенелопой стоит её взрослый сын Телемах. На нём короткие штанишки, майка, незаметно переходящая в тунику, шёлковые носки, укреплённые на икрах резинками. Нетерпеливо постукивая лёгкими спортивными туфлями, Телемах в который раз спрашивает мать:
– Сколько можно? Ну почему ты не выходишь за него замуж?.. Ах, так вам Антиох не нравится? Он глупый, по-вашему? А вы знаете кто его шурин? Его шурин – ответственный секретарь одного председателя. Да вы знаете, что меня по его записке безо всякой протекции могут на любое место устроить? А вы говорите не нравится. А какой этот шурин кристальной души человек! А какой благородный. Какой благопристойный. Вы знаете, когда его племяннику выпадало место управляющего конторой, на это же место претендовал ещё один человек. И что же вы думаете он сказал? Я, говорит, в работе родственных чувств не признаю. Мне, говорит, абсолютно безразлично, будет ли на этом месте племянник или Иван Иванович. Ну, пусть, говорит, будет племянник. Не возражаю. Вот. А вы говорите, Антиох. Это даже глупо, мамаша, с вашей стороны. Ну, допустим, что вам Антиох не нравится. А Лоплас?
ПЕНЕЛОПА: За Лопласа я не пойду. Он глухой.
ТЕЛЕМАК: Глухой! Тоже логика! Не пойду, потому что глухой! Что вам с ним разговаривать? Главное дело глухой! Вот Бетховен тоже глухой был. Стало быть, вы бы и за Бетховена не пошли? Глухой! Может быть, это у него профессиональная болезнь: может быть, он председатель треста? Глухой! Если бы он слышал, что про него говорят, ему бы давно в отставку пришлось подать. Он, может быть, потому и держится, что глухой. Глухой! Вы, мамаша, оригинал какой-то! Глухой! Ну, глухой! А Лизипп?
Телемаху до смерти хочется выставить мать из дому. Гневно тряся головой, но не забывая при этом поправлять кокетливую причёску, сын предлагает матери всё новых и новых женихов. Верная Пенелопа непреклонна. Вот если бы появился претендент, хоть немного похожий на её без вести пропавшего Одиссея, ну, тогда дело другое, можно было бы рискнуть. Верная Пенелопа тоскует, не слушая воплей сыночка – и всё это под гомерический хохот зала.
Во втором действии на сцене появляется красавец Одиссей. Он похож на бравого сержанта: вместе со своими товарищами марширует по сцене, облачённый в тёмную майку и чуть прикрывающие колени рисунчатые брюки-гольф, в грубых шнурованных ботинках, свободно болтающихся вокруг его тощих лодыжек. Эдакий мистер Твистер. При всех обстоятельствах под мышкой Одиссей держит распухший от бумаг портфель – без ручки, но зато с массивными металлическими углами. Портфельсимвол.
Одиссей изворотлив и остроумен. Может быть, не так уж и умён, зато хитрости хоть отбавляй. Он ловко выпутывается из самых трудных ситуаций, да ещё при этом поёт и танцует. А когда встречаются на его пути тридцать обольстительных гёрлз, то есть древнегреческих девушек-сирен, – для них хореограф Касьян Голейзовский придумал полный вопиющей эротики номер, – Одиссей доказывает, что и тут он малый не промах. Герой обладал ещё одним несомненным достоинством – он свято верил в силу всякого рода справок, протоколов, резолюций. Да, этот Одиссей был странствующим рыцарем бюрократизма. Попав на остров, сплошь населённый злыми обезьянами, Одиссей-Черкасов, сверкая глазами из-под низкой густой чёлки а-ля "древне-греческий мужик", вдохновенно кричит своим спутникам:
– Братцы, погибаем! Погибаем! Пишем резолюцию. Люди умирают, а резолюции остаются!!!
"Одиссея" шла с огромным успехом, купить на неё билеты было невозможно – после первых спектаклей все распродали надолго вперёд. Основные лавры достались Смоличу, Черкасову и Массу с Эрдманом. Дунаевского, естественно, отметили, но это ещё не было настоящей славой. Зато внутри-театральный рейтинг композитора резко вырос. К нему стали обращаться за советом, его мнением интересовались. В его кабинет зачастили люди, чтобы попросту поболтать о жизни. Это был особый успех.
Идеи Дунаевского совпадали с теми новациями, которые Утёсов готовил в театре. Из вечера в вечер, прокатывая программу «Теа-джаза», он невольно задавался вопросом: а что будет дальше? Непременно надо было изобрести что-то такое, что не было бы эпигонством самого себя. Утёсову нравилась эффектная поза и неистребимое одесское «сделайте нам красиво». Перед разговором с Дунаевским он не спал полночи, готовя свою речь. Он любил экспромты, но считал, что они должны быть хорошо подготовлены.
– Дуня, – сказал ему Утёсов однажды, когда они сидели в кафе. Для полной убедительности певец взял композитора за пуговицу пиджака. – Надо поворачивать руль влево. Паруса полощутся. Их не надувает ветер родной земли. Дуня, я хочу сделать поворот в своём джазе, помоги мне.
Дуня, по воспоминаниям Утёсова, почесал затылок и иронически посмотрел на знаменитого одессита:
– Ты только хочешь сделать поворот или уже знаешь, куда повернуть? Кстати, ешь бублики, они остынут.
– Да, – сказал Утёсов, – знаю. Пусть в джазе зазвучит то, что близко нашим людям. Пусть они услышат то, что слышали наши отцы и деды, но в новом обличье. Пусть они умоются слезами большевиков и перестанут совать свой красный нос в дела джаза. Давай сделаем фантазии на темы народных песен. В конце концов, негры придумали джаз для своих обездоленных братьев, потому что в душе они были большевиками.
Утёсов говорил сочным языком Бабеля, а в домашнем кругу особенно. Только во время официальных выступлений он следил за тем, чтобы его лингвистическая оригинальность не резала уши партийным функционерам.
Речь Утёсова Дунаевский выслушал с удивлением. Его глаза, и без того большие, стали ещё больше. Всё сказанное совпадало с его мыслями. Утёсов любил рассказывать Исааку байки, потому что тот им верил.
– Какие же фантазии ты бы хотел? – спросил Дунаевский.
– Это должен быть странный мир звуков, – сказал Утёсов. – Как будто кто-то кого-то пилит или режет. Но при этом звучно, как у Бетховена. Вот какой джаз нам нужен! У них, там, – Утёсов показал в сторону Америки, – Луи Армстронг. А у нас я – Утёсов. А теперь, может быть, и ты, Дуня. Согласен?
Спустя пять лет после первой публикации этого разговора для книги воспоминаний Утёсова появилась вторая редакция, рассказанная им же.
– Советская эстрада, – бархатно засипел Утёсов на этот раз, – это ритмы сегодняшней жизни, ритмы энтузиазма и пафоса строительства, ритмы Турксиба и Днепрогэса. Представляешь, современный Тарас Бульба стоит на одном берегу Днепра, а современный Остап на другом. "Слышишь ты меня, батьку?" – кричит Остап. "Слышу, сынку!" Это, конечно, смешно – наши классики в пролетарских робах. Гоголь бы в гробу перевернулся, но пролетариату надо знакомиться со своими героями.
В окончательной редакции Утёсов заканчивает: "Ох, как зажглись глаза Дунаевского!" Трудно предположить, что в семидесятых годах, когда Утёсов надиктовывал свои воспоминания, их обработчик Леонид Булгак мог выразить какое-то другое отношение со стороны Дунаевского. Даже если композитору не понравилось, он не мог об этом сказать. Думаю, что Дунаевский был вынужден поставить свой талант перпендикуляром, чтобы выразить в музыке понятие "советского".
– В каком жанре ты это видишь? – спросил Утёсов.
Дунаевский отметил, что это должна быть рапсодия. Советская рапсодия.
– Трудное название. Но смешное.
Утёсов не помнит, сколько времени понадобилось Дунаевскому, чтобы сочинить четыре джазовых переделки народных песен: русской, еврейской, украинской и советской. Четыре миниатюры, принесённые Дунаевским, назвали "Джаз на повороте". 16 января 1931 года в мюзик-холле состоялась премьера этого спектакля. Художником спектакля был молодой Николай Акимов, впоследствии известный театральный режиссёр.
Однажды Утёсов вызвал к себе своего друга-режиссёра, имя и фамилия которого были одинаковы – Арнольд Арнольд. Взял последнего за лацкан пиджака и, притянув к себе, сказал:
– Арнольд! – Неясно было, обращается он к человеку дружески, по имени, или официально, по фамилии. – Арнольд, – повторил Утёсов, – мне уже надоел сидящий на сцене оркестр. У нас начинает вырабатываться опасная неподвижность, мы скоро превратимся в статуи. Арнольд, я хочу театр, я хочу играть роли. Я хочу из музыкантов сделать актёров в буквальном смысле этого слова. Надо придумать что-нибудь из ряда вон выходящее, где бы могли развернуться в полную силу. Что ты скажешь на это, Арнольд?
И Утёсов оставил товарища в покое, предоставив ему возможность решить, как именно он к нему обратился: по имени или по фамилии.
Через день Леонид Осипович снова вернулся к прерванному разговору, встретив Арнольда в коридоре театра, куда тот забежал выпить воды. Человек с именем, похожим на фамилию, шёл по узкому коридору и был похож на заблудившуюся Пенелопу. Утёсов спрятался за угол и, дождавшись, когда Арнольд поравняется с ним, выскочил из-за угла со страшным криком:
– Арнольд! Что ты здесь делаешь?
Арнольд застыл на месте. Возможно, что это было лучшее исполнение роли статуи Командора. Но длилось оно недолго, потому что Утёсов был человеком импульсивным.
– Я жду, Арнольд! Скажи, где могут находиться люди, играющие на инструментах? Не для публики, а для себя.
Арнольд медленно оттопырил челюсть, потом двинул её вниз:
– Ну, где? Чёрт его знает где. Может быть, дома…
– Дома – это два-три человека, – весомо ответил Утёсов. – А где может собраться много музыкантов? – И сам же продолжил, не давая напрячься мозговому аппарату Арнольда: – В магазине, там, где продаются инструменты. В музыкальном магазине. Ты понял?
И тут, по версии Утёсова, произошло короткое замыкание, которое стало вехой в истории театра. Два режиссёра придумали грандиозный спектакль, который должен был выстрелить, как пушка с крейсера "Аврора". Писать сценарий Леонид Осипович позвал Эрдмана и Масса. Главным героем нового представления был персонаж по имени Костя Потехин – продавец из магазина, одновременно умный и глупый, как королевский шут, под видом шутки изрекающий совсем не глупые мысли. Как всегда, Утёсов придумал себе ещё и вторую роль: роль крестьянина-единоличника, появляющегося на сцене с лошадью. Всякая индивидуальная собственность была позором. Боже мой, какие же это дало плоды! Иметь лошадь на селе считалось тогда верхом неприличия, всё равно как быть проституткой в городе. И лошадный крестьянин конечно же выглядел простофилей. Он ездил в Торгсин сдавать навоз, потому что сельский агроном сказал ему, что навоз – это золото. Позже говорили, что этот ужасный ход – опорочить работящего собственника, – придумал кто-то из партийных пропагандистов.
Утёсов поручил изображать лошадь двум танцорам. Это был полушутовской-полуэротический гибрид двух парней, покрытых попоной, с торчащей палкой вместо шеи, которые выделывали разные смешные коленца и отплясывали чечётку – её тогда считали пролетарским танцем. Потом Утёсов придумал для себя роль американского дирижёра, интерпретирующего русскую классическую музыку на американский джазовый лад. Дирижёр был тем же единоличииком. Чего не сделаешь ради любви к джазу! Чтобы играть для пролетарских ушей, приходилось его порочить. Только в таком виде можно было услышать эту божественную музыку. Четвёртую маску придумал Утёсов для самого себя – как бы он, но в кривом зеркале. Говорят, что наивная Рина Зелёная, посмотрев этот спектакль, сказала: "Боже мой, если бы я видела этого человека в жизни, я бы его убила. Как можно жить с такими лицами. Я не удивлюсь, если узнаю, что у него много любовниц". По сюжету герой Утёсова заходит в магазин, где ему предлагают купить пластинку с блатными песенками в исполнении Утёсова.
– Что вы, – кривился Леонид Осипович. – Я хорошо знаю этого певца. Он никогда не пел блатных песен.
– Нет, это вы "что", – отвечают ему. – Вот послушайте, – и ставят пластинку, которая заканчивается словами Утёсова: "Я кончаюсь – переверни меня".
Впоследствии официально, с трибуны различных съездов или в печати, Дунаевскому приходилось ругать эти блатные песенки, изданные отдельной пластинкой. Но дома, в кругу друзей, он их хвалил как очаровательную шутку таланта. По молодости каждый бард из Одессы мечтает записать пластинку с блатными песнями – в них слишком много очарования, которое сделало одесского бандита Беню Крика не просто заурядным одесским бандитом, а настоящим художником, родоначальником уголовной эстетики.
Актёр Николай Самошников неподражаемо изображал самоубийцу-музыканта, которого спасали, доставая из воды. Утёсов спрашивал: почему он это сделал? Тот рассказывал, что его никуда не берут на работу, а он хочет играть на кларнете.
– Как я вас понимаю, – сочувствовал ему Утёсов, – сам живу в контрабасе, и то тесно.
Потом Утёсов просил его сыграть что-нибудь – может быть, он возьмёт его на работу. После первых же душераздирающих звуков, которые издавал кларнет, музыканта молча брали за руки и за ноги, деловито несли к мосту и бросали обратно в воду. Возвращались и со слезами на глазах говорили:
– Фёдор Семёнович, что же мы наделали! Мы живого человека утопили.
– Ну и что? – невозмутимо спрашивает директор.
– А вдруг он выплывет?
Переезд Дунаевского и события в Кремле развивались параллельно. Повышенное внимание красных богов к музам объяснялся очень просто: это была последняя сфера влияния бывших партийных лидеров. По существу, стоял вопрос об окончательном и бесповоротном их уничтожении и сосредоточении всей громадной власти в руках Сталина. Бывший семинарист, понимавший толк в человеческих душах, правильно расценил: пока ниточки от «властителей дум» находились в руках Бухарина, Каменева, Зиновьева и иже с ними – у них оставался шанс на возвращение к власти. Соответственно его, Сталина, власть над думами людей была не полной. «Для писателей, режиссёров и прочей нечисти», по образному выражению Ахматовой, это означало конец «вегетарианской эпохи». Предстояла эпоха чисток, в которой побеждали любители свежего человеческого мяса, поставляемого лагерями. Всё было уже расписано.
… Ко всему смешному приложил руку композитор. Он сочинял музыку, и, как водится, музыка влияла на содержание. Дунаевский придумал, что Утёсов садится за рояль и начинает играть дикий "диссониррующий брэд". Утёсов должен был разговаривать голосом противного кокаиниста-джазиста, приехавшего покорять "рэсских дэвушек". Конферансье объявлял музыкальный номер: "Митинг в паровозном депо". В басах у Утёсова звучали паровозные гудки, в среднем регистре изображался шум работающих станков, а высокие тона на верхах представлял глас народа. Это великолепное музыкальное изобретение было данью формальной технике РАПМа.
После этого Утёсов плакал. Дирижёр оркестра прерывал концерт, всё было построено так, чтобы зритель подумал, будто у Утёсова реальное горе. Дирижёр спрашивал у артиста:
– Что с тобой, Костя?
Костя – Утёсов отвечал:
– Слона жалко.
– Какого слона?
– Из бивней которого палочки сделаны, – и Костя показывал на свои барабанные палочки. Дальше он говорил с непередаваемым акцентом:
– Представьте себе тропический "лэс", по нему идёт молодой "кэльтурный" слон. Вдруг бабах! Выстрелы. Слон "падаэт". Подбегают люди, вырезают из слона косточки, делают из них клавиши и потом на них такую дрянь играют! "Жэлко" слона, Фёдор Семёнович!
Это было только начало. Затем Дунаевский переделал на фокстротный лад арию из оперы "Садко" Римского-Корсакова, "Сердце красавицы" из "Риголетто" и некоторые мелодии из "Евгения Онегина". Всё складывалось удачно.
30 апреля 1932 года в жизни Исаака Дунаевского случилось грандиозное событие. У него родился сын, которого назвали Геничкой – Женей. Иудейский патриарх основал собственную династию. Машина времени сработала на одни пятёрки. Я помню этого мальчика с седыми волосами. Его уже давно нет с нами, но каждый раз, когда читаешь эти строки, он снова как будто предстаёт маленьким, только что родившимся у счастливого отца. Так трудно поверить, что его не стало. Он умер, сохраняя это восторженное ощущение сына гениального отца, живущего в тени его гения.
Каковы были ощущения Исаака? Они менялись во времени, но самое первое известно: это гордость и торжество победителя. Всё, что мы можем узнать по этому поводу, Дунаевский сообщил в письме поэту Лебедеву-Кумачу. Более полувека это письмо хранилось под спудом в архивных папках сына поэта, пока однажды он не нашёл его и не прочитал автору этих строк с такой гордостью, словно это случилось вчера.
"Сын у меня мировой. Вчера на улице он подошёл к одному гражданину, напевавшему марш из "Весёлых ребят", и строго заметил, что это "моего папы марш, не пой". Моему карапузу всего только три года. Это всё меня радует. И как композитору, и как отцу мне надо написать колыбельную, чтобы таким малюткам пели".
Если бы можно было бы найти такое поле, на котором собрались бы сто детей, чтобы один взрослый мог сыграть им такую колыбельную, от которой все сто бы уснули, таким человек мог бы быть Дунаевский, у которого было сердце, могущее вместить сто детей.
Рождение сына в корне изменило положение Исаака и по отношению к миру и к дому. Он вышел из пустыни, в которой его душа была бы обречена скитаться. Он заложил основы, выполнил главный закон – продолжение рода. Сразу многое стало ненужным, неважным. Это было очень важно в отношениях с Зинаидой Сергеевной.
Увлекающийся человек Дунаевский, которого можно было обвинить во многом, решил для себя самое главное – он отец и муж. Многие женщины, которым он дарил знаки внимания, конечно, могли бы задать ему вопрос – а искренен ли с ними композитор? Но сам Исаак относился ко всему этому более определённо. Всё, что можно было бы сказать об отношении Исаака к женщинам, заключалось в существе его души, которое он отдавал им в распоряжение. Он хотел, чтобы у них были силы жить и любить Из письма Дунаевского к Людмиле Райнль (1947 г.): "И я протягиваю Вам на расстоянии всё, что заключено в моём существе, и отдаю Вам на распоряжение. Я хочу, чтобы Вы хотели жить и любить. Скажите: может быть, я пишу глупости? Может быть, Вас будет тяготить подобная терапия? Но именно призвание друга я понимаю как способствование жизни, как некоторый эликсир, впрыскиваемый нежной и заботливой рукой".
Может быть, Зинаида Сергеевна ждала от него каких-то исчерпывающих разъяснений или ответов на его увлечения. По своему статусу мужа он, конечно, должен был быть известен ей со всех сторон. Но если что-то ещё было неизвестно Зинаиде Сергеевне – это "что-то", даже если оно состояло из множества элементов, не могло внести в её душу и представление о нём никаких колебаний, ибо основное и главное жене было известно. Это был отец её сына. А если она ошибалась, то это не имело никакого значения до тех пор, пока он не поворачивался к ней той стороной своего существа, которая ей не нравилась. Когда брак зашёл в тупик, он мог только повторить слова из своего собственного письма: "Если мне что-то перестанет в Вас нравиться, то я внесу поправку в своё представление о Вашем образе, но это нисколько не снимет той радости, которая у меня была до маленького разочарования. Если мне вообще вдруг покажется, что Вы не такая (или вы не такой), какую я себе рисовал, то это тоже не заставит меня уничтожить Вас как образ, давший мне некогда радость и удовлетворение".
Рождение сына принесло ему уверенность, что теперь в его идеальном образе ничего не изменится. "Система его жизни" ни в коей мере не могла "служить мерилом познания его как личности". Вот что писал сам Дунаевский другой женщине о сформулированном им понятии хорошего человека, которым, без сомнения, себя считал: "Я не могу также понять, какое имеет значение для познания меня и какую помеху для этого познания представляет собою та разница в воспитании, обстановках, жизненном опыте и т. д., о которой Вы пишете. Ведь Вы даже не замечаете, что в самом факте констатации этой разницы Вы подтверждаете то, что Вы знаете меня. Иначе как бы Вы могли определить, что такая разница существует? Три десятка писем, по-моему, является достаточным количеством знаний о человеке. Почему Вы вообще считаете, что нужно судить только уверенно? Зачем Вам эта уверенность нужна? А гипотеза, предположение, чутьё, умение что-то самой разглядеть, увидеть, почувствовать за длинной чередой строчек письма или писем? Вы же химик! И разве химический синтез летит Вам жареным в рот? Вы не приходите к нему путём кропотливого опыта, анализа, сопоставлений, смелых допущений или общений?
Вы пишете, что если бы я был похож на многих Ваших знакомых, то судили бы обо мне уверенней. Вероятно, во многом я ничем не отличаюсь от Ваших знакомых, а, может быть, чем-то и отличаюсь, как отличается каждый человек от другого. Что за странное стремление стандартизировать представления о людях? Опять-таки Вы впадаете здесь в противоречие: раз Вы пишете, что я не похож на многих Вам хорошо известных людей, то этим самым Вы признаёте, что я чем-то не похож на них. А раз так, то именно Вы должны знать, чем же я не похож на них. Ведь я Ваших знакомых не знаю. Откуда же мне знать, чем я от них отличаюсь? Мне кажется, что эту работу должно производить Ваше наблюдение, чутьё, чувство, разум, ощущение. Вам вынь да положь всё на блюдечко! Нет, матушка, это не годится!
Я отлично понимаю, что Вам хочется иметь обо мне подлинное представление. Но я не вижу ничего дурного и в том, что Вы будете любить или Вам будет нравиться мой образ таким, каким он Вам кажется. Я поворачиваюсь к Вам не всей своей жизнью – это верно. Но опять-таки ничего дурного нет в том, что человек поворачивается к другому той стороной, какую он выбирает для творчества человеческих отношений. Допустима и возможность сокрытия каких-то сторон существа, которое должно считать несущественными, неважными для этого творчества отношений. Я могу быть в тысячу раз хуже, плоше, ниже того, что я показываю людям. Но если я так показываю, что они меня считают хорошим, высоким, интересным, то это значит, что я обладаю искусством познания этого высокого и интересного, обладаю способностью вызвать и в себе и в людях силы представлений и ощущений, способных создать обо мне то или иное впечатление.
Не будем же спорить, что реальный образ человека – это сумма психических, физических и рациональных представлений о нём со стороны окружающих. Эти представления могут быть столь же ошибочны, сколь и справедливыми. Поэтому об одном и том же человеке говорят часто противоположно разное. Прибавьте к этому, что и сам человек не знает себя хотя бы потому, что ему свойственно всегда желать казаться хорошим, даже если он подлец, – и Вы увидите, что реальный, "уверенно" начерченный образ человека – это блеф! Литературщина!"
Как писал Утёсов, «Музыкальный магазин» имел феноменальный успех и был показан более ста пятидесяти раз. Осенью 1932 года на один из спектаклей пришёл тогдашний руководитель Союзкино Борис Захарович Шумяцкий – старый большевик, участвовавший когда-то в подпольной деятельности, а потом возглавлявший советское правительство Сибири. Сталин знал его как энергичного партийца, проверенного товарища, чётко выполняющего приказы. Особенным тщеславием Щумяцкий не отличался. Новую жизнь понимал конкретно – как борьбу со старой. Проявлял готовность давить всех, но в разумных пределах, был отличным организатором и умел настоять на своём. Большего от него и не требовалось. Как человек он не был похож на большинство старых партийцев: сохранял какие-то буржуазные пережитки, любил театр. На него можно было положиться, если речь шла о продвижении линии партии, а большего Сталину было пока не надо. Он искал борца, обречённого идти в одиночку, не обрастающего знакомствами и кумовщиной, достаточно независимого, чтобы не соблазниться на участие в какой-либо оппозиционной группке или объединении. Именно такому Сталин мог поручить главк по делам кинематографии при Наркомпросе. Сталин знал, что Шумяцкий недолюбливал тогдашнего наркома просвещения Бубнова, и это тоже было ему на руку. Между двумя старыми большевиками шли бои местного значения. Кто бы в них ни победил, в выигрыше мог остаться только Сталин – стравливая двух крупных чиновников, сам он оставался в стороне. Ход был хитрый и испытанный.
После спектакля Шумяцкий зашёл в гримёрную к Утёсову. Был ли он один, певец не помнил. В те времена руководителям такого ранга охраны не полагалось. Надзорные функции за начальником высшего ранга осуществлялись его подчинённым: секретаршей-стукачкой или помощником-стукачом. Шумяцкий был выдвиженцем Льва Борисовича Каменева и Николая Бухарина, тогдашнего главного редактора "Известий". Хотя оба были уже в опале, их выдвиженцы продолжали оставаться в силе и, следовательно, представлять определённую опасность для Сталина. Впрочем, если Шумяцкий и поддерживал связи с бывшими благодетелями, то делал это очень тихо. Так же тихо, как после был арестован и расстрелян.
Борису Захаровичу Шумяцкому совершенно искренне казалось, что он знает кино. Это он одобрил отъезд в США Эйзенштейна с группой кинематографистов, чтобы те усвоили уроки западного кинематографа. За это же, правда, ему потом и влетело: секретариат ЦК специально собирался для того, чтобы обсудить, почему Эйзенштейн тратит народные деньги на сладкую жизнь в Америке, когда в деревнях голодают. В пересказе Утёсова, Шумяцкий, пообщавшись с Каменевым и Зиновьевым, решил продвигать в массы идею кинооперетты. Видимо, увиденное в Штатах настолько запало ему в голову, что он не мог успокоиться. На Западе уже существовали великолепные образцы мюзикла, а в СССР только предстояло взять эту планку. Сталин хорошо понимал агитационные возможности кино. Когда он наслаждался этой странной игрой света и тени, им двигало не эстетическое чутьё, а уверенность, что массовое искусство хорошо влияет на массовое сознание. В разговоре, состоявшемся в процессе работы над этой книгой, Юрий Петрович Любимов сказал, что "Сталин был наивным человеком в отношении кино. Он полагал, что кино может кого-нибудь исправить. Вот увидит советский бюрократ Ильинского-Бывалова и изменится", – тут Юрий Петрович засмеялся.
Я подумал, что он, должно быть, недооценил Сталина. В самой постановке вопроса Любимовым сквозила скрытая уверенность художника в том, что искусство создано для того, чтобы прославлять мастеров этого искусства. Так думали многие, но Сталин хорошо усвоил ленинскую мысль о кино как важнейшем искусстве для тоталитарного государства. Кино придумано, чтобы оглуплять человека – искусство, нуждающееся в совокупной массе чавкающих попкорном людей, выходит за рамки индивидуальности, подрезая всех под одну гребёнку. Толпа невольно заражает сама себя общими эмоциями – это психический закон. Это гораздо труднее сделать картине и практически невозможно – книге, которая воспринимается строго индивидуально. Кино, наоборот, приводит восприятие к общему знаменателю, который рождает пресловутое "общественное мнение" – то есть стадо обманутых баранов и одного козла, который это стадо ведёт. Что, в конечном счёте, и требовалось хитроумному вождю.
… Министр кино предложил Утёсову снять кинооперетту на основе спектакля Дунаевского.
– "Музыкальный магазин" – это не совсем то, что надо, – ответил Утёсов. – Из этого может получиться только короткометражный кинофельетон. Уж если делать полноценную комедию, то надо начать всё сначала.
– Что же для этого нужно? – спросил Шумяцкий.
– Я думаю, коллектив хороших авторов, которые умеют смеяться и знают про производство смеха не понаслышке.
Утёсов предложил Шумяцкому в качестве сценаристов использовать Николая Эрдмана и Владимира Масса.
– В этом фильме должно быть много песен, – сказал Утёсов. – Их может сочинить тот же Масс.
– А музыку?
– Музыку должен писать Дунаевский.
Против Эрдмана и Масса Шумяцкий не возражал, а вот против фамилии Дунаевского поставил большой вопросительный знак. По версии Утёсова, партийный чиновник был тайным поклонником рапмовских функционеров и соответственно разделял их антипатии и симпатии. Фамилия Дунаевского автоматически рождала в его душе подозрительную мелодию. Хотя, казалось бы, какие претензии могут быть к прекрасной и ясной мелодии? Шумяцкий был не одинок – почему-то "пролетарским интеллектуалам" Каменеву и Рыкову Дунаевский тоже не нравился, а вот шутки Масса и Эрдмана расцветали в их хохоте лучезарными копьями собственных острот. Они явно были приспособлены к этой державе умением шутить. Надо добавить, что Николай Робертович Эрдман умел нравиться жёнам начальников, а понравиться жёнам – уже на пятьдесят процентов очаровать их мужей.
В общем, звёзды расположились удачно для всех – и для кино, и для смеха, и для режиссёра, что бывает далеко не всегда. Впрочем, в смехе есть свои обертоны, которые нередко приводят к слезам. Утёсов решил отстоять друга и не побоялся надерзить самому министру, сказав, что без Дунаевского сниматься в смешной ленте будет совсем не смешно. Видимо, на Шумяцкого, который действительно хорошо относился к Утёсову, подействовала не столько логика, сколько напор Леонида Осиповича. Он принял кандидатуру композитора, но только при одном условии, что музыку к фильму этот Дунаевский будет писать только вместе с Утёсовым. Одесскому шансонье не оставалось ничего другого, как согласиться на эту унизительную для Дунаевского поддержку. Если бы речь шла о балете, Утёсов, может быть, и не смог поддержать Дунаевского, но вот в музыке Дунаевский мог воспарять к таким вершинам, что не его надо было поддерживать, а самому цепляться за него, дабы почувствовать что такое свобода в творчестве. Партнёр, который должен был присматривать, превратился в товарища, с которым можно спеться. Утёсов решил не пересказывать самолюбивому "Дуне" мнение Шумяцкого. Тем более что в вопросе выбора режиссёра тоже были трудности. Самым известным советским режиссёром был Эйзенштейн, но он комедии не снимал. Самым плодовитым – Корш-Саблин, но ему никто не предлагал.






