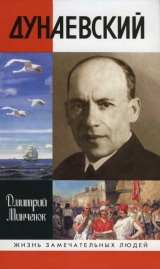
Текст книги "Дунаевский — красный Моцарт"
Автор книги: Дмитрий Минченок
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ТОЛЬКО В МОСКВЕ?
Приезду Исаака Дунаевского в Москве предшествовало триумфальное появление в столице одного из первых его сценических наставников, Павла Ивановича Ильина. Харьковский провинциал, бывший учитель, произвёл фурор, когда радостно оповестил, что его театральные опыты в Харькове опередили московские поиски. Это было действительно так. Тогда провинция намного опережала Москву. Четыре города на территории бывшей Российской империи были заражены бациллой смеха, и медицина здесь оказалась бессильной. Смех принимал характер эпидемии, которая концентрировалась в Москве. Каждый город имел свой профиль. Например, шагаловский Витебск дал Москве структурно готовую организацию – Теревсат или Театр революционной сатиры вместе с актёрами и режиссёрами. Харьков поставлял индивидуальности. Здесь начинали свою карьеру Юрий Карлович Олеша и Валентин Катаев, хотя вышли они, конечно, из Одессы – признанного рассадника «смеховой культуры». В Харьков в прямом смысле слова убежали от Красной армии Есенин с Мариенгофом. Москва и Питер стали «смешными» городами не сами по себе – такими их сделала провинция.
Ильин достаточно быстро смог сделать себе неплохую карьеру. Он стал одним из штатных режиссёров в саду "Эрмитаж". И Хенкин, и Ильин очень высоко ценили талант Дунаевского. В Москве они помогли ему с трудоустройством в те театры, в которых трудились сами. Это было началом карьеры советского Моцарта.
Ильин умел находить красивых людей. Именно он "выловил" среди молодых чиновников Харьковской акцизной палаты чудесного двадцатилетнего сказочника Митю Орлова, впоследствии Дмитрия Николаевича Орлова, народного артиста РСФСР, выступавшего во МХАТе имени Горького и умершего в один год с Дунаевским. Орлов ещё в Харькове прославился исполнением русских сказок. Тихим, вкрадчивым голосом, как будто гипнотизируя, он рассказывал слушателям историю про Бабу-ягу и девицу Алёнушку. Делал он это с таким правдоподобием, будто "страшилка" про мальчика, превратившегося в козла, и пожилую даму, пожелавшую заняться каннибализмом, произошла в соседней деревне, чему он сам был свидетелем. По правде говоря, многим слушателям его рассказов становилось жутко. Бывали случаи, когда дамы и дети падали в обмороки. Но в этом и состоял талант замечательного Мити Орлова.
Павел Иванович Ильин организовал студию из подобных "митей" – молодых харьковских дарований. В эту студию, ещё в 1916 году, попал и Исаак вместе со своим братом Борисом. Рассказ о встрече Дунаевского-младшего и Ильина можно было бы озаглавить так: "О пользе раскрытых окон". Однажды Ильин случайно услышал фортепьянную импровизацию Исаака, доносившуюся из открытых окон квартиры Дерковских. Ильин, щёголеватого вида молодой человек, тут же постучался в дом и поинтересовался, кто играет. Мадам Дерковская с гордостью ему сообщила. Так он познакомился с Исааком и предложил ему написать музыку к проходной студийной постановке. Результат работы настолько ошеломил Ильина, что в 1918 году, став главным режиссёром Харьковского эстрадного театра миниатюр, он буквально завалил Исаака заказами.
В те дни Исаак ходил по одному и тому же маршруту: от дома к студии Ильина и обратно. Его работой была работа разносчика. Честолюбивые планы Исаака сбывались, и это приносило ему радость. Он видел результаты своего труда. Его портрет дополняла грузинская кепка, которую он носил набекрень. Она появилась в его гардеробе параллельно с песней "Грузия", сочинённой им за одну ночь под влиянием разговора со знакомым грузином. Со всеми заказами Дунаевский справлялся успешно и в срок. Однако сам композитор позже не очень охотно о них вспоминал, хотя другим эти произведения казались чуть ли не самыми интересными из того, что он делал в те "смутные" годы.
Именно Ильин познакомил Дунаевского с Владимиром Хенкиным. Хенкин много гастролировал в Харькове. В 1924 году он вздумал читать с эстрады антисемитские стишки, за что был освистан. Больше всего Хенкин недоумевал, за что его освистали. "Я же сам еврей, – говорил он с надрывом, а они меня в антисемитизме обвинили". Благодаря дружбе с Хенкиным Ильин смог переехать в Москву в конце 1923 года. Каким-то образом он сумел попасть на приём к Луначарскому и получить у него мандат на руководство театром "малых форм". В те времена "малые формы" были самыми популярными у московского зрителя. Безумный спрос объяснялся началом нэпа.
Каждый человек запоминает эпоху под определённым углом зрения. Рина Зелёная, впервые оказавшись в Москве, запомнила московские улицы только потому, что по ним ездили телеги с автомобильными колёсами. Колёса казались толстыми, а автомобили – несуществующими. Одесская провинциалка восприняла это как исчезновение цивилизации, а театр – как её возвращение. Только в саду "Эрмитаж" одновременно открыли четыре эстрады, где ежевечерне давались спектакли. В саду было мало деревьев, но много гениев. Плотность таланта на единицу земли была высокая. В "Эрмитаже" за вечерним пловом собирались Николай Асеев, Анатолий Мариенгоф, Николай Эрдман, Алексей Кручёных, Виктор Ардов и Вера Инбер. Их звонкий смех в лицо ещё не заглушили выстрелы в спину. Гении дружили с гениями, а посредственности с посредственностями – это было продуманное разделение труда, о котором так мечтали большевики.
Все мастера острого слова постепенно перезнакомились с Исааком Дунаевским на совместной работе. Например, Вера Инбер с Виктором Типотом и Алексеем Алексеевым были авторами пьесы "Смешанное общество", музыку к которой в 1926 году написал Дунаевский. Виктор Ардов совместно со Львом Никулиным сочинили комическую пьесу "Склока". Автор музыки – Дунаевский. Каждый из них был чем-нибудь интересен вне письменного стола. Например, тот же Ардов был профессиональным посетителем театров-ресторанов. Его похождения в саду "Эрмитаж" стали легендой того времени.
Рина Зелёная вспоминала о том, как одну из программ в театре-кафе "Нерыдай", который несколько позже сменился "Фанерным театром", вела ленинградская актриса Марадудина, первая женщина-конферансье на советской эстраде. Что такое конферансье в театре-кафе? Надо быть готовым в любую минуту к репликам из зала, причём солёным, мужским. А если на эстраде стоит женщина? Марадудина валокордин не принимала, а принимала "на грудь" пятьдесят граммов спиртного. Задолго до всех европейских "звёзд" типа Марлен Дитрих она выступала в мужском костюме и имела шумный успех у публики. Дунаевский с ней познакомился на одном из представлений в саду "Эрмитаж". Возможно, Ардов рассказал ему историю, происшедшую с артисткой Марадудиной на одном из представлений.
Ардов как зритель сидел за одним из столиков, поближе к эстраде. В зале находился и Маяковский. Ардов начал "гасить" Марадудину колкими репликами, в частности, громко, на весь зал, позвал: "Товарищ Марадудина!" Это был испытанный ход. Если актриса хотя бы на секунду обращала внимание на реплику, начинала выискивать глазами, кто её окликнул, то всё – провал был неминуем. Тут же шла сбивка ритма, вдохновения, настроя, остроты пропадали… Артисты очень боялись неожиданных окриков из зала, поскольку не всякий успевал отреагировать на них. А Марадудина с ходу отбрила: "Гусь свинье не товарищ!" Ардов растерялся, а Маяковский звучно бросил реплику: "Ну, хорош вы гусь, Ардов". В зале хохот…
В то время театром руководил знаменитый Кошевский. Однажды он решил наказать Ардова и пригласил его выступить в качестве конферансье, пообещав хорошие гонорары и самую лучшую публику. Ардов согласился. Наступил вечер. Ардов, при бабочке, во фраке, поднялся на сцену, начал "выстреливать" заготовленные шутки, скетчи. И вдруг Кошевский, который сидел в зале, окликнул его: "Товарищ Ардов!" Тот запнулся. Если сам Кошевский окликает, может, что случилось? А Кошевский как ни в чём не бывало: "Продолжайте, товарищ Ардов". В зале смех, Ардов белеет от гнева. Снова конферансье говорит что-то смешное, а в зале уже другие шутники, градом, реплику за репликой, адресуют ему. Так и сорвали конферанс Ардову. Но это был хороший урок – с тех пор смелый юморист больше не нападал исподтишка на ведущих из партера.
К тому времени, когда в Москве объявился молодой Дунаевский, эти рассказы уже были легендой. В то время люди вообще быстро становились легендарными. Одним из героев был Виктор Яковлевич Типот, чьё имя выплыло из небытия именно в начале двадцатых годов. Жизнь этого мастера прошла бок о бок с жизнью Дунаевского. Настоящая фамилия Типота – Гинзбург. Он изменил ей из-за двух друзей, которые дразнили его, что по еврейским меркам Гинзбург такая же заурядная фамилия, как у русских Иванов. Псевдоним звучал загадочно, и мало кто знал, что он переводится с английского как "чайник" – английского в ту пору ещё не учили.
Про Типота было сложено очень много рассказов. Дунаевский ценил его за неистощимый юмор и способность к импровизации. Этот талант после травли тридцатых и сороковых годов куда-то подевался. А в середине тридцатых по всей артистической Москве ходили его байки и фразы. Например, в ресторане ЦДЛ Типот спрашивает официанта: "Ну, что можно съесть вкусненькое?" Официант предлагает: "Есть судак в тесте, раньше назывался "судак-орли"". Типот задумчиво: "Судак в тесте! Странно. У моего друга, я знаю, есть тесть в Судаке, а тут… Нет. Не пойдёт в тесте". Когда в Ленинграде начались аресты, Типот якобы сказал, выслушав сообщение о высылке Николая Эрдмана: "Нужно жить долго, тогда до всего доживёшь".
Лето 1924 года Исаак Дунаевский работает в качестве музыкального руководителя «Фанерного театра» сада «Эрмитаж», которым руководили Хенкин и Ильин. Это был очень весёлый и интересный театр миниатюр. Вместе с ним в Москву приехала большая группа молодых харьковских артистов, его знакомых. Наиболее близким ему стал Эммануил Каминка, впоследствии заслуженный артист РСФСР.
В Москве Исаак почувствовал себя как рыба в воде. Появилась возможность осуществить его наполеоновские планы. Внешне он представлял собой довольно колоритную личность. Как у всякого невысокого человека, у Дунаевского была защитная реакция на "высокий" мир: сигарета. Она, без сомнения, придавала ему уверенность в себе. В обмен он безбожно превращал свои лёгкие в филиал смолоперерабатывающего завода, получая при этом удовольствие от своей солидности. Бравурная папироса во рту напоминала морской флажок, сигнализирующий победу. Курение в итоге сыграло злую шутку с мастером. Было это уже на склоне его жизни и доставило немало мучительных переживаний.
Исаак Дунаевский не обманул ожиданий Хенкина. Только огромное расстояние, отделявшее Харьков от Москвы, помешало ему сделать это раньше. Здесь, в Москве, встретившись с Алексеем Алексеевым, Борисом Эрдманом, Давидом Гутманом и другими, то есть с теми людьми, которые запросто могли сказать: "Только что видел Есенина, сказал "Привет, старик", и он ушёл", всё оказалось совсем другим. Все гении, все рядом, и рядом с ними Исаак Дунаевский. Режиссёр Гутман ходит и шутит, шутит Эрдман, шутит Виктор Типот. Весь мир похож на одну огромную улыбку.
Недавно боготворимый Харьков, с высоты московской прописки, представлялся молодому композитору корзиной, болтающейся под воздушным шаром. "Баллон-груша остывал, сдувался и медленно опускался с каждым днём всё ниже и ниже" – это слова Шагала о Витебске. То же самое мог сказать Дунаевский о Харькове. Примерно то же самое думал он о своих харьковских перспективах. Всякий раз, когда ему приходилось размышлять или говорить о своей харьковской жизни, он испытывал сложное, противоречивое чувство, замешенное на горечи и досаде. Как будто все его харьковские друзья были обречены тащиться на буксире у московских звёзд. Для того чтобы тебя заметили, надо было покорить Москву.
В Москве пришлось учиться всему заново, и прежде всего музыкальной моде. Нэп принёс с собой первые пробы джаза. Классическую музыкальную гармонию дробили, били, как обыкновенное стекло. Из маленьких, как нотные "восьмые", осколков конструировали новые мелодии и бросали их на ветер. Если вас хотели развлечь, вам предлагали джаз. Всюду: в ресторанах, театрах и даже в клозетах – толстые и тонкие граждане насвистывали дребезжащие мелодии. Музыка соперничала со звуковыми отходами больших городов: дребезжанием трамваев, ударами станков, визгом бензопил. Простой человеческий голос воспринимался как атавизм, как аппендицит. В хаосе музыкальных звуков было только несколько тропок, которые вели к ясной и гармоничной мелодии.
Николай Фореггер и Касьян Голейзовский начали широко использовать возможности эроса в балете. Вместо классического трико мужчины и женщины выступали в костюме из собственной кожи. Все были помешаны на неграх. Негры пришли в живопись, музыку, танец, драматический театр. В Европе Пикассо под влиянием негритянской скульптуры создавал свои живописные шедевры. В Москве скульптор Иван Ефимов с увлечением рисовал эротические картинки на африканские мотивы. В воздухе пахло любовью и вечной весной. Это было великое брожение умов в преддверии не менее великой сталинской дистилляции. Последние годы радостного мифотворчества заслуживают отдельной страницы в истории государства, хотя сегодня эта "подпольная эротика" сталинской эпохи практически никому не известна.
Дунаевский, конечно, мог слышать имя Ивана Ефимова – одного из самых знаменитых, причём скандально, советских скульпторов, чьи работы выставлялись в Третьяковке. В истории об Исааке Дунаевском он интересен как фигура, создающая фон, на котором складывались гениальные шутки и мелодии тех лет. Его можно назвать эротическим диссидентом сталинского времени. Ваяя на заказ вполне благопристойные скульптуры, он на протяжении всей своей жизни тайком рисовал то, о чём мальчишки пишут на заборе. И декларировал: "Если я войду в бессмертие, то именно своей эротикой. В моральном смысле не знаю, как это расценить, но композиционно – это высокая марка".
Рисунки Ефимова – это размноженные сны многих мужчин. Каждый из них видит одно и то же. Пуританская мысль человека сравнивала эротические видения с видениями ада. Из ада можно выбраться, но ещё труднее о нём забыть. Кажется, художнику Ефимову не удалось ни то ни другое. Ефимов сделал ад весёлым, придумав три тысячи "непристойных правил" или "поз счастья", которые на протяжении десятилетий запечатлел на трёх тысячах рисунков, надёжно скрытых от посторонних глаз. Когда большевики пришли к власти, ему исполнилось тридцать восемь лет. Два полюса – на одном официальное признание, на другом – то, о чём знала только жена. По архивным свидетельствам, Иван Ефимов вместе с супругой Ниной Яковлевной Симанович-Ефимовой во время революции устраивали кукольные представления. Ефимов никогда не скрывал своего индивидуального человеческого жизнелюбия и женолюбия. При случае мог похвастаться в дружеской беседе, с какими красотками ему довелось провести ночь. Ему многое прощалось. Его эрос был лишён подтекста. И был таким же могучим, как солнце, и настолько же целомудренным и открытым. Дружба со знаменитым богословом и учёным Павлом Флоренским, а также с художником Владимиром Фаворским, с семьёй которого он построил художественный дом-колонию в Новогирееве, защищала его от подозрений в сексуальной озабоченности.
При видимой открытости он умел хранить тайны. То, что собрала о нём единственная издательница малой части его рисунков Ольга Ковалик, проливает свет на творчество человека мистического и языческого одновременно. Свои эротические рисунки автор скрывал даже от домашних, запечатывая альбомы латинским "S" – секретно. По воспоминаниям сына художника, в 1924 году отец шутливо предрекал ему, указывая на альбомы: "Подожди, вот умру, ты поедешь в Швецию с этими рисунками, издашь их и будешь ездить в золотой карете". Естественно, он мечтал о такой стране, где можно было бы открыто предлагать вниманию публики то, что не мог показать в России, – фаллические фантазии, которые совершенно справедливо мнились ему шедеврами. Увы, этим мечтам не суждено было сбыться. "Золотая карета" не появилась, а то, что предлагает современная западная индустрия комиксов, намного опередило "достижения" Ивана Ефимова.
Эрос невозможен без вдохновения. Но как эрос слит с шуткой, с гротеском, с дружеским розыгрышем, позволяет понять эпизод, который мог произойти только до революции, когда Ефимов имел возможность путешествовать и бывать за границей. Оказавшись на роскошном пляже во Франции в Ницце, Ефимов задумал искупаться. Представьте себе чопорный пляж начала века. Дамы в платьях неспешно дефилируют вдоль воды взад-вперёд. Джентльмены – в полосатых купальных костюмах, напоминающих клоунские. В те времена, по свидетельствам художника Сомова, купальные костюмы вообще были редкостью, даже в самом Париже. Ефимов, нимало не смущаясь, снимает с себя одежду и остаётся среди чопорной пляжной публики в чём мать родила. Скандал! Дамы стыдливо прикрываются зонтиками, мужчины усмехаются, старики негодуют. Видимо почувствовав, что своим голым видом он производит эффект, Ефимов зачерпывает горсть чёрного ила у берега и обмазывает тело, рисуя нечто вроде купального костюма. Вот как начинался боди-арт! И все приличия соблюдены…
О его похождениях рассказывали, привирая и складывая, целые легенды как о немыслимом бабнике – главном бабнике Советского Союза. Его жена – двоюродная сестра Валентина Серова – Нина Яковлевна Симанович-Ефимова легко относилась к забавам мужа. В 1906 году она сообщила своим родным: "Я выхожу замуж за Бога. Точнее, за полубога". Существует дружеский документ, удостоверяющий донжуанские рекорды Ефимова, который его жена (!) преподнесла ему на пятидесятилетие, собрав около ста любимых им женщин. Его творчества боялись не только красные, но и белые власти. До революции на Конаковском фаянсовом заводе дирекция распорядилась отливать скульптуру фаянсовой обнажённой бабы Ефимова ночью, чтобы не смущать мораль зевак. Эта скульптура называлась "Вода" и представляла собой фаянсовую женщину метровой высоты, получившую у рабочих, её отливавших, прозвище "Баня". Про его керамические изваяния "Тамбовская баба" и "Тамбовская девка", выполненные в 1914 году, знакомые скульптора говорили: "Надо их поставить на кургане, будут с поездов смотреть". Всё, что Ефимов делал под заказ, оставалось в рамках социалистической идеологии. Но всё равно это было прославление возможностей человека, точнее, человеческого тела. Та же тема стала лейтмотивом творчества молодого композитора.
Ни классицизм Глинки, ни романтизм Чайковского более не занимали Исаака. Другие мелодии звучали в нём. Первая жена Мария Павловна была безвозвратно забыта. Она могла лишь сожалеть о том, что в своё время бросила Дуню. Друзья приглашали его на разные музыкальные премьеры, знакомили с новыми людьми. Каждый гений считал своим долгом обрасти кружком поклонников, как дерево листьями.
Дунаевский проник в самое сердце пролетарского смеха и попал под его обаяние. Никакая академия, никакой Синельников не дали бы ему всего того, что он почерпнул, общаясь с хохмачом Давидом Гутманом, выслушивая остроты Эрдмана, осматривая следы погромов, устроенных Есениным. И даже толкаясь на рынке, где по бедности покупал всё не самое дорогое и не самое лучшее. Во всём, в вещах и людях – от простого рабочего в синей блузе до изощрённых поборников кубизма – он видел и слышал безупречное чувство меры, ясности, формы и мелодии. Возможно, никто острее Дунаевского не ощущал, насколько велико и необъятно музыкальное поле, поле новых мелодий. А где-то в стороне мужали его творческие соперники, например Матвей Блантер, который дружил с теми же хохмачами – режиссёрами и актёрами.
В двадцатые годы в Москве повсюду рождались маленькие театры. Они вырастали как грибы после идеологических указов Каменева, Троцкого, Рыкова, Бухарина. Каждый из вождей мечтал иметь свою идеологическую обслугу. Каждый театр опирался на поддержку какого-нибудь влиятельного партийного лидера. В общежитии сада "Эрмитаж", где поселился Дунаевский, он познакомился с Виктором Типотом, химиком по образованию, который, как говорили, отравил трёх или четырёх белогвардейских генералов. Режиссёр Виктор Типот впоследствии стал автором двух самых знаменитых оперетт Дунаевского: "Вольный ветер" и "Сын клоуна". Его жена Надежда Германовна Блюменфельд была всем на свете: и рабочим, и художником, и театральным костюмером. В то время Типот занимался тем, что ставил различные фарсы из жизни средневековых дам, русских матрёшек или французских маркиз.
Увидев Дунаевского первый раз, Наденька Блюменфельд приняла его за актёра. Какая-то харизма чувствовалась в нём за версту. "Вы спиной к зрителю поворачиваетесь? – поинтересовалась она у застенчивого Исаака. – У меня тут лишняя тесьма имеется. Если не поворачиваетесь, я могу вам костюм затянуть сзади бечёвкой, будет не видно, а то он на вас мешком сидит". Исаак смутился – он не знал, что у него немодный костюм. "Это наши хитрости, – объяснил Виктор Типот. – У нас постоянный дефицит на парчу или шёлк для костюмов дворян. Моя Наденька шьёт только переднюю часть из нужного материала, а заднюю надстраивает из мешковины. Зрители ничего не видят. А театру экономия. По нынешним временам очень правильная выдумка. Вот только актёрам к зрителям с этой выдумкой спиной нельзя поворачиваться, а то обман раскроется. Ещё побьют". В театре Типота все актёры уходили в кулисы, пятясь задом. В те годы зрители принимали это за формальные ухищрения. Никому и в голову не приходило, что основная причина формализма – нищета.
Исаак Дунаевский познакомился с Борисом Эрдманом – художником, рисовавшим смешные картинки и увлекавшимся боксом, братом Николая Эрдмана, который за свой знаменитый юмор в тридцатых годах получил десять лет ссылки. Конферансье Алексеев также позже получит десять лет ссылки – правда, за свою однолюбскую привязанность. Отправится в ссылку Владимир Масс. Одни из них умрут в лагерях, другие – в высотных домах на набережных. Но всё это произойдёт в будущем.
Не совсем понятно семейное положение Дунаевского. По всей видимости, формально он ещё считался женатым. Каким-то образом его поселили в комнату для семейных, на втором этаже актёрского общежития от сада "Эрмитаж", в комнате номер пять. Вот что вспоминает Эммануил Каминка: "В Москве мы виделись почти ежедневно. Он очень любил приходить в нашу "холостую комнату"". По рассказу Каминки получается, что Исаака почему-то к "холостым" не относили. И Евгений Исаакович Дунаевский считает, "что это вполне возможно". Ведь на самом деле разрыв во времени между браком с Марией Павловной и браком с Зинаидой Сергеевной точно неизвестен.
В то время в общежитии театра "Эрмитаж" жила разнопартийная богема. В "холостой комнате" обитали пять-шесть одиноких мужчин. Говорили, что Борис Эрдман по ночам рисует обнажённых натурщиц, а наутро ходит довольный и очень голодный. В комнате номер пять жарко спорили. Дунаевский в одиночестве сидел перед керосиновой лампой и думал о том, что жизнь на пятьдесят копеек в компании гениальных товарищей – то, о чём он мечтал. По сведениям Эммануила Каминки, Исаак в те годы горячо и темпераментно спорил. Дух спорщика, который всегда настаивает на своём мнении, достался Исааку с генами отца. Это была одна из наполеоновских черт, черт победителя, который знает, что ему многое дано и позволено. И ещё – прекрасная память, умение логично мыслить.
Иногда вдруг в середине разговора Дунаевский отходил в сторону, пристраивался в уголке и, не обращая уже никакого внимания на то, что происходит вокруг, начинал писать музыку. Кто видел это в первый раз, поражался. Сочинение музыки при адском шуме и грохоте, на уголке стола вместо рояля всем присутствующим казалось цирковым аттракционом. Именно это свойство Исаака не в последнюю очередь способствовало росту его популярности и появлению слухов. О нём стали говорить как о музыкальном мессии.
Дунаевский сразу обратил на себя внимание. Он почти не прикладывал к этому усилий – мелодии сами пёрли из него, ему оставалось только подавать их как можно более картинно. И он эту картинность создавал. Поза была не в манере вести себя с окружающими, а в манере творить. Его искусство, музыкальная пафосная гармония, придуманная им, очень легко, без натяжки, поднималась на котурны. Позже кто-то найдёт у гениального Станиславского объяснение феномена Дунаевского – способность к публичному одиночеству. Тогда же это было просто чудом вроде тех, что устраивал Гарри Гудини. Зимой 1924 года молодой Исаак Дунаевский благодаря растущей популярности переходит в театр "Палас" по соседству с "Фанерным театром". Собственно, слово "переход" не совсем точно отражает ситуацию. В "Палас" ушёл Ильин, фантазии которого на тот момент были самыми оригинальными и передовыми. Скетчи Ильина нравились московской публике, мелодии Дунаевского казались свежими и ни на что не похожими. Даже в огромной Москве об Исааке стали говорить как о человеке, которого долго ждали и который может творить чудо.
Это были последние годы нэпа с его чисто вымытыми стёклами магазинов. К моменту приезда Исаака витрины ещё ломились от товаров. Вновь открылся бывший гастроном Елисеева – по старой памяти его именовали Елисеем. В Охотном ряду на лотках лежали метровые осётры. Торговки артистично зазывали покупателей. Кому в голову могла прийти мысль, что и молодость кончится, и это изобилие пройдёт? Никому, как и то, что вместе с эпохой канет в лету пиршество юмора и смеха…
Собственно, неправильно говорить, что Дунаевский работал в театре "Эрмитаж". Тогда такого театра не было – был сад "Эрмитаж", где находилось множество театриков: и "Фанерный театр", и театр "Палас", и "Нерыдай". Тот театр, где начинал Дунаевский, не был ночным кабаре, как "Нерыдай", в котором начинала Рина Зелёная. В "Нерыдае" кормили хорошо, потому что туда ходили нэпманы. В "Фанерном" – он же "Вольный театр" – не кормили вовсе, и публика там была попроще, поэтому артисты из "Фанерного" завидовали артистам из "Нерыдая".
Исааком Дунаевским восторгался Владимир Яковлевич Хенкин. Большому мастеру было чуждо чувство боязни другого таланта. Наоборот, мэтру российского смеха импонировало, что одарённый юноша посвящал ему свои музыкальные произведения. В 1922 году они встречались в Харькове. Хенкин хотел, чтобы Дунаевский писал для его рассказов музыку. С гражданской женой Хенкина Еленой Дмитриевной Ленской – стройной, красивой, темпераментной танцовщицей – связано множество забавных историй. Она была настоящей душой общества, всегда умела пошутить и пустить шутку по всей Москве. Вроде бы именно она познакомила Клаву Судейкину, сестру Зинаиды, будущей жены Исаака Осиповича, с Леонидом Оболенским, начинающим актёром, тоже, кстати, из старинного дворянского рода. Елена Ленская была особенно дружна с Виктором Латышевским и Леонидом Оболенским. Оба актёра начинали свой драматический путь в качестве акробатических танцоров у знаменитого хореографа Касьяна Голейзовского. Позже Ленская блистала на лучших московских концертных площадках в паре с танцорами Большого театра.
Неизменная и влюблённая подруга Владимира Яковлевича Хенкина была единственной женщиной, которую мужчины допускали на свои творческие советы. Все эти замечательные люди были очень разные и в семейной жизни, и в творчестве. Например, Алексеев говорил: "Я при посторонних не могу работать. Ни сочинять, ни поправлять. Я стесняюсь". Хенкин ему возражал: "А я люблю, чтобы меня слушали, потому что мне это нравится".
Хенкин мог пристать к любому, даже малознакомому актёру с просьбой послушать его и высказать своё мнение о работе. Так проявлялась не только природа его актёрского таланта, но и особенность характера. Он был ярко выраженным экстравертом, ничего не стеснялся, доходя в молодости даже до прямого бесстыдства. Чувство безгрешности счастливо уживалось у него с талантом. Несмотря на маленький рост и тщедушное сложение, он был стопроцентный мужчина. Наоборот, Алексеев, педант и чистюля, всегда наглухо застёгнутый, в неизменном пенсне, которое выполняло в его образе функцию швейцарского замка, жил с вечным ощущением своей греховности, поэтому природа его таланта была другой.
Рина Зелёная, которая хорошо знала заядлого преферансиста Хенкина, вспоминала: "У этих актёров в Москве были квартиры, мебель, они играли в преферанс и бывали очень удивлены, когда на афишах рядом с ними такими же крупными буквами появлялись вдруг наши имена. Хотя относились они к молодым актёрам с большой симпатией и интересом, принимая охотно в свою компанию, повторяя наши выдумки и остроты". Тогда было другое время, другая психология. На гастролях на юге ходили в горы пешком, даже на Ай-Петри. А маститые, такие, как Хенкин, Алексеев, Смирнов-Сокольский, Поль и другие, не ходили вообще, а играли целые дни в карты на пляже. Однажды кто-то из молодых актёров спросил Николая Плинера, острохарактерного комика:
– Николай Матвеевич, почему вы такой бледный? Вы совсем не загорели, а ведь театр уже целый месяц в Крыму!
Он печально ответил:
– А мне на солнце нельзя сидеть.
– Что у вас? Сердце?
– Нет. Карты. Карты на солнце просвечивают. Играть нельзя.
Случалось, играли и ночами, до самого рассвета.
Это были великолепные отголоски старого антрепризного театра, в котором ценился не интеллект актёра, а его умение играть в карты и пить водку, не хмелея. Карточный выигрыш иногда становился единственным шансом прокормиться, а проигрыш – последним толчком, чтобы снова попасть в кабалу к какому-нибудь жулику-антрепренёру. Наконец, карты являлись самым доступным досугом в актёрской среде.
В середине двадцатых годов "старорежимные боги" ещё умудрялись сохранять свои барские привычки. Сумбатов-Южин, человек из княжеского рода, актёр, драматург, руководитель Малого театра, был чем-то вроде мамонта. Луначарский водил смотреть на него зарубежных корреспондентов – он являл живой пример того, что старым специалистам при большевиках живётся не так уж плохо.
Исаак Дунаевский впитывал всё как губка: рассказы о былых розыгрышах, старых кумирах, новых кутилах и даже перебрасывался в преферанс со знаменитыми стариками. Он вошёл в ту команду легендарных преферансистов, куда входили Хенкин и блестящий комический актёр с короткой фамилией Поль. Постоянным партнёром по преферансу у Дунаевского на долгие годы стал его близкий друг блистательный конферансье Менделевич. Александр Абрамович Менделевич был на четырнадцать лет старше Исаака. В памяти старых товарищей Исаака Осиповича он остался вечно препирающимся с молодым композитором. Спор возникал моментально: то Исаак неправильно посчитал, то Менделевич не ту карту взял.






