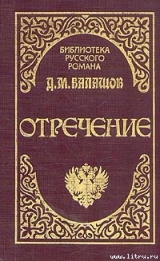
Текст книги "Отречение"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 56 страниц)
ГЛАВА 27
В Туле, куда добрались, совершенно вымотав коней, – ранняя весна, с распутицей, заливая дороги, шла по пятам – Михайлу встретил рязанский князь Олег.
Городишко, недавно еще татарское становище, где в жаркую пору лета отдыхала царица Тайдула (ее именем, в сокращении, и был назван город), начал уже превращаться понемногу в русский ремесленный посад.
Князья встретились радостно. Оба загодя уважали друг друга. Не имея общего порубежья, не имели они и порубежных обид, а сверх того, одинаково опасились растущей силы Москвы.
Встретились на дворе, верхами. Михайло тотчас оценил ладную посадку и мужескую стать Олега; Олег – видимые глазу выносливость и упорство тверского володетеля. Оба князя были в самой поре мужества, в расцвете телесных и духовных сил, оба имели трудные судьбы, тот и другой начинали едва ли не от самого истока, своими трудами добиваясь почета и власти, в отличие от их соперника, великого князя Дмитрия, которого «делали» до сих пор митрополит Алексий, Вельяминовы, Акинфичи, Кобылины, да и все прочие московские бояре. И теперь, сойдя с коней, сидя за столом в бедной горнице случайного степного, крытого соломою жила за неприхотливою трапезой, они уверялись в верности первого впечатления.
На столе была уха из мелкой костлявой речной рыбы, пшеничный, грубого помола, хлеб, каша из полусваренного проса и квас. Шел пост, и мясного, добравшись до своих, русичи избегали: не в татарах уже!
Князья ели молча и деловито – тот и другой после целодневной конской скачки были попросту голодны, – изредка поглядывая друг на друга с внимательным одобрением. Враз, одинаковым движением, отодвинули глиняные мисы, положив ложки поверх горбом – сыт!
Предстоял трудный переговор, ибо Олег уже сведал, что тверской князь скачет отвоевывать у москвичей великое княжение и ему надобна ежели не помочь, то хотя бы неучастие рязанского князя. Олег думал тяжело и сумрачно.
– Видишь, князь! – поднял он наконец на Михайлу тяжкий и властный взор (когда-то мальчишкой, захватив Лопасню, стыдился обожания окружающих; нынче и стать и взгляд выработались в нем повелительные, княжеские). – Я не могу идти на Дмитрия войною, ибо только что помогал ему против Ольгерда, и враг у нас общий – Литва! Но и на тебя, поскольку ярлык ты получил по закону, от хана, а не своею волею идешь на Москву… – Он приодержался, подумал, что следовало бы, быть может, пособить Михайле, как-никак отказавшемуся от Мамаевой помочи, то есть отказавшемуся наводить татар на Русь! Но честь, но данное слово, а слову своему Олег не изменял никогда, но стыд измены – ибо, помогая Михайле, он невольно переходит на Ольгердову сторону… Олег еще помрачнел, потряс головою, высказал наконец: – Но и на тебя, князь, меча не вздыну!
Михайло помолчал, трудноту Олега понимая сердцем (попросту поставил себя на место рязанского князя), не стал настаивать. Достаточно было и того обещания – не помогать Москве.
Договор скрепили грамотою. Олег снабдил Михаила свежими конями. На прощанье крепко обнялись. Что бы там ни было, а тот и другой чуяли неложное уважение друг к другу.
Путь Михаила теперь лежал по землям верховских княжеств, на Вязьму, на Зубцов, к верховьям Волги, в обход земель, подвластных Москве, где его караван могли задержать, не посчитавшись и с ярлыком, и с Мамаевым татарином, Сарыходжой, что ехал всаживать князя на стол владимирский.
Домой, в Тверь, Михаил возвратился десятого апреля. Для знатного татарина был устроен пир. Не обманывая себя нимало, Михайло тотчас распорядил собирать войска. Идти на Владимир, сажаться на великий стол без ратной силы нечего было и думать.
На Москве известие о возвращении тверского князя с ярлыком на великое княжение владимирское произвело переполох, схожий с потрясением земли.
Но вот тут и сказалось то, что отличает молодые, восстающие народы и цивилизации от старых, близящих к своему закату. Вместо печальной растерянности, нерешительных пересудов, опущенных рук, вместо подлого склонения перед силою обстоятельств, перед тем, что «от нас не зависит», вместо жидких речей – что, мол, мы можем содеять теперь? – вместо всего того, что мы, современные русичи, видим досыти друг в друге, не в силах и пальцем шевельнуть, когда на наших глазах губят реки, уродуют землю, вырубают леса, отравляют, жгут, пронизывают радиацией нашу землю, наши леса, наши пашни и пажити, самую основу нашей жизни, вместо всего этого тут (тогда!) и растерянность была деловая, скорая, гневная.
Дума собралась в тот же день. Взаимные нелюбия и попреки забыты тотчас. Споров, по существу, не было. О князе, что накануне ночью грыз зубами подушку, метался в гневе и ужасе, безуспешно утешаемый верною Дуней, кидаясь мыслью от одной крайности к другой: то – вести рати на Тверь, то – пасть в ноги Михайле, умолять невесть о чем, то посылать к патриарху в Царьград, то – к Ольгерду в Вильну, и тоже неведомо за чем, то
– к Мамаю скакать и там валяться в ногах, суля золотые и серебряные горы… – про князя, застывшего на своем резном креслице, бояре словно забыли и думать. Даже Алексий, чей престол стоял нынче чуть впереди княжеского, не мог вполне овладеть расходившеюся думой. Было одно: не пустить, не дать! Не допустить до Владимира, а для того – немедленно, нынче, теперь – собирать и двигать полки!
Василь Василич встал и повестил, что он уже выслал, не сожидая думы, конную дружину к Переяславлю и наказал собирать московское ополчение. Старик Дмитрий Александрович Зерно встал, повестив отдышливо и кратко, что по первой вести послал старших сыновей, Ивана Красного и Константина Шею, крепить Кострому. Дмитрий Михалыч Боброк, дождав своей очереди, тоже немногословно и дельно предложил разоставить сильные сторожи на главных путях. Бояре (все!) давали серебро и выставляли ратных. Большой полк было решено, совокупив его в четыре дня, во главе с самим великим князем Дмитрием, Владимиром Андреичем и воеводами двинуть к Переяславлю, где сходились главные пути и шла ближайшая, по Волжской Нерли, дорога от Твери к Владимиру.
Скорые гонцы наряжались в Ярославль, Галич, Городец, Нижний Ростов, Стародуб – ко всем князьям, так или иначе зависимым от великокняжеской власти. Предложения, одно другого дельнее, подавались всеми, дума на сей раз говорила «едиными усты», и уже Иван Вельяминов готовился скакать во Владимир, а Федор Свибло – в Ростов. Федор Кошка, бессменный посол ордынский, встал и сказал, что надобно снова скакать в Орду и выведать, нельзя ли перекупить ярлык у Мамая, что он это дело берет на себя, а главное, надобно подкупить, улестить, обадить, всеми силами уговорить, задаривши, ордынского посланца, Сарыходжу («Сарыхозю», – сказал Кошка), ибо, по его твердому разумению, в нынешней Орде власть зело некрепка, и серебром еще и не то содеять мочно! И тот совет был мудр и хорош. Но – все ждали, что скажет духовный глава и отец Руси Московской, старый митрополит (ныне уже весь посад не иначе называл владыку, как батькой – отцом града Москвы и всего Московского княжения).
Алексий сидел, опустив взор, сгорбясь. Он думал и понимал, что надобное сейчас к совершению от него, владыки Руси, опаснее во сто крат всех замыслов боярских, ибо, ежели сие не поможет, пошатнет сама церковь православная на Руси… И все же он должен, он не может теперь поступить иначе! И владыка подымает загоревшийся прежним темным пламенем взор, на сухо-пергаменном лице его глаза горят неистово-молодо:
– Поелику тверской князь не склонил слух к прещениям вселенского патриарха, я сам отлучаю князя Михаила Тверского от церкви! – говорит он.
– И нынче же велю повестить об этом по всем храмам Владимирской земли!
И это всё. Последнее. Больше ничего и не можно содеять. Князь Дмитрий сидит в креслице выпрямившись и окаменев. Он поведет рать! Быть может, против самого Мамая! Он еще не способен обнять умом всей силы и размаха свалившейся на него беды, но он уже на гребне волны, и его несет неостановимо совокупная воля москвичей, не желающих потерять власть, которую получили они, возведя своего князя на престол владимирский.
– Федор-от Кошка пущай погодит в Орду скакать! – раздумчиво подает голос Иван Мороз. – Ему с Сарыхозей ловчее всех сговорить, его и пошлем к татарину!
И это приняли безо споров. И Федор, сверкнув глазами, улыбнулся грузному сановитому Ивану Морозу, что сидел тяжело и плотно, расставив колени и уперев руки на толстую резную трость. И Иван Мороз ответил понимающей, с легкой лукавинкою улыбкой подбористому молодому Федору. И никто, ни один из бояринов, в тот час не подумал даже, что едва ли не впервые за полтораста лет дума великого князя открыто, едиными усты, не посчиталась с волею татарского царя. Менялась Русь! И уже изменилась настолько, что начинало высвечивать в грядущей близости лет недальнее теперь Куликово поле.
ГЛАВА 28
Нынче незнай как! Надо пашню готовить, навоз вывозить – без хозяина чего и сделают?! А тут – война! Поход. Эко! Онька ожесточенно скреб затылок. С трех дворов (благо, четвертого не поспели поставить) троих ратников подавай! Ну, старый Недаш второго сына посылает, Фрола. А от них… Ежели Коляню? Так ведь только-только сын народился, Ждан, а второму, Пашке, девятый годок всего! Старшие – одни девки. Отца убьют, матери и не выстать с има! Нельзя! Надоть самому идти! С Прохором. Прохорова жонка, Прося, сразу в рёв: сама на сносях, легко ли?! Да ить не Федюху же брать, сосунка! Али, може, Федюху? Прохор помолчал, подумал. Отстранив Федора, вызвался сам. Жену отвел в терем, строго выговорил ей. Затихла, подвывала тамо, но не в голос.
Князь Михайло с полками валил лесными дорогами мимо их, к Кашину, по пути добирая ратных. Вестоноша заехал и сюда.
Онисим поглядел на небо, на ельник, воздохнул. Снег уже весь, почитай, вытаял, что не обещало обильного лета. Яровое посохнет как пить дать! – думал он. – Опять липову кору придет толочь заместо хлеба! Мясов-то они достанут, мяса набьют, навялят, и соль нынче припасена! (Был и ржи амбарушек, дак то уж на каку последню беду! Того нонеча и трогать не нать!) Навоз возить! Самая пора бы! В руках аж зуд; как подумал, так и похотелось взять кованые, во Твери достанные железные вилы, ими-то и работать любота одна! Цепляешь пласт, дак с треском отдирашь, и ничо! А погнешь коли, зараз распрямить мочно! В любой зато, самый задубелый навоз идут! Не то что деревянной рогатиной: суешь, суешь, инда взопреешь да и ругнешь непутем!
Он еще воздохнул. Великим князем стал Михайло! Эко! А и то болтают: владыка Алексий проклял ево! Дык вот тут и чеши затылок!
Таньша подступила давеча, руки в боки, лицом красна, и тоже хайло непутем отворила: и сам-де сгибнешь, и сына сгубишь с собою, старый дурень! Вот-те и подарки ти, не надобны были! Прожили бы без даров княжеских!
Редко подымал голос Онька на жену, а тут не выдержал взъярел:
– Дура! Нешь я из подарков иду кровь проливать? Надоть князя свово защитить! Вон кака сила собралась! И вси, по твоему глупому разуму, ради какого платка там али рубахи головы класти идут?
– Ты – князя свово, московиты – тоже князя свово! Так и будете друг друга лупить?! Татар бы хошь зорили, что ли, вместях али Литву!
Дура дурой баба, а эко слово молвила! Вместях… Да на татар! И дани той, клятой гривны серебра, давать им не придет, коли одолеть Орду! Воздохнул еще раз Онька, пнул ногою ни в чем не повинного кобеля, крикнул сердито Федьке:
– Коляню созови! Живо! Да гляди, без нас навоз не вывезете – шкуру спущу с тебя первого!
Прохор шел от сарая необычно задумчив и хмур. Точил обе рогатины.
– Бронь бы! – высказал.
Онисим пожал плечами. Окромя топоров да рогатин иного оружия у них не было.
– Где же ее, бронь, возьмешь? Куплять – дак всего нашего хозяйства на одну бронь не хватит… А так… На рати с мертвого какого московита ежели только сволочить!
– Ты, батя, помнишь, сказывал нам, что тебя с дедушкою в Щелканово разоренье один московлянин спас? Ищо рогатину подарил, ту, стертую! Я ее нынче опять на подволоке нашел!
– Ага! – отмолвил Онисим. – Дак… Он-то, Федор, али Мишук Федоров, поди, давно уж и помер!
– Дак с дитями еговыми ратитьце придет! – возразил сын.
Онисим отемнел лицом, провел твердою рукою по задубелым морщинам лица.
– Все мы, Проша, родичи, братия во Христе, и вси православные! А, вишь, и они-то, московляне, зорили нашу землю в Щелканову рать… Един такой и выискался…
– Хошь и един… – не уступил Прохор. – Как гляну на енту рогатину… Не хотел бы я егового сына убить на рати!
Отец с сыном помолчали. О чем тут баять было!
– Коня которого возьмем? – вопросил Прохор.
– Поглянем давай! – предложил Онька, с облегчением уходя от тяжелого разговора. Оба отправились в стаю. Долго глядели, щупали, исчисляли достоинства каждого из двух жеребцов, и оба мужика старались лучшего, самого работящего оставить дома. Наконец порешили. Проверили сбрую и обруди.
– Телегу брать?! – с безнадежным сожалением вымолвил сын. Отец кивнул молча. Оглядели телегу.
– Навоз им придет волокушею возить! – заключил Прохор.
– Неуж я под навоз такую телегу отдам?! – невесть с чего разъярясь, выкрикнул Онька. Прохор смолчал, и гнев отца как возник, так и остыл. Проверив дорожную снасть, воротились в избу.
В горнице уже набилось – по всем лавкам. Жены, дочери, подростки, старшие с малышами на руках. Старуха Недашева (одна и была пока старуха на деревне!), сам Недаш, его сын, Недашево племя – одиннадцать душ, да Колянины дочери, да дети самого Онисима, да Прохорова Прося с округлившимся животом, держащая на коленях трехлетнего Якуню. Гомон, визг, писк! Тридцать душ деревенских, совокупясь воедино, провожают на войну троих своих мужиков.
Онисим сел во главе сдвинутых столов, тяжело оглядел застолье, поморщил нос – да куды денешь пискунов-то! – выговорил:
– Тебе, Недаш, и Коляне, вот! Старшими будете! По первости – навоз вывезти! И – враз начинай пахать! Не жди ни дня, ни часу. Лето сухо грядет! Зимовое-то простоит ищо, а яровое – не ведаю!
Недаш склонил голову, прокашлял, кивнул. На стол были поставлены мисы с кашею, квашеною капустой и кислым молоком, разложены аржаные пироги, блюдо сушеных окуней, на деревянных тарелях горками моченая брусница. Мужики бережно принимали из рук хозяйки, что уже не ругалась, но супилась, грузно вздыхая, точеные, резаные и плетенные из бересты чары с ячменным пивом. Прохорова и Фролова жонки заботно и горестно взглядывают на своих мужиков. Только Таньша небрежничает, не отошла с давешней ссоры. Говорят больше о погоде, о своих мужицких делах. Только изредка спросит кто-нибудь из молодших:
– Князь-от сам ведет ратных али боярин какой?
– Сам! – отвечает Онька, хотя доподлинно и не знает того. Но за князем, за «самим», как-то надежнее, крепче, а потому и себя и других убеждает Онька в том, что князь Михайло лично ведет полки. Его рука, корявая, в твердых, не размягчаемых даже в бане мозолях, рассеянно ерошит вихрастую голову Ванчуры, что прилез, приспособился под рукой у отца. Федюха ест молча, взглядывая с некоторой обидою на брата с батей. Тем в поход, а ему, эко, навоз возить! Но – молчит. Родителю, да еще такому, как Онька, не перечат.
Застолье расходится поздно. Онисим уже лежит на полатях, уже горница полна дыхания спящих, одна Таньша в скудном свете светца что-то там прибирает, скребет. Наконец тушит, сунув в воду, последнюю лучину, стягивает в темноте тесный ей праздничный сарафан, лезет, пыхтя, на печь. Онька уже засыпает, когда Таньша посовывается к нему и, тихо всхлипнув, как девочка, прижимается лицом к его груди.
– Прости, коли… – шепчет.
Он, без слова, обнимает ее, оглаживает ласково, отвечает шепотом, не разбудить бы кого:
– Ничо! Даст Бог, воротим живы и с прибытком! – И оба замирают. Князь, подаривший им некогда право жить, требует теперь ихних жизней для того, чтобы биться за вышнюю власть в русской земле.
Выехали в потемнях. Еще холодом дышало не прогревшееся с зимы частолесье, и дрожь пробирала. Сперва сидели на телеге, потом, когда колеса стали вязнуть в мягкой земле, Онисим решительно соскочил. Мужики последовали его примеру. Освобожденный конь пошел резвей. Еще раз мелькнул позади, над кустами, на зеленом светлеющем окоеме передрассветного неба темный человечий истукан: Таньша стояла одна у жердевых ворот, прогнавши невесток в избу, и вглядывалась из-под ладони, видя и не видя, в далекую чащобу ельника, откуда нет-нет да и долетал до нее пропадающий скрип тележных колес. Потом, на следующем повороте, промаячила одна кровля терема – всё! Больше не к чему глядеть назад…
Мешки с кормом и снастью подпрыгивали на корнях дерев и выбоинах пути. Насаженные загодя рогатины вытарчивали далеко за задок телеги. Мужики шли молча и разгонисто, а над ними, на легчающем, пепельно-голубом небе, разгоралась ясная золотая заря.
ГЛАВА 29
Лед уже сошел, и стало мочно возиться на ту сторону, но усланная наперед сторожа донесла, что московская великокняжеская рать стоит у Переяславля и что силы там нагнано что черна ворона, «в бронях вси», и Михаил не рискнул переправлять свои полки через Волгу. Усланные наперед киличеи с одним из Сарыхозиных татаринов привезли твердый ответ князя Дмитрия: «К ярлыку не еду, во Владимир, отчину свою, не пущу, а ханскому послу путь чист!»
Михаил глядел с седла на кованную из синей стали полосу волжской воды, по которой, пробиваясь наискось, отчаянно сносимые течением, шли с того берега сторожевые лодьи, и понимал, что ничего не сможет тут содеять и что возиться на тот берег в виду московских разъездов для него – почти верный разгром. Сарыходжа медленно подъехал ко князю. Сыто жмурясь, поглядел на весеннюю шалую воду, покачал головою, почмокал. Степной конь настороженно нюхал воду, поводил ушами. Татарин, сощурясь, вопросил князя русскою молвью:
– Чево твоя делай топэр?
Кровь бросилась в лицо Михаилу, безумный гнев заставил бешено забиться сердце. Он поднял коня вскок, прокричал, с оборота, татарину:
– Идем вперед!
Полки двинулись по прежней дороге, вдоль Волги, мимо Кашина, все круче забирая на север. Василий Кашинский выслал Михаилу кормы, явно с тем только, чтобы тверичи не пустошили Кашинской волости. Михайло яростно гнал все дальше ратников и ропщущих мужиков (надо было пахать, а война без сражений и грабежей не сулила никому ничего, кроме проторей), и так, миновав Углече Поле, дошел до Мологи, первого города Ярославской земли, столицы удельного Моложского княжества.
В Мологе бил всполошный колокол. Позавчера протопоп Никодим, срывая голос, выкрикивал с амвона слова владычного проклятия князю Михайле, а сегодня сам Михайло Александрович с полками пожаловал под город.
Из слобод валом валили беженцы. Вестоноши на запаленных конях принесли весть Федору Михалычу Моложскому, что рать валит великая, а с нею ордынский посол с «байсою» ведет тверского князя всаживать на владимирский стол.
На площади, сметая заборы, бушевало самозванное вече. Ремесленники, бабы, какие-то юродивые, монахи, купцы… Вопли; на возвышении, поделанном из бочек с положенной на них сорванною створой ворот, мятутся витии. Смерд с расхристанным воротом кричит, требуя, дабы князь выдал оружие и брони посадским и защищал город. Очередного краснобая стаскивают за ноги, на помост лезет купчина. Густо кроет Михайлу Тверского:
– Какой ён нам князь, когды владыка отверг! А токмо – одни мы не выстоим, други!
Оружия требуют, почитай, все, но в истерике воплей сквозит растерянность: ветхий тын по насыпу и низкие костры – город отчаянно не готов к обороне…
Князь Федор Михалыч, утративший всякую власть в городе, сидит у себя в тереме, толкует с боярином. Он мрачен. Ратных горсть, мужики покричат и разбегутся, а с Михайлой рать неисчислимая, и без помочи ярославских дружин ратиться с ним нечего и думать. Он прислушивается к крикам, долетающим сюда с площади, хмурит татарские густые брови, шепчет презрительно:
– Чернь!
Гонцы в Ярославль уже усланы, но разве они поспеют! Со смотрильной вышки, куда князь подымается спустя час, уже видно, как из-за дальних лесов выкатывает полк за полком, «валом валит» тверская рать. Он жует ус, думает, мрачно глядя туда, и все не может решить: выстоят или нет московиты? Хотя приучен годами (еще Калита учил!), что Москва растет неодолимо. Давно ли Митрия Костянтиныча, суздальского князя, сокрушили! И
– кабы не отлучение, наложенное владыкою, он бы еще и подумал, не предаться ли тверичам. Но… Покамест князь Михайло не во Владимире…
А всадники все ближе. Перед ними бегут, вливаются в городские ворота толпы слобожан; бабы волокут овец, детишек, скарб. Стоны, гомон… Повернув голову, он видит, как от вымолов торопливо отчаливают груженые лодьи. Купцы смекают по-своему: пока суть да дело, товар спасти от грабежа! Гневая, князь рычит на боярина:
– Кто разрешил?!
Тот разводит руками.
– Тамо такое ся творит! Не пробиться и на кони! Осатанели людишки!
Князь думает, сопит, потом тяжело спускается вниз, под ним стонут ступени. Требует ратную справу, бронь, коня. Он еще ничего не решил и решить не может. События катятся мимо него. Он ловит ухом набатные звоны, крики ярости и страха, растерянность города. Шепчет: «Нет, не выстоят!» Шагом, в сопровождении бирючей и дружины, едет, расталкивая народ, к воротам. Створы уже закрыты. Снаружи бьется и молит толпа не попавших в город. Близко-поблизку подскакивают тверичи, пускают стрелы в город через заборола. Князь оглядывает растерянную толпу, видит безлепицу и срам, тяжко дышит и поджимает губы. Вдруг велит:
– Отворяй!
Скрипят петли. Запоздавшие поселяне толпою врываются внутрь. Мычит и блеет скотина, визжат задавленные жонки. Князь брезгливо сторонится, пропуская бегущих. И – вот тот страшный миг, когда меж ним и «ими» никого. И там, оттуда, скачут вражеские всадники в шеломах и бронях (пусть и свои, русичи, но…). Он, решась, выезжает на мост, дружина, оробев, жмется у него за спиною. Он, поведя глазом, успокаивает ратников:
– Боя не примем! А у теремов, – велит побледневшему боярину, – житного двора и казны разоставь сторожу!
И боярин скачет, радостный, выполнять наказ.
Князь сопит, ждет. Вот тверичи ближе, ближе. По платью, по дорогой броне понимают, что перед ними хозяин города. Шагом, умеряя рысь, подъезжают вплоть. Он тоже не ведает, что творить, подумав, вкладывает саблю в ножны.
– Я – князь! – отвечает. – Повести Михайле Лексанычу! – И шагом едет (напряженные бирючи за ним) прямо на подскакивающих всадников. Ругаться? Грозить? Уряживать? Сам еще не ведает толком.
В Мологу, уговоренные князем Федором, тверичи вступать не стали. Войска остановили под городом. Михайло отдал наказ, запрещающий грабить и жечь дворы слобожан.
Моложский князь после часовой ругани урядил на том, что пока из Ярославля не воротились гонцы, а Михайло не вступил во Владимир, он как бы ни за кого. Меча не вздынет и кормы выдаст, просит только об одном: не предавать разору и грабежу его вотчину.
Сарыходжу отвели в город. Поместили в лучших, какие нашлись, боярских хоромах. Михайлу с воеводами и дружиной князь Федор принял у себя в тереме. Полки становились табором вокруг Мологи. Телегой крестьянской, набранной по пути, армии напоминали торг на городской площади. Кое-где зажигались костры. Бабы с поросятами под мышкой шмыгали мимо ратников в слободу, к своим покинутым хоромам. Тверичи варили кашу. Скоро по приказу моложского князя их начали разводить по дворам окологородья и посада. Лучше было так, чем допускать стоянье ратников в поле – все одно пограбят да и пожгут невзначай.
Троица залесских мужиков – Онисим с сыном Прошкою да Фролом Недашевым подошла к городу, уже когда первая сумятица давно окончилась. Недоверчиво оглядывая моложские стены, они таки выбрали по своему почину рогатины из воза ради всякого случая, плотнее натянули шапки и стали сожидать, поглядывая на полуприкрытые створы низких городских ворот, в толпе таких же, как и они, набранных дорогою ополченцев. Темнело. Кто-то проскакал в броне, крикнув повелительно:
– Не грабить!
Онька грабить и не собирался. Дико как-то казалось такое! И тут только оглядывал ряды коней, телег, мужиков в ратной справе с топорами и копьями. У многих-таки были шеломы, у двоих-троих – татарские луки. Редко где посверкивала бронь. Впрочем, иные везли брони с собою, упрятавши их в торока. Толпа не то что мирных, но еще и не подлинная рать, и Михайло, нимало не обманываясь, понимал, что с такими воинами много не навоюет. Чума унесла тысячи ратников, и выставить достаточное количество воинов для борьбы с Москвою он не мог. Вся надежда была на татарина, который, однако, с каждым днем все больше чванился и проявлял нетерпение, не желая понимать, почему Михаил не переправляется на ту сторону Волги и не идет прямиком к Владимиру.
В то время, когда он сидел за вечернею трапезою в тереме, ублажая Сарыходжу и доругиваясь с моложским князем, трое загорян на площади у костра слушали в толпе таких же, как они, новиков рассказы бывалого ратника о летошнем походе на Москву, о том, сколь добра, скотины, лопоти было взято. Удивлялись, завидовали, поглядывая на притихшие очерки бревенчатых слободских хором, там, в темноте, за кругом огня, молчаливых, настороженных. И все же непонятно было: как это так? Взойти, и – что? Взойти, дак поздравствовать надобно, на икону перекреститься, а потом – чего? Волочить добро? После уж иконы-то как-то и в стыд такое!
– Дак, чево! Заходишь – двери настежь, хозяйка – в рев, а ты и в глаза не глядя… А уж с бою, дак озвереешь сам!
– Ну, как я – мужик… – не выдержал один из ратных, перебивая рассказчика. – Ну, как я, скажем… Котел мне надобен… Как я у ево, у такого же мужика, буду котел выламывать хошь из печи? Да и с оружием… Я тут копье отложил, ён меня и ткни, и будет прав!
– Дак поодинке редко кто ходит! – возражал ратник. – Девку там завалить… Визжит! Без дружка тут и не совладашь! – Он нехорошо осклабился, хохотнул. – А боле на страх берешь, уставил рогатину: «Запалю!» Ну, тут, почитай, сами волочат: ослобони только от огненной беды!
Онька молчал. Когда Прохор хотел что-то вопросить, сильно дернул его сзади за рубаху. В ближнюю клеть, хоть и созывали их, загоряна не пошли: не ровен час, коня сведут! Легли спать в телегу, раздвинув мешки. Укрылись зипунами. Ночь была теплая, хоть от земли, еще не прогретой, и сквозило холодом.
– Ратник-то, вишь… девок! – дивуя, полуодобрительно вымолвил Прохор. Фрол фыркнул:
– Поди, врет!
– Вота, парни! – сурово вымолвил Онька. – Подумай так, а ежели б твою сестру, или хоть нашу Мотрю, али Калянину Надюху с Оленкой такой вот завалил?
– Ну, я бы не дал! – решительно отозвался Прохор, ерзая на сене, уминая погодней.
– А рать подошла?! Вота и понимай! – строго отмолвил отец. – Лишнего горя не нать! Хошь и вороги, а – свои. Да и те-то, помыслить ежели, татары там, фряги, – у кажного свой толк, коли мирны, дак и зла никоторого нет!
– Ну, а ратитьце придут?! – вопросил Прохор звонко, глядя в звездное небо над головой. С соседних телег, от костра, уже доносило храп прикорнувших мужиков.
– Не ведаю! – отозвался Онька, подумав. – Лося бил, вепрей, медведя брал на рогатину. Смекаю, и ворога комонного снял бы с коня… А грабить? Хошь и на бою… Ну, с мертвого снять справу, ино дело! А чтобы в избу, да на глазах у хозяев добро ворошить – не возмог бы того! И тебе, сын, того не велю…
– Знамо дело… – отозвался Прохор, подумав.
Фрол уже спал. Помыслив еще, повздыхав, отец с сыном, теснее прижавшись друг к другу, тоже заснули. Уже под утро – зипун был весь в росе, и площадь окутал белый туман – Онька, вздрогнув, проснулся с жутким испугом. Показалось, что свели коня. Вскинулся очумело, спросонь, озирая возы, ратных, тлеющие головешки костров, дремлющую сторожу… Конь был цел, хрупал овсом и глянул на хозяина большим преданным глазом: не боись, мол, я здесь! Онька улыбнулся коню и заснул опять.




![Книга Предыстория [СИ] автора Екатерина Тюрина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)



